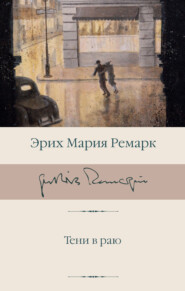
Полная версия:
Тени в раю
– Что бы это дало, Бетти?
– Нет, честное слово, иной раз я сама готова стать антисемиткой! Вечно это всепрощение! Думаете, нацист на вашем месте поступил бы так же? Да он бы забил этого мошенника до смерти!
Кан смотрел на Бетти хоть и с нежностью, но явно забавляясь: в своих фиолетовых рюшах та выглядела сейчас как сердитый, расхорохорившийся попугай.
– Ты у нас последняя маккавейка, душа моя!
– Нечего смеяться! Ты-то хотя бы давал прикурить этим подонкам. Ты меня поймешь. Иной раз меня просто распирает от злости. Вечно это смирение! Вечно эта готовность безропотно принять что угодно! – Бетти перевела гневный взгляд на меня. – Ну, а вы что скажете? Тоже готовы все проглотить?
Я промолчал. Что тут ответишь? Бетти передернула плечами, словно сама над собой усмехаясь, и перешла к другой группе гостей.
Кто-то завел граммофон. По комнате поплыл голос Рихарда Таубера. Он пел арию из «Страны улыбок».
– Ну, сейчас начнется вечер воспоминаний и тоски по Курфюрстендамм, – проронил Кан. И повернулся к Грэфенхайму.
– Где вы сейчас живете?
– В Филадельфии. Бывший коллега меня приютил. Может, вы его знаете: его фамилия Равич.
– Равич? Из Парижа? Еще бы мне его не знать! Так он, оказывается, тоже выбрался? Что он поделывает?
– То же, что я. Только относится к этому легче. В Париже сдать экзамен было и вовсе невозможно. А здесь это допустимо, и он считает, это прогресс. Мне бы его оптимизм. Но я, к сожалению, говорю только на проклятом родном наречии, ну и еще на латыни и греческом, причем даже бегло. Куда с этим подашься?
– Почему бы вам просто не переждать, покуда все кончится? Германии эту войну не выиграть, уж теперь-то каждому ясно. И тогда вы вернетесь.
Грэфенхайм задумчиво покачал головой:
– Возможность вернуться – это последнее, на что можно надеяться. Это иллюзия, которая только сломит нас.
– Но почему? Если с нацистами будет покончено?
– С немцами, возможно, и будет покончено. Но не с нацистами. Нацисты ведь не с Марса свалились этакими насильниками, чтобы обесчестить нашу добродетельную Германию. В подобные сказки еще, может, верят те, кто покинул родину сразу, в тридцать третьем. А я еще годами там оставался. И слышал по радио зверский рев этих толп и кровожадные крикливые речи на их собраниях. И это была уже не только их партия. Это была вся Германия. – Грэфенхайм прислушался к граммофону, воодушевленно распевающему «Берлин остается Берлином» голосами певцов, которые с тех пор успели очутиться либо в концлагерях, либо в эмиграции. Бетти Штайн и кое-кто из гостей тоже слушали – кто зачарованно и с упоением, кто с горькой усмешкой.
– Они там вовсе нас не ждут. Никто. И никого.
* * *Я возвращался к себе в гостиницу. Вечер у Бетти настроил меня на меланхолический лад. Я все думал о Грэфенхайме, который пытается построить здесь жизнь заново. Чего ради? В Германии у него оставалась жена. Она не еврейка. Пять лет она сопротивлялась давлению гестапо и не соглашалась на развод. За эти пять лет она из цветущей женщины превратилась в истеричку и развалину. Регулярно, раз в две-три недели, Грэфенхайма таскали на допросы. Каждое утро, спозаранку, с четырех до семи, они с женой тряслись от страха – именно в это время за ним приезжали. Сам допрос нередко начинался лишь на следующий день, а то и через несколько суток. На это время Грэфенхайма определяли в камеру, где, томясь смертным страхом неизвестности, уже сидели другие евреи, обливаясь холодным потом в ожидании своей участи. Эти жуткие часы сплотили их в довольно странное тюремное братство. Они хоть и перешептывались, но друг друга не слышали. Слух их обращен был только наружу, за дверь камеры – не раздадутся ли там роковые шаги. В этом братстве своем, мнилось им, они даже помогают друг другу – и советом, и тем немногим, что имеют при себе, – но в то же время каждый питал к каждому мучительную смесь симпатии и неприязни, словно им, на всех скопом, выделена какая-то одна, заведомо недостаточная порция спасительной свободы и каждый, вышедший на волю, таким образом, неизбежно обкрадывает остающихся. Время от времени конвоиры, двадцатилетние молодчики, этот цвет немецкой нации, выволакивали из камеры, подгоняя пинками, побоями, руганью и полагая, очевидно, подобное обращение совершенно необходимым, очередного арестанта, какого-нибудь немощного старика-сердечника, и уводили тюремным коридором. После этого в камере надолго воцарялось молчание.
Потом, зачастую много часов спустя, когда в камеру швыряли окровавленный куль человеческой плоти, все неистово и молча принимались за работу. Грэфенхайму уже столько раз доводилось это делать, что теперь, когда за ним приезжали, он успевал шепотом попросить плачущую жену сунуть ему в карман пару лишних носовых платков: пригодятся для перевязки. Брать с собой бинты он не решался. И так-то перевязка арестанта в камере требовала немалого мужества. Случалось, что людей, попадавшихся на этом, забивали до смерти – за непослушание. Грэфенхайм вспоминал, в каком виде доставляли в камеру этих несчастных. На них живого места не было, они пошелохнуться не могли, но некоторые, сохраняя последние остатки мысли в горячечным блеске глаз на расквашенном лице, осипшим от воплей голосом шептали: «Повезло! Не забрали!» «Забрали» – это означало бы бросили в подвал подыхать мучительной смертью от постоянных избиений или отправили в концлагерь, где тебя либо запытают до смерти, либо загонят, как зайца, на колючую проволоку с электрическим током.
Вот и Грэфенхайма пока что «не забрали». Свою частную практику ему давно уже пришлось уступить другому врачу. Тот предложил ему за нее тридцать тысяч марок, а уплатил в итоге тысячу – притом, что стоила она все триста тысяч. Просто как-то раз некий унтер-штурмфюрер, родственник того самого врача, заявился к Грэфенхайму незваным гостем и поставил хозяина перед выбором: либо отправляться в концлагерь за незаконное оказание медицинских услуг, либо взять тысячу марок и выдать расписку в получении тридцати тысяч. И Грэфенхайм мгновенно уяснил, что надо делать. И то сказать – жена его была уже почти на грани безумия. Но все еще отказывалась с ним разводиться. Внушила себе, что тем самым спасает его, Грэфенхайма, от концлагеря. А на развод соглашалась, только если Грэфенхайму дадут разрешение на выезд из страны. Она должна быть совершенно уверена в полной его безопасности. И тут Грэфенхайму нежданно улыбнулась удача. Тот самый унтерштурмфюрер, который тем временем успел стать оберштурмфюрером, вдруг снова к нему заявился, теперь и вовсе среди ночи. Был он в штатском, несколько смущен и только слегка помявшись изложил причину визита: его подружке надо сделать аборт. А он женат, и супруге его глубоко наплевать на доктрину национал-социализма, согласно которой детей надо иметь как можно больше, пусть даже от нескольких «наследственных корней» – главное, чтобы все корни были чистокровными. Она почему-то считала, что ее собственного наследственного корня вполне достаточно. Грэфенхайм отказался. Заподозрил ловушку. Однако, не желая злить незваного гостя, он осторожно заметил, что его преемник ведь тоже врач; не лучше ли господину оберштурмфюреру обратиться к нему: как-никак, это его родственник, и к тому же, – тактично намекнул Грэфенхайм, – многим ему обязан. Все это оберштурмфюрер одним махом отмел.
– Отказывается, сучий потрох, – прорычал он. – Я только заикнулся, причем совсем издалека зашел, – так он, гнида, мне целую речь толканул, будто мы на партийном собрании, про наследственное достояние нации, генетический фонд и всю эту дребедень! Вот она, благодарность! А я-то ему как помог с его практикой! – Грэфенхайм тщетно пытался уловить хоть искорку иронии в глазах упитанного оберштурмфюрера. – С вами другое дело, – продолжал тот. – С вами-то уж точно все будет шито-крыто. А шурин, падла, если что, молчать не станет, да ему и проболтаться недолго. Или, чего доброго, меня же еще и шантажировать будет всю жизнь.
– Вы тоже сможете его шантажировать, ведь это незаконное хирургическое вмешательство, – робко возразил Грэфенхайм.
– Я простой солдат, – отмахнулся оберштурмфюрер. – И во всех этих закавыках ничего не смыслю. С вами, голуба, все куда проще. Мы друг друга не обидим. Вам запрещено практиковать, мне запрещено хлопотать об аборте, значит, рискуем оба. Девчонка придет к вам ночью, а утром отправится домой. Лады?
– Ну уж нет! – раздался вдруг голос жены Грэфенхайма. Все это время она, вне себя от страха, подслушивала под дверью. Теперь, словно оживший призрак, она возникла в дверях, придерживаясь за косяк. – Грэфенхайм вскочил. – Не вмешивайся! – приказала она. – Я все слышала. Ты на это не пойдешь! Пока не получишь разрешение на выезд! Это цена. Устройте разрешение, – бросила она, теперь уже оберштурмфюреру.
Тот принялся объяснять, что это даже не по его ведомству. Она ничего не желала слушать. Он попытался уйти – она пригрозила, что обо всем донесет его начальству. – Да кто ей поверит? Это ж слово против слова. – Может, и не поверят, но проверят. – Он пробовал отделаться обещаниями. Она оставалась непреклонна. Сперва разрешение, потом аборт.
И случилось почти чудо. В неисповедимых лабиринтах живодерской нацистской бюрократии встречались иногда такие вот островки удачи. Девица пришла к Грэфенхайму примерно недели через две, ночью. Когда все было позади, оберштурмфюрер признался Грэфенхайму, что имеется еще одна причина, по которой он обратился именно к нему: врачу-еврею он доверяет куда больше, чем своему долдону шурину. Опасаясь подвоха, Грэфенхайм до последней минуты оставался начеку. Оберштурмфюрер стал давать ему деньги – двести марок. Грэфенхайм не брал. Тогда он попросту сунул купюры Грэфенхайму в карман: «Берите-берите, голуба, они вам еще пригодятся». Видно, девчонку он и вправду любил. Грэфенхайм до такой степени боялся сглазить свою удачу, что даже не попрощался с женой. Надеялся перехитрить судьбу. Мол, если попрощаюсь, на границе точно завернут. Но его пропустили. И вот теперь, мыкаясь в Филадельфии, он не мог простить себе, что не поцеловал жену на прощание. Мысль об этом мучила его неотступно. О жене он больше ничего не слышал. Да вряд ли и можно было услышать, ведь вскоре разразилась война.
* * *У парадного под вывеской «Рубен» стоял «роллс-ройс» с наемным водителем. Шикарный лимузин смотрелся здесь, как золотой слиток в грязной пепельнице.
– Вот вам подходящий спутник, – услышал я голос Меликова из плюшевого закутка. – У меня, к сожалению, совсем времени нет.
В закутке, в самом углу, я узрел Наташу Петрову.
– Уж не ваш ли этот «роллс-ройс» у подъезда? – спросил я.
– Напрокат, – бросила она. – Как и наряды, в которых мне сегодня сниматься, как и драгоценности. На мне ничего своего, все заемное.
– Но голос-то ваш, неподдельный. Да и «роллс-ройс» настоящий.
– Настоящий. Но это все не мое. Словом, вещи у меня подлинные, но сама я фальшивка. Так лучше?
– Во всяком случае, гораздо опаснее, – рассудил я.
– Ей нужен кавалер, – начал объяснять Меликов. – «Роллс-ройс» ей предоставлен только на сегодняшний вечер. Завтра надо его вернуть. Не желаешь ли провести вечерок этаким аферистом-самозванцем, да еще колеся в шикарном авто?
Я рассмеялся:
– Последние годы я только этим и занимаюсь. Правда, без авто. Это будет что-то новенькое.
– Нам и шофера предоставляют, – сообщила Наташа. – И даже в униформе. Англичанин.
– Мне надо переодеться?
– Разумеется, нет. Вы на меня взгляните!
Переодеться, кстати, мне было бы весьма затруднительно. У меня всего два костюма, и лучший как раз на мне.
– Так вы поедете? – спросила Наташа Петрова.
– С удовольствием!
Ничего лучше и придумать нельзя – лишь бы избавиться от мрачных мыслей о Грэфенхайме.
– Похоже, у меня сегодня удачный день, – заметил я. – Я себе устроил трехдневный отпуск, но столь приятных сюрпризов, честно говоря, не ожидал.
– Вы можете устраивать себе отпуск? Я вот не могу.
– Да и я не могу, просто перехожу на новое место. Через три дня начинаю работать у одного торговца живописью: морочить клиентов, окантовывать и доставлять картины, вообще быть мальчиком на побегушках.
– И продавать тоже?
– Боже упаси. Это вотчина господина Сильверса.
Она окинула меня изучающим взглядом.
– А почему бы вам, собственно, не продавать?
– Я в этом мало что смыслю.
– Так и не надо смыслить. По крайней мере в том, что продаешь. Тогда гораздо лучше работается. Если не знаешь недостатков товара, свободней себя чувствуешь.
Я рассмеялся:
– Откуда у вас такие познания?
– А мне иногда приходится продавать. Платья, шляпки. – Она снова пристально на меня глянула. – И мне причитаются комиссионные. Вам тоже надо это оговорить.
– Да я вообще пока не знаю, что мне поручат. Может, полы мести да подавать гостям кофе. Или коктейли.
Мерно покачиваясь, мы плыли по улицам; впереди, обтянутая вельветом, маячила могучая спина шофера в бежевой фуражке. В панели красного дерева Наташа нажала какую-то кнопку, и из спинки переднего сиденья, раскладываясь на ходу, медленно выехал небольшой столик.
– Коктейли, – повторила Наташа и протянула руку куда-то под столик, где образовалась барная ниша с бутылками и бокалами. – Уже холодные, – объявила она. – Последнее слово техники – маленький встроенный холодильник. Что желаете? Водку, виски, минеральную воду? Водку, не так ли?
– Разумеется. – Я глянул на бутылку. – Да это настоящая русская водка! Как, откуда?
– Напиток богов! Нектар высочайшей пробы! Одно из немногих отрадных последствий войны. Человек, которому принадлежит этот лимузин, каким-то боком связан с внешней политикой. И часто бывает то в России, то в Вашингтоне. – Она хихикнула. – Об остальном предпочитаю не расспрашивать, давайте лучше насладимся. Мне разрешено.
– Но не мне.
– Человек, предоставивший мне эту машину, знает, что я буду кататься не одна.
Водка и впрямь была выше всяких похвал. Все, что мне доводилось пить прежде, по сравнению с ней казалось слишком резким и отдавало спиртом.
– Еще по одной? – спросила Наташа.
– Почему бы и нет? Как я погляжу, завидная у меня теперь участь: от войны мне сплошные выгоды. В Америку впустили, потому что война; работу нашел, потому что война; а теперь вот и русскую водку пью, потому что война. Хочешь не хочешь, получается, что я прихлебатель, жирую на войне.
Наташа Петрова озорно блеснула глазами.
– Так почему бы вам не захотеть? Так гораздо приятней.
Мы ехали по Пятой авеню вдоль Центрального парка.
– А тут начинаются ваши угодья, – проронила Наташа.
Немного погодя мы свернули на восемьдесят шестую улицу. Вроде бы широкая, вполне американская улица, она, однако, сразу напомнила мне улочки в небольших немецких городишках. Мимо проплывали кондитерские, пивные, киоски-закусочные.
– И что, здесь все еще говорят по-немецки?
– Сколько угодно. Американцы великодушны. Никого не сажают. Не то, что немцы.
– И не то, что русские, – возразил я.
Наташа усмехнулась.
– Хотя нет, американцы тоже сажают, – сказала она. – Японцев, которые тут живут.
– Как и французов, и вообще эмигрантов, которые жили за океаном.
– Получается, везде сажают не тех, кого надо, так, что ли?
– Очень даже может быть. Во всяком случае, нацисты, что живут на этой улице, пока на свободе. Нельзя ли нам поехать куда-нибудь в другое место?
Она смотрела на меня молча. Потом задумчиво произнесла:
– Обычно я не такая. Но что-то в вас меня раздражает.
– Какое совпадение. Меня в вас тоже.
Она пропустила мой ответ мимо ушей.
– Какое-то непрошибаемое самодовольство, – продолжала она. – До того непрошибаемое, что до вас не достучаться. И меня это бесит. Понимаете?
– Безусловно. Меня и самого в себе это бесит. Но к чему вы все это мне говорите?
– Чтобы вас побесить, – сказала она. – Зачем же еще? А я? Что вас раздражает во мне?
– Да ничего, – рассмеялся я.
Она насупилась. Я тут же пожалел о сказанном, но было поздно.
– Немчура проклятый, – поцедила она. Лицо ее побелело, она больше не смотрела на меня.
– К вашему сведению, Германия лишила меня гражданства, – сообщил я ей и тут же на самого себя за это разозлился.
– Неудивительно! – Наташа Петрова постучала в стекло над передним сиденьем. – В гостиницу «Рубен», пожалуйста, – распорядилась она.
– Простите, мадам, на какой это улице? – осведомился шофер.
– Это там же, откуда мы приехали.
– Как прикажете.
– Не нужно меня отвозить, – сказал я. – Могу и здесь сойти. Автобусы ходят, прекрасно доберусь.
– Как вам угодно. Вы же здесь как дома.
– Остановите, пожалуйста, – обратился я к шоферу. – Премного благодарю, – сказал я Наташе и вышел. Она не ответила.
Я стоял на Восемьдесят шестой улице в Нью-Йорке, уставившись на кафе «Гинденбург», откуда гремел духовой оркестр. В окне кафе «Гайгер» пухлым кольцом был выложен до боли знакомый мраморный кекс. Рядом в витрине мясной лавки висели кровяные колбасы. И вокруг сплошь немецкие звуки. Все эти годы я так часто воображал себе, до чего радостно будет однажды вернуться домой, но я и думать не думал, что вот таким может оказаться мое возвращение.
IX
Работа моя у Сильверса поначалу свелась к составлению каталога всего, что им прежде продано, причем к каждой картине имелась фотография, на обороте которой надо было делать запись о происхождении вещи.
– Со старыми полотнами главная трудность – это установление провенанса, то есть истории владений, – объяснял Сильверс. – Картины – они как аристократы, их родословная должна быть прослежена вплоть до самого истока, до их создателя. И разрывы тут недопустимы – только непрерывная линия, от церкви «икс» до кардинала «игрек», от собрания князя «зет» до каучукового магната Рабиновича или автомобильного короля Форда.
– Но ведь известна же сама картина…
– Известна-то известна, однако фотография по-настоящему вошла в обиход только в конце девятнадцатого века. А гравюры, чтобы можно было свериться, изготовлялись совсем не со всех старых полотен. Так что зачастую приходится полагаться лишь на чутье. Да еще, – добавил он с поистине дьявольской усмешкой, – на искусствоведов.
Я придвинул к себе горку фотографий. Сверху оказались цветные снимки работы Мане: натюрморт небольшого формата, пионы в стакане воды. Казалось, и цветы, и даже воду можно потрогать. Дивный покой исходил от них, но и живительная сила – словно художник сам, впервые, сотворил эти цветы, а до него их и на свете не было.
– Нравятся? – спросил Сильверс.
– Они великолепны.
– Лучше, чем вон те «Розы» Ренуара на стене?
– Они же совсем другие, – опешил я. – Лучше, хуже – как тут можно сравнивать?
– Можно. Если торгуешь искусством – можно.
– У Мане это миг сотворения, у Ренуара – апофеоз цветущей жизни.
Сильверс чуть склонил голову набок.
– Неплохо. Вы, часом, писателем не были?
– Всего-навсего заурядным журналистом.
– Кажется, у вас есть жилка. Вы могли бы писать о картинах.
– Ну нет, я слишком мало в этом смыслю.
Сильверс снова нацепил свою дьявольскую усмешку.
– Вы полагаете, люди, которые пишут о живописи, смыслят больше? Открою вам один секрет. О картинах писать нельзя. И вообще об искусстве. Все, что об этом пишется, – всего лишь толчение банальностей в ступе для невежд. Об искусстве писать нельзя. Его можно только чувствовать.
Я не стал возражать.
– И продавать, – добавил Сильверс. – Вы ведь это подумали, верно?
– Вовсе нет, – ответил я, даже не покривив душой. – Но почему тогда вы говорите, что у меня жилка и я мог бы писать о картинах? Если писать о них вообще нельзя?
– Ну, может, это все-таки лучше, чем быть заурядным журналистом?
– А может и нет. Может, лучше быть честным журналистом, а не высокопарным пустомелей, распинающимся об искусстве.
Сильверс рассмеялся.
– Вы типичный европеец: мыслите крайностями. Или это по молодости? Хотя не так уж вы молоды. А ведь между двумя вашими крайностями – еще множество промежуточных вариантов и тысячи оттенков. Да и исходная предпосылка у вас неверна. Смотрите сами: я хотел стать художником. И даже был им. Со всем рвением и вдохновением заурядного художника. Теперь я торговец искусством. Со всем цинизмом, присущим этому ремеслу. И что это изменило? Предал ли я искусство, перестав писать плохие картины? Предаю ли теперь, торгуя живописью?
Сильверс предложил мне сигару.
– Послеполуденные размышления в Нью-Йорке, – хмыкнул он. – Попробуйте-ка лучше эту сигару. Это легчайшая из всех гаванских. Вы вообще сигары любите?
– Да я как-то не задумывался. Курю, что придется.
– Счастливчик!
Я удивленно вскинул глаза.
– Это что-то новенькое. Вот уж не знал, что это и есть счастье.
– У вас еще все впереди: возможности, их выбор, наслаждение, пресыщение. Под конец только пресыщение и остается. А чем глубже снизу начнешь, тем дольше путь до конечной точки.
– По-вашему, начинать надо варваром?
– Если посчастливилось, да…
Я вдруг разозлился. Уж что-что, а на варваров я насмотрелся. Подобная салонная дребедень, возможно, хороша для других времен, а мне сейчас ни к чему. Весь этот эстетский треп не для меня, даже за восемь долларов в день. Я кивнул на фотографии.
– С этими-то вещами атрибуция, вероятно, не так сложна, как со старыми мастерами? – спросил я. – Как-никак, разница в несколько столетий. Дега и Ренуар чуть ли не до первой мировой работали, а Ренуар и того дольше прожил.
– Тем не менее и под них уже много подделок.
– Выходит, безупречный провенанс – единственная гарантия?
Сильверс усмехнулся.
– Да. Ну и еще чутье. Нужно помнить сотни полотен. Смотреть их снова и снова. И так многие годы. Смотреть, изучать, сравнивать. И снова смотреть.
– Звучит красиво, – сказал я. – Но как же тогда выходит, что многие директора музеев обмишуриваются в экспертизах?
– Ну, некоторые обмишуриваются намеренно. Правда, об этом быстро узнают: земля слухом полнится. Другие просто ошибаются. Почему? Тут надо понимать разницу между директором музея и частным торговцем. Директор музея приобретает вещи изредка – и платит не из своего кармана, а из бюджета музея. Торговец покупает чаще – но за свои. Согласитесь, это существенная разница. Ошибется торговец – он потеряет свои деньги. А директор музея из своего жалованья не потеряет ни гроша. Его интерес к картине – сугубо академический, а у частного торговца – финансовый. И уж он-то смотрит во все глаза: он рискует больше.
Я молча поглядывал на этого превосходно одетого господина. Костюмы и ботинки у него из Лондона, сорочки – по последней парижской моде. Холеный, ухоженный, так и благоухает французским одеколоном. Я наблюдал за ним – но как будто сквозь стекло, слышал его – но как будто сквозь вату. Казалось, он живет в каком-то совсем ином мире, мире – уж в этом-то я не сомневался – головорезов и разбойников, однако разбойников элегантных и на вид почти не опасных. И слова вроде бы говорит правильные – а все равно что-то в них не то. Во всем ощутим какой-то жутковатый, едва заметный подвох. Хоть и держится он вальяжно, с этакой неброской надменностью, а чувство такое, будто в любую секунду способен обернуться барыгой, который, если что, не задумываясь пойдет по трупам. И весь мир его какой-то дутый. Сплошь мыльные пузыри напыщенных фраз, якобы выдающих в нем искушенного ценителя, хотя искушен он лишь по части цен; истинный любитель искусства, я так считаю, искусством не торгует.
Сильверс взглянул на часы.
– Давайте закончим на сегодня. Мне в клуб пора.
Насчет клуба я ничуть не удивился. В том призрачном, застекольно-тепличном мире, где он обитает, клубу самое место.
– Что ж, мы сработаемся, – заключил он, привычно оглаживая стрелки на брюках. Я мельком глянул на его ботинки. Все в его туалете было самую малость чересчур. Носы ботинок чуть острее да и чуть светлее, чем нужно. Чуть заметнее рубчик костюмной ткани, чуть ярче галстук, и сразу видно, что несусветно дорогой. Сильверс между тем присматривался к моему внешнему виду.
– Для нашего нью-йоркского лета костюм у вас не слишком плотный?
– Будет жарко – пиджак сниму.
– Только не здесь. Купите себе летний костюм. В Америке отличные магазины готового платья. Даже миллионеры почти не шьют здесь на заказ. Загляните в «Брукс Бразерс». Ну или, если хотите подешевле, в «Браунинг энд Кинг». Там долларов за шестьдесят вполне можно купить что-то приличное.
Он извлек из кармана пиджака пачку купюр. Я уже и раньше успел заметить, что он обходится без бумажника.
– Вот, – он протянул мне сотенную. – Считайте, что это аванс.
* * *Эта сотенная просто жгла мне карман. Я еще вполне успевал в «Браунинг энд Кинг». Бредя по Пятой авеню, я славил Сильверса в безмолвной молитве. Конечно, велик соблазн денежки попридержать и донашивать старый костюм, но это исключено. Рано или поздно Сильверс все равно спросит. А я после всех его лекций о живописи как о наилучшей инвестиции сегодня, даже не приобретя ни одного Мане, свое состояние, можно считать, удвоил.



