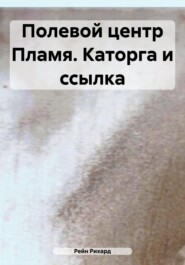скачать книгу бесплатно
Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка
Рихард Петрович Рейн
Алексеев Олег Иванович
Книга написана активным участником Первой русской революции – революции 1905 года в России. События первой части, касаются именно революционных событий, то есть попытки свержения существующей власти на задворках Великой российской империи – в Латвии. Небольшая группа революционеров, захватывает на непродолжительное время власть в небольшом городке Руен и его окрестностях. Во второй части, после подавления мятежа, герой повествования попадает на каторгу, а отбыв там половину своего срока, в ссылку, в далёкую сибирскую деревню. Книга эта, возможно, будет интересна тем, кто увлекается историей России, интересна тем, что автор точно не приукрашивая и не принижая описывает события и быт вековой давности, условия содержания на царской каторги и в ссылке.
Предисловие
Писать воспоминания о восстании 1905 года и последующих реакционных годах или хотя бы об отдельных моментах этого движения, не имея под рукой соответствующих необходимых справок, писать спустя двадцать лет, является делом чрезмерно тяжелым; тем не менее я решил, насколько позволяет память, об этом написать.
Поступить так побудило меня то обстоятельство, что, разыскивая в продолжение более двух лет по всем архивам дело свое и моих сопроцессников, я убедился, что это чрезвычайно трудно, ибо оказывается, что дела бывшей Шлиссельбургской каторги, Бутырок и бывшего тюремного управления сожжены, и если что-либо где и имеется, то никакими усилиями ничего не найдешь.
В результате всех поисков и переписки мне посчастливилось недавно через Латсекцию Коминтерна раздобыть копию заключения бывшего военно-прокурорского надзора петербургского военно-окружного суда по делу о вооруженном восстании в посаде Руен и его окрестностях в 1905 году и, кроме того, из Латвии—фотографический снимок одного из моментов этого восстания. Имея эту копию в качестве материала для частичного хотя бы описания восстания 1905 г., я думаю, что мои беглые воспоминания об этом восстании окажутся не бесполезными для молодого поколения, а, может-быть, даже и для историка, и поэтому, я надеюсь, что читатель мне простит возможные и невольно допущенные в этих воспоминаниях погрешности.
Полевой центр пламя
Посвящается смене—комсомольцам и пионерам.
Это случилось тогда, когда, по статистическим сведениям, Лифляндской и Курляндской промышленных инспекций, в Лифляндии промышленных предприятий насчитывалось 372, где было занято 60.507 рабочих, а в Курляндии 159 промышленных предприятий с 14.095 рабочими, не считая предприятий и рабочих, находившихся вне ведения фабричных инспекций.
Это случилось тогда, когда помещичье – баронской земли по одной Лифляндской губернии числилось около 1.800.000 десятин, а крестьянской – лишь 1.121.269 десятин, к этому нужно еще прибавить и церковные (пасторские) земли, которые занимали немалое место в общем земельном фонде, вследствие чего оказалось, что в пользовании прибалтийского крестьянина находилось всего 39% всего земельного фонда Лифляндии. Такая же картина наблюдалась и в Курляндии и Эстляндии.
Кроме того, почти все леса находились во владении помещиков, за исключением небольших лесных площадей, находившихся в ведении государства.
Помещикам принадлежало право открывать корчмы (пивные), пивоваренные и винокуренные заводы, а также право на охоту и рыбную ловлю, тогда как все повинности были возложены на крестьян; в частности, дорожные повинности, по «скромным» подсчетам бывшего Лифляндского губернатора Зиновьева, исчислялись по одной только Лифляндской губернии в 400.000 рубля в год, а Земцев, основываясь на данных сенатора Манасеина, определил эту сумму в 1.106.393 рублей. Правда, «милостивые» бароны-помещики отпускали для нужд дорог материалы, но они, по показаниям того же «милостивого» губернатора Земцева, определялись в денежном исчислении в 15.192 рублей в год.
Помимо этого, средний волостной бюджет по Лифляндии равнялся около 1500000 рублей в год, каковая сумма покрывалась, главным образом, за счет так-называемого «головного» налога, собираемого с каждого мужчины, достигшего 16-летнего возраста, причём, в большем размере с батраков и рабочих, не считаясь ни с их заработком, ни с материальным положением их семей.
Пишущий эти строки, состоя учеником типографии и получая лишь 10 рублей в год на хозяйских харчах, уже на шестнадцатом году от роду платил 4 рубля 80 копеек этого налога в год, а на семнадцатом году, получая те же 10 руб. в год, платил 7 рублей 20 копеек.
Нужно заметить, что отсрочек платежа бедняку не допускалось, и на его заработок накладывался арест, тогда как крупные хуторяне, имея от 40 до 50 и больше десятин земли, подчас не платили этого налога по 2-5 и даже больше лет, после чего «каким-то способом» с них списывали уплату этого налога «по несостоятельности» и прочее.
Если ко всему сказанному еще прибавить, что, помимо всяких «законных» и «незаконных» налогов, сборов и повинностей со стороны царского правительства и его агентов баронов- помещиков, еще немало повинностей и сборов прибалтийский батрак и рабочий, а также и крестьянин (серый барон) несли по обслуживанию церковнослужителей-пасторов, то картина наигнуснейшей эксплуатации трудового народа в Прибалтике будет ясна. Эти повинности, сборы и налоги в пользу духовенства выражались в следующем: еще с феодальных времен латышский крестьянин регулярно должен был отчислять от своего урожая так-называемые «сецин» (Seezin), что составляло с каждого хуторянина, в зерновом отчислении (с ржи, ячменя, гречихи и прочее), от 27 до 30 фунтов с каждого вида зерна; в общем и целом ни один из этих духовных отцов не производил «околпачивания» народа, играя на его несознательности, дешевле трех тысяч рублей «чистоганом» в год; имелись и такие приходы, где духовные отцы зарабатывали до 10 тыс. руб. и больше в год и, накопив свои «маленькие» сбережения в течение 3-5 лет, покупали имение ценою от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме этого, крестьянин обязан был обрабатывать землю своего «духовного отца», строить необходимые ему постройки и прочее; однако, все это и отчисления, о которых я говорил выше, не освобождали крестьянина от отчислений яйцами, птицей и тому подобным.
Независимо от этого, «все грехи» отпускались духовными отцами за определенную плату. Если иногда и списывались долги за молитвы «за упокой», «во здравие» и прочее, то «грехи» за неуплату причитающихся отчислений духовному отцу никогда не прощались; так что иногда покойник простаивал на кладбище у могилы по нескольку часов в ожидании, пока духовный отец сторгуется с родными покойного об оплате за «труд» и о «сроке» уплаты просроченных им платежей.
Случалось, что бедняку нечем было платить, и он принужден был бегать по своим знакомым – лишь бы набрать 2-3 рубля, чтобы заплатить пастору и иметь возможность зарыть в землю покойника.
Все эти проявления бесшабашной эксплуатации латышского крестьянина, батрака и рабочего привели к тому, что против ожиданий и чаяний буржуазии и помещиков всей России, лавирующих и выбирающих в царских палатах между «диктаторством Трепова» и хитростным манифестом 17-го октября графа Витте – прибалтийский крестьянин, батрак и рабочий, не выдержав долее этой эксплуатации, поднял знамя открытого восстания против своих поработителей.
Об этом в конце 1905 и в начале 1906 годов прибалтийские бароны и их покорные слуги – редакторы реакционных газет с ненавистью писали: «…Мы надеемся, что латышам будет отведено почетное место в русской революции…».
Отводимое «почетное место» латышам в русской революции, конечно, понималось и проводилось в жизнь виселицами, ссылками, каторжными работами, поркой, расстрелами «по суду и без суда» и прочими мерами, предпринимаемыми царскими слугами, «ради обезвреживания» социалистических настроений. Воспоминаниями об одном из этих отведенных нам, латышам, почетных мест я и желаю поделиться с читателями.
Дело происходило в местечке Руен и его окрестностях, Лифляндской губернии, Вольмаркского уезда.
Еще задолго до царского «милостивого» манифеста 17-го октября 1905 года, сфабрикованного графом Витте,—а именно в период 1902-1903 годов, в наши районы стали проникать слухи о каких-то «социалистах», листках, прокламациях, воззваниях и прочее; одни говорили, что социалисты хотят помочь рабочим и крестьянам улучшить их материальное положение, другие называли их безбожниками, грабителями, стремящимися не то свергнуть, не то убить царя; говорилось все это как-то втайне, с глазу на глаз, но все же распространялось.
Подчас муж с женой, с опаской говоря об этих слухах и посматривая —одни на свое «барахло», а другие на свои сбережения, одни вздыхая, что всё отнимут, другие внутренне радуясь, что нечего отнять, а может быть дадут, – старательно стремились избегать присутствия детей при этих разговорах, особенно детей старшего возраста, – мол, разболтают, да горя наживут на все семейство.
Чем больше в таких случаях секретничали, тем сильнее рос интерес к этому у детей, и последние, проделывая головоломные штуки, ухитрялись все это подслушивать, передавали затем своим приятелям, обсуждали сообща и, накормленные со школьной скамьи всевозможными «лубками», вроде «Предводителя бандитов Ренальдо-Ренальдини», сейчас же строили свои планы всяк по-своему: кто сейчас же хотел быть командором этих социалистов, громить всё, что надо, а кто и громить самих социалистов-безбожников, обижающих царя, и тому подобное, – словом, рассуждали, кто во что горазд.
Как-то в конце осени 1903 года, когда эти слухи уже почти было притихли, вдруг в наше местечко нагрянуло несколько человек жандармов и произвели кое у кого тщательные обыски, но, никого и ничего не забрав, уехали. Снова поднялись разговоры о социалистах, о листках; а тут как раз и оказалось, что кто-то что-то нашел, читал, видел и доставил в полицию. Власть, в свою очередь, как-то особенно насторожилась, и полицейские, по вечерам и ночам прогуливаясь по местам скопления публики, таинственно между собой переглядывались, а иногда и перешептывались.
Мы, молодежь, решили, что во всех этих слухах и разговорах «что-то есть»; мы, рабочая молодежь, как-то чутьем чувствовали, что «социалисты» – это друзья и защитники трудового народа и что наше дело их найти, помочь им; в чем и как, – мы и сами себе не представляли, но почему-то нам казалось, что рабочие их знают, а через них и мы должны их найти и узнать. Мы стали искать, допытываться – особенно у фабричных рабочих. Нас отталкивали, подчас высмеивали, что, в свою очередь, еще больше нас раздражало, томило и, наконец, порождало злость и ругательства по поводу того, что нам не хотят сообщить, что нам не доверяют, а, может быть, и сами об них ничего не знают. Мы бранились, умоляли отдельных рабочих не считать нас предателями и познакомить с «социалистами». Все наши происки, однако, оказались безрезультатными.
Так прошла зима и весна 1903 —1904 годов, наступило лето. Проработав после школьной скамьи почти два года на конфетной фабрике в качестве мальчика, где я получал в первые месяцы по 5 копеек за 13-ти часовой рабочий день, а впоследствии по 1 рубль 50 копеек в неделю за тот же рабочий день, я поступил в 1902 году в типографию Шкинкиса учеником, все же не теряя, однако, связи с рабочими и работницами конфетной фабрики и имея с ними частые встречи и беседы. С открытием ножевой фабрики «Амор» я быстро познакомился и связался и с ее рабочими, среди них было много рабочих из города Риги.
Не помню точно, было ли это в начале или в конце мая 1904 года, но как-то раз, в праздничный день, гуляя в парке, я встретил одного из этих рижских рабочих ножевой фабрики, по фамилии, кажется, Саулит.
Поздоровавшись, мы пошли рядом, сначала разговор зашел о погоде, а затем, зная, что я страстный рыболов, мой спутник стал расспрашивать меня о моих успехах в этой области. Отвечая на вопросы и развивая свои соображения на этот счет, я вдруг инстинктивно почувствовал, что беседа о рыболовстве вовсе не та тема, на которую он собирается со мной говорить, и, очевидно, от мысли, что он хочет говорить именно о том, о чем я давно мечтал, то есть о «социалистах», жар пробежал по всему моему телу и я, кажется, очень покраснел, что, в свою очередь, вызвало некоторую тревогу на лице моего собеседника, и последний, взяв меня под руку и отведя в сторону, предложил присесть на травку «погреться» на солнышке.
Мы уселись, и он тотчас же завел разговор о мизерных заработках местных рабочих, о слишком продолжительном рабочем дне, о непристойном поведении духовенства и полиции, которых наша молодежь терпеть не могла, и говоря обо всем этом, он как-то испытующее поглядывал на меня, меня эти взгляды не особенно смущали, и я с нетерпением ждал, когда он заговорит о «социалистах». Как бы угадывая мою мысль, он перешел на разговор о том, что он слышал, что имеются организации, которые ведут борьбу со всеми этими ненормальными явлениями, стремясь устроить жизнь по-новому, что он лично хотел бы с ними познакомиться, но не знает как.
Я ему тут же ответил, что и у меня имеется такое стремление, но что все мои поиски в этом направлении остались безрезультатны. Тогда товарищ Саулит, пытливо посмотрев на меня, резко изменил разговор и спросил:
– А вы знаете, что делает полиция с социалистами-бунтарями?
И тут же прибавил:
– В тюрьмы сажает и вешает.
Хотя меня его странный тон и резкость несколько и поразили, но меня не удивило последнее заявление о тюрьмах, и виселицах, так как я, в общей массе слухов, достаточно об этом наслышался, и я ему, насколько было возможно при таком разговоре и в те времена, спокойно ответил:
– Что ж, я об этом слышал…
Мы несколько помолчали, после чего он снова спросил:
– А вы слышали о провокаторах?
Я ответил, что это слово мне незнакомо.
– А о предателях?..
Об этом слышал, но если вы думаете, что я способен быть предателем, то глубоко ошибаетесь, – возразил я, и окончательно не понимая такого тона разговора, встал.
Полулежа еще на траве, т. Саулит несколько насмешливым, спокойным тоном продолжал:
– Я вас таким, конечно, не считаю, но если бы вы и были бы способны на предательство, то вам некого было бы и предать, социалистов вы не знаете, и я тоже не социалист.
В ответ на это я, со всей ненавистью к нему и смотря ему прямо в глаза, сказал:
– Следовательно, вы сами предатель, полицейский слуга и ищите кого предать!..
И с этими словами я собрался уже было уйти; но он, вскочив с места, взял меня крепко под руку и, направляясь вперед, сказал:
– Пойдем, я кое-что тебе покажу…
И по дороге через кладбище, улучив минуту, когда никого не оказалось поблизости, он сунул мне в руку какой-то свернутый клочок бумаги, сказав:
– Спрячь, никому не показывай и прочти.
И попрощавшись со мной, он ушел.
Горя нетерпением узнать, что это за сверточек, я направился домой. Зайдя в комнату, где со мной проживали отец и мать, и убедившись, что мои родители на месте и здесь мне делать нечего, я забрался в чулан, где, развернув этот таинственный сверточек, который оказался изданием (изрядно потрепанным) латвийской социал-демократической рабочей партии «Zihna» (Борьба), с жадностью стал его читать и перечитывать. Но, к сожалению, больше половины того, что читал, я не понимал, а то, что понял, рисовалось мне, – насколько об этом теперь, по истечении 20 лет, память позволяет судить, – в следующей формуле: «надо бороться за общее лучшее будущее». Но как – я себе все же не представлял… Возник и другой вопрос: что делать с газетой?.. Уничтожить – пожалуй, не следует; передать кому-либо из своих товарищей – не имею права без разрешения тов. Саулит. В конце концов я решил сохранить ее и, тщательно завернув, спрятал сверток в чулане между крышей и одной из поддерживающих ее балок.
Я хотел в тот же день, вечером, повидаться с товарищем Саулит, но, к сожалению, не встретил его. Так прошло два дня, наконец, на третий день, вечером, узнав квартиру товарища Саулит и горя желанием получить еще что-либо подобное для чтения, я направился к нему. Отведя его в сторонку от домашних, я спросил, имеется ли у него еще что-нибудь вроде «Борьбы», одновременно предупредив его, что он может на меня вполне положиться. Ответив, что у него ничего более не имеется, он предложил мне отправиться, восвояси и ждать, пока я ему не понадоблюсь. Я понял, что это, тоже относится и к вопросу об имеющемся у меня номере „Борьбы".
Опять наступили часы и дни неизвестного ожидания и тревоги, и, нужно сказать, часы и дни долгие, кажущиеся годами…
Несколько времени спустя, как-то вечером после работы, ко мне подошел мой давнишний товарищ по работе на конфетной фабрике «Фортуна» – товарищ Лисиц, поздоровавшись и обменявшись разными мелочными вопросами и ответами на них, мы направились на старое кладбище, находящееся в центре местечка и расположенное рядом с парком (если вообще можно назвать парком клочок земли в центре местечка, заросший редкой ивой и сосной – без всякой планировки).
Зная мою ненависть к духовенству, полиции, а также к предпринимателям и зная меня, по работе на конфетной фабрике, как надежного товарища, который не выдаст, он, напомнив мне о том, о чем я говорил с товарищем Саулит, и о прочитанной мною, «Zihna», сейчас же заявил, что он один из тех, кого я так долго искал и кто ведет борьбу со всеми замеченными мною в жизненном водовороте ненормальностями и с повсеместной эксплуатацией. В ответ на это я успел только воскликнуть:
– И ты до сих пор все это от меня скрывал!..
На это тов. Лисиц, улыбаясь, ответил:
– Ты еще слишком молод и поэтому необходимо было тебя проверить.
Однако, проверять было нечего, ибо я еще никаких поручений от партии, которую я так долго искал, не имел.
Оказалось, что товарищ Лисиц состоял членом латышской социал- демократической рабочей партии и что ему поручено вместе со мной организовать в местечке Руен кружки из рабочей молодежи, просвещать эти кружки, распространять листки (прокламации) и прочее. Согласившись с ним и заявив, что готов на все, я все же должен был сознаться, что пока что я еще и сам ничего не понимаю и не знаю и поэтому вряд ли сумею кого-либо просвещать; разбрасывать же в нашем районе прокламации и прочее, по моему мнению, при известной осторожности, мне будет весьма нетрудно. На мои рассуждения тов. Лисиц ответил:
– Была бы охота и желание, а как организовать и как приступить к просвещению этой молодежи, я тебя для начала научу, а там дальше, читая и учась, ты сумеешь научить и других…
На прощание он добавил, что вообще вся эта работа должна вестись в условиях строжайшей конспирации и что видеться мне с ним впредь придется пореже и то – в условленных местах.
Нужно сказать, что его соображения были вполне правильны, так как к тому времени латышская молодежь почти никаким самообразованием не занималась; клубов не было, а если таковые и существовали, то лишь для зажиточно-интеллигентской части населения; газет и книг не читали, так как тех незначительных грошей, которые молодежь зарабатывала, нехватало и для уплаты налогов (поголовного), покупки одежды и пропитания.
Получив задание от товарища Лисиц, я немедленно приступил к работе и с того же дня стал организовывать кружок, привлекая в него знакомых мне подмастерьев-учеников и других надежных товарищей. Переговорив с десятком из них, в том числе и с Эдуардом Клявиным, со Строгисом и другими, мы создали кружок, о чем я сообщил товарищу Лисицу, последний, наметив день нашего первого заседания, просил назначить место собрания, обставив его соответствующими предосторожностями. Тут же было решено устроить вечеринку, с пивом, с приглашением гармониста – начав ее часов в восемь вечера, чтобы закончить к двенадцати часам, после чего останутся лишь свои «ребята» на часок, в течение которого и можно будет провести наше первое собрание, на это собрание должен был прийти агитатор-организатор. В назначенный час и в условленном месте все были в сборе, в том числе также и приглашенные и подобранные на сей предмет знакомые нам девушки и гармонист.
Как мы ни стремились «распоясаться», то есть веселиться, все же это как-то не удавалось, ибо у каждого из нас, мужчин, было желание поскорее покончить с вечеринкой и приступить к делу, тем более, что ни у кого из нас, покуда что, не имелось никакого представления ни о парторганизаторе-агитаторе, ни о том, что он нам скажет.
Благодаря этим обстоятельствам вечеринка кончилась раньше предполагаемого времени, и мы, спровадив наших девиц, остались одни, под видом выпить пива и побалакать, наконец, явился агитатор-организатор. Тов. Лисиц представил его нам, не сообщив однако ни его фамилии, ни «клички», а просто назвав его – наш товарищ, а тот, спросив, можно ли приступить, и получив утвердительный ответ, стал нам рисовать картину бедственного положения рабочих и крестьян вообще, в частности – рабочих и батраков Прибалтики, доказывая необходимость борьбы за улучшение их положения, указывая в то же время на те трудности, которые встретятся на нашем пути, – возможность обысков и арестов, заключения в крепости, ссылки и прочее, – ввиду чего необходима конспирация в работе и тому подобное. Закончил он свою речь эпизодом из французской революции, особенно подчеркивая самоотвержение парижского пролетариата, который будто бы, будучи осажден капиталистическими войсками, несколько дней голодал, а когда однажды были получены яблоки, последние были разделены среди восставшего пролетариата с таким расчетом, что одно яблоко приходилось на четырех человек на двое суток, и несмотря на такое положение, пролетариат, сознавая правоту начатого дела, продолжал борьбу вплоть до полного его уничтожения со стороны буржуазных войск.
Знакомясь впоследствии с историей французской революции, я, конечно, в книгах таких фактов не находил; но тогда доводы нашего агитатора произвели на нас такое потрясающее впечатление, что мы с энтузиазмом восклицали: «Одно яблоко на четырех человек, да на двое суток! Какой героизм, какая самоотверженность!». А наш агитатор, продолжая свою речь, увлекал нас все дальше и дальше, дойдя до гильотины. Каждое его слово мы слушали, глотая его с замиранием сердца. Когда оратор кончил, мы обратились к нему с рядом вопросов, на которые он дал нам исчерпывающие ответы. Наконец, прощаясь с нами, он так же, как и товарищ Лисиц, вновь предупредил нас о необходимости в нашей работе строжайшей конспирации, так как отныне мы будем получать аккуратно прокламации, воззвания «Zihna» и другую нелегальную литературу; он инструктировал нас также, как держать себя в случае ареста кого-либо из нас, затем, уже направляясь к выходной двери, он сказал, чтобы мы не расходились, так как с участием товарища Лисиц нам предстоят еще выборы кружкового руководителя.
Таковым был избран я. Отсюда началась вся наша дальнейшая работа – я, держа связь с тов. Лисиц, получал через него прокламации «Zihna» и кое-какие брошюры, которые по прочтении передавались мною другим членам кружка, а по миновании надобности возвращались обратно товарищу Лисиц. В этот же период меня познакомили и со студентом Емельяном Аболтиным, через которого впоследствии я стал получать необходимую нам литературу и инструкции о работе.
Летнее время благоприятствовало работе; мы могли собираться в лесу, на лужайках, словом, где угодно, не боясь полицейского глаза; мы регулярно сходились, с увлечением слушали наших старших товарищей, расспрашивали их об интересующих нас вопросах, разбрасывали и расклеивали прокламации, когда это нужно было, и чувствовали себя участниками революционного дела. С наступлением же осени и зимы положение ухудшилось: устраивать собрания можно было лишь у кого-нибудь в квартире, но таких квартир – квартир холостяков, без постороннего глаза – не оказалось, а собираться у женатых или посвящать в это дело родных было небезопасно, и мы имели возможность устраивать заседания лишь с большими перерывами, в большинстве случаев в неподходящей обстановке, по воскресеньям, в корчме (что-то вроде пивной), в отдельном номере и за стаканом пива.
Это станет понятно читателю лишь тогда, когда он познакомится с тем, как жила молодежь в латвийской провинции в дореволюционное время; работая учеником или подмастерьем у ремесленника, он не имел собственного угла, а в большинстве случаев получал лишь место на двух-трехэтажной кровати, в углу мастерской; и поэтому приходилось, при устройстве собраний, мириться и с номером в корчме.
Так прошла осень и зима. К весне работа оживилась и, к нашему удивлению, у учителя приходской школы и не помню у кого еще приезжими представителями жандармерии были произведены обыски вплоть до сдирания обоев; два-три человека были арестованы, закованы в ручные кандалы и под конвоем куда-то увезены.
Нас это удивило, во-первых, потому, что, мне казалось, что наш кружок единственный кружок в местечке и другого подобного ему нет. Как читатель увидит впоследствии, мы в этом глубоко ошиблись.
Кстати сказать, в ночь обысков у вышеупомянутого учителя и других лиц, я был предупрежден об этом товарищем Лисиц и должен был, в свою очередь, предостеречь членов кружка – быть на чеку. Так как, в смысле конспирации, дело у нас обстояло благополучно и дома всегда всё было припрятано в надлежащее место, а, «прокламашки» мы перетаскивали друг от друга обернутыми под чулком вокруг ноги, то мы обысков не боялись; беспокоились лишь об одном—как бы не попался наш гектограф, который, впрочем, по словам тов. Лисиц, находился у надежного товарища.
После этих обысков и арестов до начала лета вся наша работа протекала обычным нормальным темпом, при чем Лисиц и Аболтин все обещали мне к лету чем-то особым порадовать нас, а на все мои расспросы чем, – так и не сказали.
Вдруг в начале или конце мая стряслась беда. В субботу вечером, накануне какого-то церковного праздника, наш кружок получил задание разбросать по кладбищам, около церкви и в других местах прокламации, а в воскресенье рано утром я должен был, ездя на велосипеде, известное количество прокламаций расклеить на телеграфных столбах–по дороге к городу и к церкви. Мы распределили между собою роли: мне, Эдуарду Клявину и, кажется, товарищу Заккису выпал обход Почтовой и Виркенской улиц.
Забрав соответствующее количество прокламаций, мы с наступлением ночи отправились на работу.
Было решено разбрасываемые по улицам прокламации прикрывать камешками, чтобы ветер не сдувал их, а часть из них заложить за ставнями более крупных мастерских—в расчете на то, что утром, когда ученики мастерских откроют ставни и обнаружат там прокламации, они перенесут их в мастерские, где, понятно, всякий рабочий их прочитает. Согласно предпринятому плану действий, Клявин и Заккис пошли впереди и непосредственно разбрасывали листовки, я же с пакетом прокламаций следовал за ними в шагах 15—20 с тем, чтобы в случае опасности дать сигнал товарищам и самому с имеющимся у меня запасом прокламаций скрыться.
Пройдя всю Почтовую и Виркенскую улицы и разбросав там прокламации, мы вернулись к началу Почтовой улицы, чтобы проверить, все ли обстоит благополучно. Снова проходя по Почтовой улице со стороны конно-почтовой станции, мимо конфетной фабрики «Фортуна», почти до самой Рыночной площади, мы обнаружили, что ни одной из разбросанных прокламаций на улицах не имелось, что, конечно, нельзя было объяснить тем, что проходящая публика их все подобрала. Мы ускорили шаг для того, чтобы убедиться, не шла ли вслед за нами полиция; и пройдя еще несколько шагов, действительно, разглядели впереди нас силуэты двух урядников, подбирающих разбросанные нами прокламации. Оставалось одно— перехитрить полицейских, свернув с улицы, и начать работу снова, что мы и сделали; но так как у нас прокламаций оставалось весьма немного и часть из них должна была быть оставлена для расклейки, то приходилось очень экономить, и начав с середины Почтовой улицы и следуя за урядниками на почтительном расстоянии, мы восполнили образовавшийся пробел.
На следующий день, рано утром, из предосторожности перевязав свой велосипед в нескольких местах тряпками, я отправился на расклейку. Утро было туманное. Выехав по Банной улице, чтобы не ехать через центр местечка, я направился через пастбище на большую дорогу, ведущую к имению Виркен, и стал расклеивать заблаговременно намазанные крахмалом и сложенные вчетверо прокламации. Не успел я отъехать от местечка и двух верст и наклеивая, должно быть, всего лишь девятую или десятую прокламацию, я заметил, что сзади меня, еще на далеком расстоянии, кто-то едет на подводе и останавливается у телеграфных столбов, на которые я только что наклеивал прокламации. Сначала я подумал, что это проезжающий крестьянин и что останавливается он у каждого столба лишь только потому, что прокламации были разных цветов и он мог предположить, что они имеют и разное содержание, однако, подпустив подводу поближе, я убедился, что это—урядник и что он трудится «за царя и отечество», соскабливая своей шашкой наклеенные мною прокламации. Мой заряд пропал даром, необходимо было скрыться с «глаз начальства» и переменить маршрут, что я и сделал. Отъехав с версту и убедившись, что урядник из-за тумана не только не видит меня, но даже и не подозревает присутствия «социалиста», я, подобно зайцу, сделав несколько петель в сторону кустов вправо и приподняв свой велосипед, направился по дорожке влево на другую большую дорогу, тоже ведущую к местечку и к церкви и расположенную, примерно, в версте от первой; расклеив там остаток прокламаций, я вернулся домой.
Вернувшись со всеми предосторожностями домой, еще в субботу вечером, я на всякий случай запасся «свидетелями», которые бы подтвердили, в случае надобности, что я ночевал у них, разделся и лег спать, однако заснуть не удалось, так как беспокоили мысли о том, как проходила работа по разбрасыванию прокламаций у других товарищей, все ли обошлось благополучно, не попался ли кто и не попали ли разбросанные прокламации в руки полиции.
Как потом выяснилось, хотя полицейские урядники и обшарили все улицы и кладбища, но и там наши ребята перехитрили их и умудрились наклеить несколько прокламаций даже на дверях лютеранской церкви, находящейся в полуверсте от местечка; урядники же, успокоившись своим обходом, внутренне радовались тому, что «выслужились» перед начальством, и доложили последнему, что к «праздничку» все обстоит благополучно, представив в доказательство соответствующее количество найденных прокламаций. Каково же было удивление полицейских, когда на следующий день, к церковному звону, «благопристойные» граждане стали приносить в полицию найденные ими «листки» … Даже мой отец, найдя утром у наших ворот одну из таких прокламаций, начал совещаться с матерью о том, что с ней делать – нести ли в полицию или просто-напросто сжечь, чтобы след простыл. Нести в полицию—значило, по его мнению, дразнить её, если сжечь – могут подумать, что он нарочно не хотел предъявить начальству, да кроме того отец, как неверующий, был еще на плохом счету у духовенства и полиции. Мать советовала не нести, но, будучи глубоко верующей, придравшись к случаю, не замедлила прочесть отцу лекцию насчет того, что «бога надо чтить и начальство уважать». Шепчась и споря довольно продолжительное время, отец все время искоса поглядывал на мою кровать, как бы спрашивая мать—«чего доброго, может и он? – все ведь по ночам куда-то шляется». Мать же, словно угадывая его вопрос, стала успокаивать, говоря, что мое, мол, дело «молодо-зелено» и, следовательно, с девчонками шляется. В конечном итоге было решено, что, во избежание могущих возникнуть недоразумений, все же «листочек» в полицию отнести следует, что и было сделано отцом.
Вижу—делать нечего, тут не до сна: надо встать, одеться и отправиться к кое-кому из своих товарищей, чтобы обо всем разведать – так я и сделал.
Разведка моя обнаружила положительные результаты в нашу пользу и как будто, как я уже сказал, все обстояло благополучно, однако к полудню возникли серьезные опасения: кое у кого были произведены обыски, а Яков Спрогис и Заккис были арестованы и вечером под конвоем отправлены в уездный город. Мы обеспокоились тем, как бы не случилось провала, в Спрогисе мы все были уверены и ручались головой, что он, никогда не проявляя малодушия, не выдаст, на Заккис же трудно было положиться и мы боялись, как бы он в случае побоев, а может быть и пытки, не выдал бы весь наш кружок и тов. Лисиц.
К нашему счастью, против обоих арестованных товарищей у полиции не имелось никаких улик, и через две недели они были освобождены и вернулись к нам. А тут и солнышко заглянуло в наши края: приехал агитатор-организатор из Риги и, как сообщили мне Лисиц и Аболтин, устраивается «массовка».
«Как массовка, – спрашиваю я Аболтина, – ведь нас только десять человек да вас двое, какая же из двенадцати человек может быть «массовка»?» В ответ на мое удивление оба они ухмыляются и отвечают:
Да не десять человек, а почти пятнадцать десятков!
Я пустился в обиду по поводу того, что они держали меня в неведении и не сообщили мне, что, кроме нашего, имеются еще и другие кружки; смеясь, они ответили:
Да в этом ведь и заключается вся конспирация в нашей совместной подпольной работе.
Массовка, устроенная в трёх-четырёх верстах от местечка Руен, в лесу, и обставленная нашими патрулями, с двухкратными паролями и отзывами, прошла удачно: лишь на массовке я увидел, насколько велика и сильна была наша организация. Приезжим товарищем, по кличке «Клявин», был сделан обстоятельный доклад о целях и задачах всей латышской социал- демократической рабочей партии в целом – о целях, задачах, и методах борьбы нашей полевой организации, в частности. Каждый из нас с величайшим интересом и энтузиазмом слушал слова оратора и переживал с ним вместе те чувства глубокой радости, тревоги и стремления к борьбе, которые могут быть понятны только подпольным работникам, испытавшим на себе все условия подпольной работы, эти массовые собрания в лесах, когда каждый из нас, слушая приезжих товарищей, испытывал моменты глубоких переживаний, неописуемы, они то призывали к борьбе, то отдаляли сроки ее, то поднимали на недосягаемые высоты предстоящие волны восстания, то снижали их ко времени тяжелых испытаний – возможных расстрелов, виселиц, каторги и ссылки, – словом, речи ораторов на этих массовках казались опиумом борьбы и жертвы, приучающим к стойкости, выдержке и к терпению переносить невзгоды.
Как я уже сказал, массовка прошла благополучно; после окончания ее было спето несколько, плохо еще нами заученных, революционных и рабочих песен, красный флаг, развевавшийся во время массовки в центре нашего собрания, решено было водрузить на верхушке сосны, что и было сделано. Долго потом в народе говорили об этом флаге, о собрании в лесу «социалистов», которых полиции будто бы не удалось изловить. С этого момента массовки стали происходить чаще, при чем одна из них была устроена что называется под самым носом у полиции – в лесочке «Zuhkaups preedes», не более версты от местечка, а другая массовка состоялась в двух-трёх верстах от местечка, под проливным дождем.
Я отмечаю эти моменты лишь для того, чтобы сопоставить дисциплину партии в подпольный период с дисциплиной отдельных организаций в настоящее время; если на массовке, которая происходила под проливным дождем, участвовала вся наша организация, за исключением двух товарищей, о которых кружковые руководители доложили, что они отсутствуют по уважительным причинам, будучи заняты по специальным заданиям, то летом 1917 года в том же местечке и в той же организации, на первом же по моем возвращении из каторги собрании из всей организации на общем собрании я застал лишь треть всех членов.
Так – в массовках, в кружковых собраниях, в чтении нашей скудной литературы, в разбрасывании и расклеивании прокламаций, проходило все лето; наша организация, прежде причисленная к «Виденской», была реорганизована в самостоятельную организацию, подчиненную непосредственно ЦКЛ.С.-Д.Р.П.– под названием „Полевой центр Пламя".
Как я уже сказал в начале моих беглых воспоминаний, положение батраков и рабочих, особенно последних, в нашем районе было невыносимо, к весне и к лету 1905 года оно нисколько не изменилось. Ученики ремесленных мастерских, закабаленные на три-четыре года в ученичество, получали грошовое вознаграждение и скверные хозяйские харчи и по-прежнему бедствовали; ученики и рабочие конфетной фабрики находились в не лучшем положении и все еще продолжали, при мизерной оплате (от девяноста копеек до полутора рублей в неделю), работать по двенадцать часов в сутки, детский труд, особенно – девочек, на конфетной фабрике применялся во всю.
Вот эти-то обстоятельства и привели к тому, что летом 1905 г. часть рабочих и работниц конфетной фабрики бросила работу, потребовав увеличения заработка и сокращения рабочего дня. Эта частичная забастовка не обошлась без нашего участия.
В задачу нашей организации, при создавшемся положении, входило – приостановить работы на конфетной фабрике полностью и не допустить туда «штрейкбрехеров». Частично это удалось, но этого было недостаточно и необходимо было принять меры, чтобы забастовка распространилась бы и на кустарные мастерские и увлекла бы собой рабочих и вышеупомянутой ножевой фабрики «Амор», между тем оплата труда на этой последней была сравнительно сносная, и рассчитывать на немедленное присоединение их к бастующим, тогда как еще не вся конфетная фабрика объявила забастовку, было нечего.
Приняв соответствующие меры в этом направлении, мы назначили день всеобщей забастовки по нашему местечку, так как вся наша организация прекрасно знала, что полиция давно точит свои зубы на меня и что мое выступление может повлечь за собой немедленный мой арест, то было решено, что ко мне зайдет ряд товарищей из разных мастерских, захватят, будто бы насильно, меня с собой, а затем уже руководство забастовкой перейдет в мои руки.
Как и было условлено, в назначенный день и час ко мне явилась группа товарищей – рабочих-кустарей, в присутствии моего хозяина и его жены, под видом «угрозы», они заставили меня прекратить работу и последовать за ними. Мы направились по всем мастерским и со словами – «фейрабент» прекращали работы и предлагали рабочим и ученикам следовать за нами. В некоторых местах хозяева пригрозили нам полицией, но зная, что в местечке насчитывалось всего лишь три-четыре урядника, один жандарм (и то – станционный) и младший помощник уездного воинского начальника, – мы этих угроз не боялись.
Остановив все мастерские, мы направились за реку, на лужайку, чтобы совместно выработать общие требования учеников и подмастерьев. На скорую руку таковые требования были выработаны, но не успели мы еще зафиксировать их на бумаге, чтобы потом, размножив на гектографе, предъявить хозяевам- работодателям, как увидели, что вслед за нами идет полиция, а с ней и кое-кто из головки местной «посадской» администрации и заведующий арестным домом. Не допустив их до себя, мы встали и направились в центр местечка – к кладбищу, к сборному пункту всех бастующих, в том числе и «конфетчиков», чтобы совместно направиться на ножевую фабрику и, остановив там работу, выгнать из конфетной фабрики услужливых фабриканту «штрейкбрехеров».