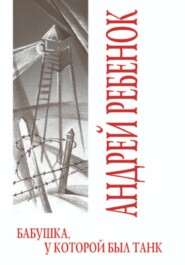скачать книгу бесплатно
Бабушка, у которой был танк
Андрей Ребенок
В книгу вошли роман, повести и рассказы, которые не оставят читателей равнодушными.Адресовано широкому кругу читателей.
Андрей Ребенок
Бабушка, у которой был танк
РАССКАЗЫ
СЫН ПРИЕХАЛ
Тётка Груня проснулась затемно. Она подползла к краю лежанки, чтобы глянуть в окно.
«Ох, и когда же ночь кончится, ужасть какие длинные стали», – сказала она сама себе.
За ночь печка поостыла, и в щели кривых окошек забрался холод. Чтобы добраться до тёплых кирпичей, она раскопала наваленные старые ватники и одеяла. Забралась под них, но заснуть не могла. Повяжу немного, – решила она. Привычно нащупала висящую над лежанкой маленькую лампочку, повернула её в патроне.
Вспыхнул свет. Лампочка выхватила из темноты печь, на которой сгорбилась маленькая старушка, и кусок избы. Лампочка была очень слабенькая, её тусклый жёлтый свет едва освещал лежанку и только ещё сильнее подчёркивал желтизну морщинистого лица, делая ещё длиннее выдавшийся вперёд старушечий подбородок. Седые, прямые, как солома, волосы казались чёрными.
Как только загорелся свет, она снова поползла к краю лежанки, чтоб взглянуть на часы. Добралась до трубы, выглянула из-за неё. Узкий жёлтый луч, выбившийся из щели между стенкой и трубой, тускло освещал циферблат ходиков. Стрелки показывали пять часов утра. Посмотрела и заплакала, запричитала. Её плач был похож на смех грудного ребёнка, увидевшего качающиеся над коляской погремушки. Слёз не было – они иссякли за годы одиночества. Тётка Груня жаловалась самой себе на свою судьбу.
«Ох, и когда же эта ночь кончится, – неустанно повторяла она, – и за что же мне такие мучения».
Она жаловалась на ветер, который задувает её избу, на снег, что завалил дверь, на зиму с такими длинными и тёмными ночами. Она не любила зимы. Конечно, в молодости было всё равно, но теперь Груня боялась зимних ночей. Ох и долгие же они! Ложилась спать, как только за окном сгущались сумерки, чтоб экономить свет. Проснётся ночью, включит лампочку, посмотрит на часы и вздохнёт. Спать уже не может, а ходики упрямо показывают, что прошло всего лишь два-три часа. Даже старый день не кончился. И так всю ночь. Много раз за ночь она ложилась, пыталась уснуть, но сон не шёл, и она опять вставала. То принимается за вязание, а то и книгу какую почитает. Вся изведётся за ночь. «Ох уж это время, и кто его только придумал», – приговаривала она.
Как-то раз повесила на гирьку ходиков ещё одну железку – тяжёлый замок, чтобы поторопить время. Часы спешили вперёд, а рассвет задерживался. Не удалось обмануть время – и она горько заплакала.
Тётка Груня тёрла сморщенными руками сухие глаза, всхлипывала.
Дёргался маленький нос, обвислые щёки, только выдавшийся вперёд подбородок оставался на месте. Она снова поползла на середину лежанки и принялась искать своё вязание. Спицы, клубок шерстяной нитки, недовязанная рукавичка оказались под старым зипуном с вылезшей шерстью. Старушка надела очки на резинке, подобралась поближе к лампочке и принялась за работу. Пальцы слушались с трудом, часто петли соскакивали с острых концов спиц, но она продолжала упорно вязать.
Эти варежки она вязала сыну. В укромном месте уже лежала пара связанных носков и одна рукавичка.
«Это Серёженьке, приедет, вот, скоро. Они ужасть какие тёплые. Шерсть-то самая хорошая, осеннего состригу», – говорила она, показывая рукавичку и носки старой дородной кошке. Кошка внимательно смотрела, обнюхивала их. Эта кошка знала многое. У Груни не было от неё тайн.
Пальцы совсем перестали слушаться, щемили локти и плечи. Она отложила вязание, спрятав его снова под зипун, выключила свет и улеглась. Сон не шёл.
«Наверное сверху снег сыплет, вон как руки разболелись да в затылке шумит, – сказала она. – На днях опрастывала банку. Согнулась и еле-еле смогла разогнуться. В голове такой шум, руки ломит. Глянь в окно – сверху валит».
Так и говорила лёжа с открытыми глазами, не обращаясь ни к кому. Говорила просто так, лишь бы говорить.
«Наверное уж брезжится, сколь времени прошло», – сказала она, включила лампочку и поползла к краю лежанки. Выглянула из-за трубы и запричитала – окошко было чёрным. Часы показывали лишь без четверти шесть. До рассвета ещё долго.
Эту старушку в деревне и стар и млад звали Груняшей. А вот соседка, женщина лет шестидесяти, звала её ласково – Грунечкой.
В деревеньке её уважали за добрую душу, много хорошего сделала она за свою жизнь. А теперь Груняша еле-еле сводила концы с концами. Дом у неё был хоть и маленький, но не деревянный, а из красного кирпича. Когда-то новый, он был всем на зависть, а теперь его стены подпирали со всех сторон толстые брёвна, поставленные за бутылку конюхом. Её дом, заросший бузиной и сиренью, стоял на самом краю деревни. Деревня маленькая, с десяток домов, а растянулась через косогор на целую версту – дома стояли далеко друг от друга. Из Груниного окошка видно всего лишь два дома: в первом жила её подруга молодости бабка Леля, а второй заколочен – все переехали в город.
Время от времени соседка приходила проведать свою Груняшу. Носила ей воды из колодца, приносила хлеб иль ещё чего. Сама Груняша никуда из дома не выходила – у неё болели ноги, даже в избе ходила с палкой или табуреткой. Поставит впереди себя табуретку, опираясь на неё, сделает несколько шагов, затем снова ставит табуретку впереди. Ноги часто вдруг становились ватными, чужими, отказывались слушаться. Тогда она садилась на табурет и ждала, когда это пройдёт. Последнее время бабка Леля заходила всё реже и реже, и Груняша целыми неделями сидела без хлеба, перебивалась квашеной капустой да солёными огурцами. Экономила как могла воду. Иногда забегала к ней разбитная молодуха Степанида. Она приносила буханку хлеба, рассказывала деревенские новости, носила воду, после чего требовала вознаграждения. Хотя Груняша и не любила эту наглую бабу, но ни в чём ей не отказывала: давала деньги, кой-какие тряпки, вязаные носки и рукавички. Разве откажешь – кто ж тогда поможет! Когда Степанида уходила, Груняша садилась и плакала: жаль было с таким трудом нажитого и денег.
Проходили дни, недели, а тропинка к дому одинокой старушки была покрыта нетронутым снегом. Как замела метель следы, после последнего визита бабки Лели, так никто и не ходил по ней. А в маленьком покосившемся окне можно было увидеть неподвижное старушечье лицо. Печальные глаза смотрели на дорогу из-под низко надвинутого на сморщенный лоб тяжёлого зелёного платка. Весь день проводила Груняша у этого окна – смотрела на дорогу. Если садилась вязать или читать, то всё равно только у этого окна. Отходила лишь затем, чтоб топить печь или лежанку. Ждала сына. Каждый день надеялась, что уж сегодня он непременно приедет: «Погода дюже лютая, вона как метёт, аль с работы не пускают?» – говорила она вечером, отходя от окна, когда ранние сумерки окутывали деревню.
В начале зимы сын прислал посылку. В картонном ящике чего только не было: леденцы, баранки, вафли, даже два апельсина, но самое главное Груня нашла на дне под газетной подстилкой – на клочке лощёной бумаги было написано: «Мама, скоро приеду, жди». Она не могла насмотреться на эту записку, перецеловала её всю. Вот радость-то, сынок скоро приедет! Серёженька скоро здесь будет. Вот ведь сколько годков не видала. Ох, радость-то какая! Счастье-то какое! – говорила она появившейся сразу же после почтальона Степаниде.
– Да уж, счастливая ты. Это надо же, Серёжка скоро приедет, я его, поди, и не узнаю, пацаном ведь помню, – отвечала та, распихивая по карманам ватника леденцы и баранки.
– Моего Серёжу в Москве все знают, уважают его там. Он в начальниках сейчас больших! – расхваливала своего сына тётка Груня.
– Так он в Москве счас, – начала Степанида, не переставая набивать раздувшиеся карманы гостинцами из посылки, – а что столько лет у тебя не был? Вон, Скворчихин сын, поди, каждый месяц у матери бывает, и один, и с женой, а куда дальше робит.
– Так у Скворчихи на заводе работает, а Серёжка в начальниках, директор он, так, наверно, работа не пускает, да и погода вишь какая, у него ж машина – не проедет по такой погоде, – отвечала Груня, с трудом сдерживаясь, чтобы не расплакаться. А когда ушла Степанида, она наплакалась вволю.
Шли дни, недели, а сын её так и не приезжал. Изредка по дороге проходили люди. Увидев кого-нибудь на тропе, Груня хваталась за левую сторону груди, глотая ртом воздух, но никто из них не сворачивал на тропку, ведущую к её дому.
«Серёженька, Серёженька, точно он!» – но человек опять проходил мимо, она долго провожала его взглядом и горько плакала.
Рассвет застал Груняшу в тяжёлой дрёме. Она открыла глаза, растёрла их руками и сначала никак не могла понять то ли спала, то ли нет. В избе стало чуть светлей – это она приметила сразу. «Светится, значит, спала, – сказала она. Надоть печку растоплять, а то Серёженька приедет, а у меня холодец в доме».
Она выбралась из-под старых ватных одеял и, охая, поползла к лесенке, ведущей с лежанки. Доползла до неё, повернулась и задом, ощупывая трясущимися ногами ступеньки, начала спускаться. Вот и новый день, как две капли воды похожий на тысячи других дней, прожитых в одиночестве.
«Сегодня будет, что давеча, а завтра, что намедни», – частенько повторяла она. Не могла сказать точно, какой сегодня день. Жила по своему календарю. Отрывала утром листок численника и читала, что за день такой сегодня. Листок говорил, что воскресенье, и она верила этому, хотя было вовсе не воскресенье, а вторник, просто она два дня забывала отрывать листки. Когда кто-нибудь приходил к ней, тётка Груня просила привести «денник» в порядок.
Вот и сегодня, включив свет, она первым делом добралась до численника и сорвала листок. «Где же очки?», – она пошарила в карманах передника, – наверно, на печке остались. – Приблизив листок к глазам, с трудом разобрала – суббота. – Ох, снова светлый день. Совсем плохо без очков, вот дурёха, забыла их на печке. Всегда что-нибудь забуду. Это надо же, каждый день что-нибудь ищу… это надо же», – приговаривая, тётка Груняша направилась к печке. Убрав стальной прут, придерживавший дверцу, она открыла печку и разворошила золу. Рыхлый уголь легко рассыпался под кочергой и сыпался в щели решётки. «Надо как-нибудь на днях подпечник опростать. Уж весь чернотой забился, того и гляди вспыхнет, что тоды прикажешь делать».
Расчистив место, тётка Груня сунула в печку горсть тонких лучинок, сверху аккуратно положила щепок потолще. За поленьями пришлось идти в сени.
«Ох, одно мучение с этой печкой – весь день напролёт топишь-топишь, пока в дому тепло найдёт, уже на дворе темно станет. Лежанку тоже надо растапливать, ладноть, это после полудню, – говорила и говорила без остановки. Что бы ни делала, всё время говорила и не могла наговориться. Это стало потребностью. Слова её то вылетали скороговоркой, то текли медленно, нараспев, – это зависело от настроения и от того, что делала Груняша.
Опираясь о стену, с трудом переставляя негнущиеся ноги, она добралась до двери. Скинула крючок с петли, толкнула дверь. Тяжёлая, плотно прилегавшая дверь нехотя, с глухим шумом открылась, обдав морозным воздухом сеней. Тут был полумрак. Груня дотянулась до свисающей с низкого потолка лампочки и закрутила её до конца в патроне. Лампочка вспыхнула, старушка отдёрнула руки.
Сени наполовину завалены дровами. Груня оглядела своё богатство, взяла, обхватив одной рукой, несколько поленьев и пошла в избу. «Ох, спасибо добрым людям, хоть дровами пособили разжиться. Ну что бы я делала без них. совсем бы загнулась, – говорила она, сваливая дрова у печки, – а дрова-то хороши, сухие».
Она отобрала пару берёзовых поленьев и сунула их в печку. «Пусть эти сначала зачнутся, остальные пока повременю. Боязно сразу класть, труба уж сколько нечищеная. Может в трубе загореться. С лежанкой совсем страху натерпишься. В печке хоть труба пролётная, помене опасность-то, а там… И помочь некому».
Старушка дотянулась до фанерной полочки, прибитой к дощатой перегородке рядом с печкой, взяла коробок спичек. Полка при этом жалобно заскрипела, покосилась, покачалась и снова заняла прежнее положение. Груня осуждающе посмотрела на полку. «Того и гляди отвалится, что тоды прикажешь делать… а какая полочка удобная, всегда всё под рукой. Сломается – полдня спичек не отыщешь.
Теперь, чтобы запалить дрова, сложенные в печке, нужен был клочок бумаги. Тётка Груня огляделась вокруг. Её взгляд упал на лежащий на столе листок календаря, что оторвала сегодня. «Вот его надоть на разжигу, а то уж сколько дён газет не несут – нечем печку растоплять. Как было хорошо: и прочтёшь, что делается, и есть что в печку сунуть».
Заковыляла к столу. Добралась. Взяла листок трясущейся рукой и направилась к печке. Прежде чем чиркнуть спичкой и сунуть листок в печку, Груня снова приблизила его к самым глазами и, напрягая их, прочитала. Прочитала и обомлела. «Суббота! Ох, вот дура, как я сразу не подметила. Светлый день ведь сегодня – суббота. Сынок должен обязательно приехать. Сегодня уж точно должен Серёженька приехать».
Ноги сделались ватными, не держали. Груняша схватилась одной рукой за лохматую верёвку, натянутую вдоль печки, второй оперлась о тумбочку, придвинутую к печке, и рукой задела лежащий на тумбочке кухонный нож. Нож завертелся на скользкой клеёнке и со звоном упал на некрашеный пол. Тётка Груня даже забыла про ноги. Отпустила верёвку и прижала руки к груди. «Серёженька приедет – примета верная, уж сколько раз проверенная! Губы с утра тоже чешутся, к чему бы, думала. Сынок сегодня приедет, всё к этому».
Через несколько минут за дырявой заслонкой печи, танцуя на поленьях, гудело пламя, а Груняша уже сидела у окна и не сводила глаз с тропинки, ведущей от дороги к дому.
Её предсказания сбылись в полдень. Она уже отошла от окна, потеряв надежду на приезд сына, и собиралась топить лежанку, успокаивая себя тем, что, значит, сегодня Серёженьке некогда, да и снегу сколько навалило, и вдруг уловила гул мотора. Груня замерла, прислушиваясь, повернулась правым ухом к окну – на левое она была глуха.
Явственно доносился шум мотора. «Серёженька, Серёженька. сынок, – запричитала она, спеша к окну. Она не ошиблась на этот раз. Материнское сердце не могло её подвести. За соседним домом на дороге что-то грохотало и скрежетало. – Никак трактор… дом проклятый всё заслонил».
Старушка прилипла к окну, боясь пропустить то, что сейчас должно появиться из-за соседнего дома. Вот из-за бревенчатой стены вылез тупой красный нос мощного бульдозера с надвинутым забралом отвала. Затем, грохоча, выбрасывая в морозный воздух тучи копоти, показался сам бульдозер, он не спеша, переваливаясь с боку на бок, сметал со своего пути сугробы снега с проложенным по ним санным путём.
В Груняшину душу закралось сомнение. Она уже готова была расплакаться, и только материнское предчувствие удерживало её от этого. Вслед за бульдозером из-за соседнего дома плавно выкатилась чёрная «Волга». Груня смотрела и не верила своим глазам. Она столько лет ждала этого дня и сейчас онемела от радости. Ей не верилось, что настал этот счастливый день, что она дожила до него. «Сынок! Сынок!» – вырвалось из груди. Она вскочила, но тут же снова плюхнулась на лавку. Ноги не держали. Груня заплакала, заплакала от радости, слёзы побежали по сморщенным щекам. Да, да, настоящие слёзы, слёзы радости, а сердце замирало от испуга. Груня так боялась, чтобы это не оказалось сном, чтобы эти машины не проехали мимо. Слёзы потекли ещё сильнее, когда она увидела, что бульдозер повернулся и, злобно рявкнув, направился прямо к её дому. За ним следовала «Волга». Груня кое-как встала и, опираясь сначала на лавку, затем на стол, с трудом переставляя больные ноги, спешила добраться до двери. «Надо встретить. Ох, гость дорогой… сыночек, Серёженька. Надо дверь открыть!»
Груня выбралась в сени, отодвинула задвижку и толкнула наружную дверь. Дверь даже не шелохнулась – снаружи её завалило снегом. Напрягая все свои силы, она давила на дверь. Плакала. Ей казалось, что её не найдут за этой толстой дверью, уедут, но дверь не поддавалась.
Бульдозер подъехал к самой калитке, тяжёлый, сверкающий на солнце отвал уткнулся в покосившийся забор. Мотор рявкнул ещё раз, содрогнув машину, и замолк. Открылась дверца, и над кабиной появилась голова бульдозериста в замасленной шапке. Его красные глаза, а также свинцовые мешки под ними и посиневший нос говорили о том, что он находился под властью зелёного змия.
«Ух ты, мать твою, куда занесло. И какого чёрта согласился. Поспать не дали. Одно утешение – хоть трёшницу получу. Всё не задарма», – бубнил он себе под нос, рассматривая маленький кирпичный домик с покосившимися окнами.
Сзади неслышно подкатила «Волга». Щелчок открывшихся дверей вернул к действительности привалившегося к дверце тракториста. Он, мыча какой-то старинный мотивчик, оторвал лоб от стекла и обернулся. Из открытых по обе стороны машины дверей вылезли двое мужчин уже пожилого возраста. Вид чёрной «Волги» и этих явно не местных представительных людей немного прояснил воспалённый спиртными парами мозг. Теперь он снова вспомнил, зачем здесь оказался. «Дело сделано, деньги на бочку», – пробубнил он, снимая с головы шапку, – чёрные как смоль волосы никак не вязались с его возрастом. Он повертел шапку в руках, осматривая её осоловелыми глазами. – Дрянь папаха, давно выкинуть пора, – закинул шапку за спинку сиденья и, оставив кабину незакрытой, спрыгнул в снег. Ноги чуть ли не совсем скрылись под снегом, это и удержало его от падения. Он замахал руками, балансируя, и устоял. Крепко выругался и, прижав ко лбу ком снега, направился, придерживаясь одной рукой за траки гусениц, к чёрной машине, где стояли двое мужчин. Подошёл к худощавому, в очках с золочёной оправой, в нём угадывался старший. Тот уже распахнул чёрную шубу и извлекал из глубокого внутреннего кармана бумажник.
Бумажник оказался кожаным и довольно внушительных размеров. Тонкие, белые с синевой пальцы очкарика, как прозвал его про себя тракторист, начали быстро перебирать в нём банкноты. Осторожно ухватившись двумя пальцами за уголок, он извлёк красненькую бумажку.
– Вот вам, Фёдор! – он немного замялся, – извините, запамятовал, как вас по батюшке.
– Это всё равно, а вообще-то батю Николаем звали, значит, Фёдор Николаевич, – перебил его тракторист – при виде десятки он протрезвел ещё сильнее.
– Спасибо, Фёдор Николаевич, извините нас за беспокойство, – проговорил очкарик, одной рукой протягивая десятку, а второй пряча бумажник в недра шубы.
– Мало. Ещё зелёненькую, – комкая шуршащую бумажку в кулаке, пьяным, но твёрдым голосом сказал тракторист.
– Что мало? – замер удивлённо очкарик. Его попутчик только улыбнулся.
– Как что, грошей мало. Ещё зелёненькую, и квиты.
– Ну, знаете, Фёдор Николаевич! – начал владелец бумажника.
– Не знаю! – отрубил тот и, не давая сказать слова, начал перечислять, загибая пальцы: во-первых, сегодня выходной, человек, можно сказать, отдыхал, имею я право отдохнуть после работы, или я не человек? – он обвёл стоящих перед ним презрительным взглядом, во-вторых, вчера был праздник, и я, можно сказать, болею. Или я не имею права болеть? Ведь я человек. Значит, имею право, – он покачнулся и снова обвёл приезжих, теперь уже самодовольным взглядом. А ко всему я ещё расчищу площадку, чтобы вам развернуться.
Сказав последнее, он ухмыльнулся, состроив раскосые глаза, довольный собственной сообразительностью. Третий довод оказался самым существенным. Очкарик огляделся вокруг – по обе стороны от проторённой дороги снежная целина. Бульдозеру выбраться из снежного плена не составляло труда, а вот легковой машине это непросто. Он молча извлёк бумажник и удовлетворил требования Фёдора насчёт зелёненькой.
Тот молча откланялся, поблагодарил их, насколько позволяло весёлое состояние.
– Когда нужно, мы завсегда рады! – крикнул он из кабины.
Бульдозер смахнул гнилой заборчик, опустил отвал и вгрызся в снег, расчищая площадку для разворота. Он уже громыхал, исчезая за соседним домом, а двое всё так же стояли в одних позах и смотрели на маленький домик из красного кирпича, окружённый хороводом старых могучих берёз.
– Сергей Иванович, это ваш? – тихо спросил обладателя золочёных очков его попутчик.
– Да, Василич.
– А там есть кто-нибудь?
– Мать должна быть, – нараспев ответил он.
– Так пойдёмте же быстрее, – захлопывая дверцу машины, поторопил водитель.
– Подожди, Василич, дай насмотреться на родное гнездо. Даже не помню, когда здесь был в последний раз… А всё так же, только берёзы вымахали, да и дом, вроде, ниже стал, всё равно что в землю врос. А остальное всё, как и было, только обветшало, – он снял блеснувшие на солнце очки и растёр руками глаза, хотя слёз на них не было и они даже не блестели.
– Сергей Иванович, долго здесь будем? Может, воду слить? Вдруг прихватит радиатор.
– Не нужно. К вечеру дома надо быть. Так что особо засиживаться не придётся. Завтра с утра на совещание. Эх, дела, дела… Ну ладно, пошли, прихвати портфель.
Первое, что бросилось в глаза, когда они подошли к покосившейся приоткрытой калитке, – это нетронутое покрывало снега до самой двери. Высокий сугроб доходил чуть ли не до ручек. Снег пересекали в разных направлениях кошачьи следы, были и крысиные наброды, но следов человека не было. Все это, словно незримая стена, остановило их. Стояли и молчали. Первым решился заговорить шофёр.
– Даже пара из трубы нет, – тихо проговорил он, смотря себе под ноги.
– Странно, я ведь писал.
– Когда?
– Точно не помню, – замялся Сергей Иванович. – Он втиснул голову в дужки очков и придвинул их поближе к глазам, чтобы никто их не видел.
– А ты получал ответы?
– Да нет. Мать не писала писем, хотя она читала хорошо.
– Где же она?
– Надо спросить в том доме. Видишь, из трубы дым идёт, – Сергей Иванович кивнул головой в сторону. – Пойдём, спросим, где она, жаль бульдозер упустили, на кладбище без него не сунешься.
Почему же тебе никто не сообщил?
– Ладно, хватит об этом. Пошли, – в голосе Сергея Ивановича исчезли редкие нотки сожаления, а снова появились повелительные, он повернулся, встряхнулся, словно освобождаясь от ненужных переживаний, и размеренно зашагал к машине. – Зря только время потеряли.
От этих последних его слов Василича всего передёрнуло. Прежде чем идти за своим начальником, он пробежал взглядом по покосившейся кирпичной стене но, не обнаружив ничего утешительного, повернулся и пошёл к машине. Сергей Иванович уже сидел, развалившись на заднем сиденье. Не успел Васильевич сделать и двух шагов, как его остановил какой-то странных звук. Он огляделся вокруг – искал глазами, что могло издавать такие звуки. Вроде как где-то лёд крошат или палкой по дереву стучат – непонятно, но странные звуки не прекращались.
Он снова взглянул на дом.
Из покосившегося мутного окна на него смотрели глаза. Человеческие глаза, они метались из стороны в сторону. Он замер в нерешительности – уж не мираж ли это, но глаза не исчезали, словно светлячки, они горели за тусклыми стёклами. «Да это же стучат в стекло! Там есть кто-то!» Там человек!» – чуть не закричал он и кинулся к дому.
Он падал, завязая в глубоком снегу, вскакивал и снова бежал. Он снёс калитку – ржавые петли не выдержали его плотного тела и мигом отлетели, освободив путь. Теперь он ясно видел за двойными стёклами старушечье лицо. Старушка била бессильными руками в стекло, плакала навзрыд, не в силах закричать или сломать прозрачную преграду.
Увязая в сугробе, водитель добрался до двери, схватился за ржавое стальное кольцо и дёрнул всем телом. Кольцо вылетело вместе с куском доски, а дверь даже не сдвинулась с места. Василич со злостью отбросил кольцо в сторону, оно, звонко стукнувшись о кирпичную стену, отлетело с дребезжащим стоном в высокий сугроб под окном. Лихорадочно работая ногами и руками, он отгребал снег от двери. Снег был сухой, лёгкий, он снова сыпался ручьями, запружая дверь. Когда крыльцо перед дверью немного освободилось, он снял кожаные перчатки и оглянулся.
Сергей Иванович не спеша, уверенной походкой шёл к дому. Бобровая шапка была низко надвинута на глаза, и смотрел он не на дом, а себе под ноги, словно считал шаги.
– Тут живут, Сергей Иванович! Тут кто-то живёт! – крикнул ему запыхавшийся от быстрой работы Василич.
Тот только поднял глаза, затем снова уткнулся в землю, через несколько шагов встрепенулся, что-то поняв, и прибавил шаг.
Впившись до боли ногтями в выступающий край двери, Василич попробовал открыть её. Его лицо налилось краской от напряжения, кончики пальцев посинели, казалось, вот-вот сорвёт ногти.
Наконец дверь сдалась.
В появившийся проём он просунул руку и с силой рванул дверь на себя. Перед ним возникла маленькая старушка. Сколько ей лет, на первой взгляд, трудно было определить. Можно было дать лет семьдесят или восемьдесят, а можно и девяносто, а то и все сто. Впавшие прозрачные глаза словно скрывались под низко надвинутым толстым зелёным платком. Сверху на платок была натянута какая-то выцветшая круглая шапочка непонятного цвета. Одной рукой она держалась за косяк стены, а второй опиралась об открытую дверь в избу. Она, казалось, висит на руках, ноги будто бы не её – как у ватной куклы, немного подвёрнуты назад и в разные стороны. Окинув всю её взглядом, Василич снова посмотрел на её маленькое морщинистое лицо, закутанное в плотное сукно. Только теперь он увидел, что по морщинам бегут слёзы.
Бесшумно открывался сухой сморщенный рот, она хотела что-то сказать или закричать, но не могла, словно рыба, выброшенная из воды, глотала ртом воздух.
– Серё…Серё…Серёженька! Голубочек мой! Сынок! – наконец вырвалось у неё.