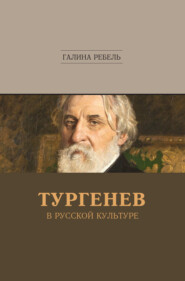скачать книгу бесплатно
В письме от 14 (26) ноября 1847 года Тургенев заверяет В. Г. Белинского: «Я работаю усердно, ей-богу. <…> Вообще я не намерен тратить время по-пустому» [ТП, 1, с. 264, 265]. Через месяц в письме к Полине Виардо от 19 ноября (1 декабря) 1847 года сообщается уже и о первых несомненных результатах: «Я много работаю. Один из моих друзей <…> показал мне письмо Гоголя, в котором этот человек, вообще смотрящий свысока и требовательный, говорит с большими похвалами о вашем покорном слуге. Одобрение со стороны этого “мастера” доставило мне большое удовольствие» [там же, с. 269]. Речь здесь идет о письме Н. В. Гоголя к П. В. Анненкову, в котором содержалось действительно лестное для Тургенева упоминание о нем: «Изобразите мне <…> портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке: как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем замечательный и обещает большую деятельность в будущем» [см.: ТП, 1, с. 574].
В письме от 14 декабря 1847 года содержится нехарактерное для сдержанного в самооценках и творческих излияниях Тургенева описание самого творческого процесса: «Всю эту неделю я почти не выходил из дома; я работал усиленно; никогда еще мысли мои не приходили ко мне в таком изобилии; они являлись целыми дюжинами. Мне представлялось, что я несчастный бедняк-трактирщик в маленьком городке, которого застигает врасплох целая лавина гостей; он в конце концов теряет голову и совсем уже не знает, куда размещать своих постояльцев. <…> Издатели моего журнала, наверно, вытаращат глаза, получая один за другим объемистые пакеты! Надеюсь, что они будут довольны. Я смиренно молю моего ангела-хранителя (говорят, у каждого есть свой ангел) продолжать быть ко мне благосклонным, а сам со своей стороны буду продолжать усердно работать. Что за прекрасная вещь – работа» [там же, с. 446–447]. И далее вновь и вновь в письмах читаем: «Работаю с невероятным рвением… Надеюсь, это не будет потерянным временем» [там же, с. 449]; «Не прошло ни одной недели без того, чтобы я не отослал толстого пакета моим издателям» [там же, с. 450].
При этом, с одной стороны, Тургенев очень скромно оценивает результаты своего труда. В письме к Белинскому он называет «Бурмистра» и «Контору» «отрывками», в письме к Полине Виардо, в ответ на предложение Луи Виардо стать переводчиком рассказов, пишет: «Мои маленькие новеллы <…> недостойны чести быть переведенными; но предложение, которое мне делает el senor Луи, слишком лестно, чтоб я не согласился на него теперь же, имея в виду воспользоваться им позднее, когда наконец напишу что-нибудь хорошее, если Аполлон захочет, чтоб это счастье меня посетило» [там же, с. 452]. Эту требовательность к себе и самокритичность – чрезмерную, вплоть до само- умаления, – он сохранит на всю жизнь.
С другой стороны, он требователен не только к себе, но и к тем, кто доносит плоды писательской деятельности до читателя. В упомянутом выше письме Белинскому содержится немаловажный для понимания скрупулезности и ответственности Тургенева-автора упрек редакции «Современника» за небрежность предпечатной обработки материалов: «Ни в одном трактирном тюфяке, ни в одной женской кровати нет столько блох и клопов, как опечаток в “Современнике”. В моих “Отрывках” я их насчитал 22 важных, иногда обидно искажающих смысл <…>. Сие есть неприятно. Нельзя ли хоть на будущий год взять корректора?» [там же, с. 264]. По поводу возможной (несостоявшейся) публикации «Нахлебника» в «Отечественных записках» Тургенев просит А. А. Краевского: «Только, ради бога, чтобы не было опечаток» [там же, с. 316]. Последнюю часть «Дневника лишнего человека» сопровождает той же просьбой: «позаботиться о том, чтобы не было опечаток». Текстуальные уточнения и просьбы поясняет: «Извините мелочность этих замечаний; я почему-то воображаю, что “Дневник” хорошая вещь, и желал бы видеть ее – выставленную лицом, как говорится» [там же, с. 380].
Как уже сказано, письма и художественные произведения Тургенева этого периода составляют два параллельных, кажущихся независимыми друг от друга потока. Письма заполнены темами, порожденными французской жизнью, французским и европейским искусством, а в художественных сочинениях Тургенева, написанных в Париже и Куртавнеле, живет, дышит, страдает и, вопреки всему, излучает умиротворяющее тепло далекая даже от русских столиц, деревенская, провинциальная, помещичье-крестьянская Россия.
В рецензии 1846 года на сочинения В. И. Даля – «Повести, сказки и рассказы казака Луганского» – Тургенев сформулировал необходимые качества подлинно народного писателя: сочувствие народу, родственное к нему расположение. Именно таким отношением пронизаны «Записки охотника». Именно таким народным писателем был парижско-куртавнельский отшельник, скиталец и «космополит» Тургенев.
Благотворно сказалась и умиротворяющая дистанция: то, что вызывало гнев, ярость, негодование при непосредственном контакте, на расстоянии уравновешивалось лирическим и ностальгическим чувством, но при этом точность и трезвость оценок не только не утрачивались, но, по-видимому, усиливались.
В интересующий нас период Тургеневым не только создаются конкретные замечательные произведения, но и намечаются тенденции, прокладываются дальнейшие пути развития русской литературы в целом:
– утверждается художественный метод, в рамках которого верность действительности органично и естественно сочетается с поэтичностью, романтической приподнятостью (если Достоевский, не довольствуясь общепринятыми формулами, называл свой метод фантастический реализм, то в случае Тургенева можно прибегнуть к альтернативной метафоре: романтический реализм);
– художественный мир заселяется множеством разнообразных «нелитературных» лиц (прежде всего крестьян) – и подаются они не в качестве объектов «физиологического» исследования, а в качестве полноценных эстетических объектов и субъектов собственного слова и судьбы;
– предъявляется ставший одним из ключевых в национальной культуре человеческих типов – «лишний человек»; впоследствии Тургеневым же он будет разделен на две контрастные разновидности – Гамлет и Дон Кихот, между которыми, тяготея к тому или иному полюсу со всеми их подвидами, располагается большинство героев-мужчин русской литературы XIX века;
– в «Дневнике лишнего человека» задана тенденция раскрытия «неведомых глубин человеческой души»[24 - Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 370.], которая станет основополагающей в творчестве Достоевского; а в размышлениях о природе сценического искусства Тургенев сформулировал те принципы изображения внутреннего мира человека, которые легли в основу художественного психологизма в его собственном творчестве, а затем в творчестве А. П. Чехова;
– в драматургических опытах Тургенева закладываются основы психологической драмы, в которой интерес сосредоточен не столько на внешнем течении событий, сколько на переживаниях, которые сами герои не хотят или не могут перевести в «текст», – именно здесь, в частности в «Месяце в деревне», обнаруживаются истоки будущего психологического театра.
В одном из писем Виардо есть подробное изложение «странного сна», в котором Тургенев обнаруживает себя птицей и переживает восторг свободного полета: «Не могу вам передать тот трепет счастья, который я почувствовал, развертывая свои широкие крылья; я поднялся против ветра, испустив громкий победоносный крик, а затем ринулся вниз к морю, порывисто рассекая воздух, как это делают чайки» [там же, с. 492]. Исследователи справедливо усматривают здесь прообраз лирико-фантастической повести «Призраки», но сон этот безусловно символичен и в биографическом плане. Под спудом повседневной жизни с ее текущими заботами и интересами происходило главное событие этого периода: большой художник расправлял крылья и отправлялся в свободный – это слово очень важно, принципиально важно при разговоре о Тургеневе – в свободный творческий полет.
В январе 1847 года из России уезжал начинающий автор, который сам еще весьма смутно представлял свое предназначение. Правда, он регулярно публиковал стихи, а рассказ «Хорь и Калиныч» в вышедшем перед самым его отъездом первом номере «Современника» произвел на публику большое впечатление. Но стихи были «текущей» литературой, а не событием, а «Хорь и Калиныч» – всего лишь маленький рассказ, точнее даже очерк. О той роли, которую Тургенев сыграл в самом выходе журнала, публика не знала – хотя, с точки зрения Анненкова, он «был душой всего плана, устроителем его <…>. Некрасов совещался с ним каждодневно, журнал наполнился его трудами. В одном углу журнала блистал рассказ “Хорь и Калиныч”, как путеводная звезда, восходящая на горизонте; в “Критике” явился его пространный разбор драмы Кукольника, и наконец множество его заметок было разбросано в последнем отделе журнала»[25 - Там же. С. 386–387.]. Анненков забыл упомянуть о том, что здесь же, в первом номере некрасовского «Современника», был опубликован рассказ «Петр Петрович Каратаев». Но и это еще не меняло статус начинающего автора.
В 1850 году Тургенев вернулся в Россию не только состоявшимся писателем, но и сложившимся мыслителем, оформившейся личностью. «Вообще говоря, – писал Анненков, – Европа была для него землей обновления: корни всех его стремлений, основы для воспитания воли и характера, а также развития самой мысли были в ее почве и там глубоко разветвились и пустили отпрыски. Понятно становится, почему он предпочитал смолода держаться на этой почве, пока совсем не утвердился в ней»[26 - Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 331.].
Три года Тургенев «жил в воздухе высокой культуры»[27 - Зайцев Б. К. Далекое. С. 191.]. Три года дышал одним воздухом с любимой женщиной и на все, что его окружало, что дано ему было увидеть, познать и создать, смотрел сквозь призму своей любви.
«Нет места на земле, которое я любил бы так, как Куртавнель» [ТП, 1, с. 498], – пишет он Луи Виардо в преддверии отъезда в Россию.
Множество раз в разных контекстах повторенное «милый Куртавнель» – это, конечно, не столько «место», сколько символ и код любви, о которой почти всегда говорится опосредованно. «…Когда я говорю то, что думаю, я рискую вас огорчить, а говорить о чем-нибудь другом мне трудно», – признается Тургенев Полине Виардо и вновь и вновь изливает душу признаниями в любви – к Куртавнелю: «Сирень сейчас очень хороша. Всё в Куртавнеле покажется мне прекрасным накануне моего отъезда, милый Куртавнель!» [ТП, 2, с. 334]. В этом «очарованном замке» [ТП, 1, с. 482] все освящено и озарено ею. «Помните тот день, когда мы глядели на ясное небо сквозь золотую листву осин?..» [там же, с. 447], – грустит Тургенев в Париже. «Итак, я в Куртавнеле, под вашим кровом!» – докладывает он по прибытии в усадьбу, которую воспринимает как живое существо: «Куртавнель мне представляется довольно сонным; дорожки сада во дворе поросли травой; воздух в комнатах был сильно охрипший (уверяю вас) и в дурном настроении; мы его разбудили. Я распахнул окна, ударил по стенам, как, я видел, однажды делали вы; я успокоил Кирасира, который, по своей привычке, бросался на нас с яростью гиены, и когда мы сели за стол, дом уже снова принял свой благожелательный и радушный вид» [там же, с. 474].
Здесь, в обществе семейства Виардо-Сичес, он мог не только предаваться мечтам о Полине наедине с собой, но и говорить с ее родственниками о ее гастролях, ее успехах, ее таланте, вместе с ними по многу раз читать вслух ее обращенные ко всем письма, а потом, в одиночестве, вновь и вновь вчитываться в строки, адресованные только ему, и лелеять надежды, и грустить: «Не знаю, что со мной, но я чувствую себя хвастуном… а в сущности я совсем маленький мальчуган; я поджал хвост и сижу себе смирнехонько на задке, как собачонка, которая сознает, что над ней смеются, и неопределенно глядит в сторону, прищурив глаза как бы от солнца; или, вернее, я немножко грустен и немножко меланхоличен, но это пустяки, я все-таки очень доволен, что нахожусь в Куртавнеле, обои цвета зеленой ивы в моей комнате радуют мой взор, и я все-таки очень доволен» [там же, с. 474].
Ничто и никогда не станет для него желаннее, чем эта трудная жизнь «на краюшке чужого гнезда» [ТП, 3, с. 145], никто и ничто не сможет вытеснить из его сердца однажды и навсегда избранную женщину.
Неизбежный отъезд в Россию все откладывался и откладывался, но вот Тургенев в последний раз в мае 1850 года приезжает в Куртавнель: «Скажу откровенно, я счастлив, как ребенок, что снова нахожусь здесь. Я пошел поздороваться со всеми местами, с которыми уже попрощался перед отъездом. Россия подождет – эта огромная и мрачная фигура, неподвижная и загадочная, как сфинкс Эдипа. Она поглотит меня немного позднее. Мне кажется, я вижу ее тяжелый, безжизненный взгляд, устремленный на меня с холодным вниманием, как и подобает каменным глазам. Будь спокоен, сфинкс, я вернусь к тебе, и тогда ты можешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки! Но оставь меня в покое еще на несколько времени! Я возвращусь к твоим степям!» [ТП, 1, с. 497].
И уже из родных степей, из деревни Тургенево, глядя вслед улетающим на юг журавлям, осенью 1850 года Тургенев пишет супругам Виардо: «А вы, дорогие мои друзья, будьте вполне уверены, что в тот день, когда я перестану нежно и глубоко любить вас, я перестану дышать и существовать» [там же, с. 503].
В декабрьском письме того же 1850 года из Москвы Тургенев пересказывает виденный несколько дней назад сон: «Мне казалось, будто я возвращаюсь в Куртавнель во время наводнения. Во дворе, поверх травы, залитой водою, плавали огромные рыбы. Вхожу в переднюю, вижу вас, протягиваю вам руку; вы начинаете смеяться. От этого смеха мне стало больно…» [там же, с. 419–420].
Тот Куртавнель, в котором он гостил в 1848–1850 годах, действительно ушел под воду.
Но своим человеческим привязанностям и заданным в три французские года жизненным и творческим стратегиям Тургенев останется верен всю жизнь. Как неизменно верен будет тому, что составляло важнейшую часть его личности, его существования, что было для него способом самореализации и «предметом страсти»[28 - Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 332.], – русской литературе.
Глава вторая
Голос из темноты:
«Живые мощи» и живые души
Рассказ «Живые мощи» вошел в цикл «Записки охотника» только в издании 1874 года, вместе с рассказами «Конец Чертопханова» и «Стучит!».
Появление в «Вестнике Европы» в 1872 году рассказа «Конец Чертопханова» в качестве завершения опубликованного еще в 1848 году рассказа «Чертопханов и Недопюскин» встревожило П. В. Анненкова, который был убежден в том, что «Записки охотника» – сложившийся цикл и в этом качестве не подлежит никаким трансформациям. По признанию самого Тургенева, «никто сильнее и дельнее не говорил в этом смысле, как П. В. Анненков» [ТП, 10, с. 34], категорически восставший против каких бы то ни было дополнений к «Запискам охотника»: «Пусть они остаются в неприкосновенности и покое после того, как обошли все части света. Ведь это дерзость, не дозволенная даже и их автору. Какая прибавка, какие дополнения, украшения и пояснения могут быть допущены к памятнику, захватившему целую эпоху и выразившему целый народ в известную минуту. Он должен стоять – и более ничего. Это сумасбродство – начинать сызнова “Записки”» [там же, с. 480]. И хотя Тургенев вроде бы соглашался с тем, что «не следует трогать “Записок охотника”» [ТП, 26, с. 34], так как «продолжения большею частью бывают неудачны» [ТП, 9, с. 343], хотя советы Анненкова были для него всегда «чрезвычайно дельны и драгоценны» [ТП, 10, с. 109] и обычно он им следовал, однако на сей раз не внял призывам и увещеваниям, не согласился оставить «Записки охотника» застывшим «памятником», «вскрыл» сложившуюся целостность и дополнил цикл тремя рассказами, которые привнесли в книгу очень важные дополнительные акценты.
Рассказ «Живые мощи» появился на свет едва ли не случайно. История его создания изложена автором в письме к Я. П. Полонскому от 25 января (6 февраля) 1874 года, которым в качестве подстрочного примечания сопровождалась первая публикация: «Любезный Яков Петрович! Желая внести свою лепту в “Складчину” и не имея ничего готового, стал я рыться в своих старых бумагах и отыскал прилагаемый отрывок из “Записок охотника”, который прошу тебя препроводить по принадлежности. Всех их напечатано двадцать два, но заготовлено было около тридцати. Иные очерки остались недоконченными из опасения, что цензура не пропустит; другие – потому что показались мне не довольно интересными или нейдущими к делу. К числу последних принадлежит и набросок, озаглавленный “Живые мощи”. – Конечно, мне было бы приятнее прислать что-нибудь более значительное; но чем богат – тем и рад. Да и сверх того, указание на “долготерпение” нашего народа, быть может, не вполне неуместно в издании, подобном “Складчине”» [ТС, 4, с. 603].
По-видимому, именно предпосланный рассказу эпиграф из Тютчева – «Край родной долготерпенья – / Край ты русского народа», – призван был реабилитировать «нейдущий к делу» отрывок и подчеркнуть тематическое соответствие «Живых мощей» сборнику «Складчина», изданному в 1874 году с целью оказания помощи пострадавшим от голода в Самарской губернии.
Переписка по поводу «Живых мощей» свидетельствует о том, что Тургенев на сей раз более чем когда бы то ни было низко оценивал свое создание.
Выражая в письме к Полонскому от 18 (30) декабря 1873 года согласие и желание прислать материал для затевающегося сборника, он сетует: «Готового ничего нет, мозги высохли, и ничего из них не выжмешь», – и конкретизирует характер своего предполагаемого участия: «Придется покопаться в старых бумагах. Есть у меня один недоконченный отрывок из “Записок охотника” – разве это послать? Очень он короток и едва ли не плоховат – но идет к делу, ибо в нем выводится пример русского долготерпения» [ТП, 10, с. 182].
Через месяц, в письме к Анненкову, подтверждает и уточняет приведенные выше намерения и оценки: «Вам известно предприятие, затеянное в Петербурге для голодающих самарцев – я разумею “Складчину”. Прилагаемая статейка – мой посильный взнос. Я воспользовался уцелевшим наброском и оболванил его. У меня еще в памяти золотые слова, сказанные Вами насчет продолжения “Записок охотника” – но, во-1-х) у меня не было решительно ничего готового – во-2-х) это не продолжение, а восстановление старого и брошенного. От этого оно, конечно, не лучше. Прочтите – и скажите откровенно: можно ли послать, не компрометируя себя. Во всяком случае не замедлите обратной высылкой. “Складчина” эта, вероятно, будет набита сплошь да рядом подобной шелухой – она непременно получит значительное fiasco – но отступаться теперь поздно» [ТП, 10, с. 189–190].
Но как только эта «безделка», это «хиленькое произведение» [там же, с. 195, 203] выйдет из-под авторской опеки и заговорит с читателем напрямую, возникнет непредвиденный, неожиданный и до сих пор до конца не объясненный эстетический эффект, засвидетельствованный самим Тургеневым: «Оказывается, что “Живые мощи” получили “большой преферанс” – и в России, и здесь; я от разных лиц получил хвалебные заявления – а от Жорж Занд даже нечто такое, что и повторить страшно: “Tous nous devons aller а l’ecole chez vous”[29 - «Мы все должны идти к вам на выучку» – фр.] – и т. д. Ничего, оно приятно; странно, но приятно» [там же, с. 225]; «Узнал я с удовольствием, что моя вещица в “Складчине” понравилась; перевод ее, помещенный в “Temps”, произвел тоже некоторое впечатление – так что я даже недоумеваю: что это за птицу я высидел, не думавши, не гадавши?» [там же, с. 228].
Надо сказать, что недоумения такого рода для Тургенева не новость, он не раз признавал тот факт, что «сам <…> автор <…> судья плохой – особенно на первых порах. Он видит не только то, что сделал – но даже то, что хотел сделать; а публика – может быть – ничего не увидит» [ТП, 9, с. 184] – или, добавим мы, увидит гораздо больше.
В данном случае примечательно и другое: в то время как «в русской критике “Живые мощи” не получили сколько-нибудь значительного отклика»[30 - Долотова М. Л. Примечания // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 28 т. Сочинения в 15 т. Т. 4. М.–Л.: Изд-во Академии наук, 1963. С. 606.], иноязычные коллеги Тургенева, прочитавшие рассказ в переводе, отреагировали очень активно, эмоционально и восторженно, хотя при этом – лаконично и общо. Жорж Санд, судя по приведенным выше словам, говорит о собственно эстетическом впечатлении. Ипполит Тэн в одном из примечаний к своей книге «Старый порядок» акцентирует содержательный аспект: «Что касается современных литературных произведений, состояние средневековой верующей души великолепно обрисовано <…> Тургеневым в “Живых мощах”» [ТП, 10, с. 601]. Формулировка И. Тэна не противоречит авторской, а расширяет ее: долготерпение безусловно является органичной компонентой «состояния средневековой верующей души». Но – об этом ли рассказ? Или точнее: исчерпывается ли он этим? сводится ли к этому?
Иными словами, нас интересует, что за птицу Тургенев высидел на сей раз, какие мелодии были усилены или привнесены в цикл рассказом «Живые мощи», как скорректировано общее звучание созданной Тургеневым грандиозной симфонии народной жизни.
Между эпиграфом и первыми словами повествования возникает неявное по существу, но очевидное формально диалогическое напряжение: «Край родной долготерпенья – / Край ты русского народа!» – «Французская поговорка гласит…» [выделено мной. – Г. Р.]. Однако внедрение «чужой», иноземной оптики тотчас нейтрализуется погружением в привычный для читателя «Записок охотника» географический, природный, социальный, эмоционально-психологический контекст. И с рассказчиком читатели уже сроднились, и старый знакомец Ермолай тут как тут, и место действия – все та же Орловская губерния, Белевский уезд, и, как и в других рассказах цикла, сюжетным первотолчком, побудительной причиной описанных событий и встреч оказываются вполне рутинные охотничьи заботы.
В рамках характерной для вводной части каждого из «отрывков»[31 - Так сам Тургенев нередко называл свои рассказы.] обыденной интонации и сюжетной «необязательности» вдруг возникает сильная эмоциональная нота: «Но для охотника дождь – сущее бедствие». Однако через несколько фраз, знаменующих промежуток между дождливым днем и наступившим вслед за ним солнечным утром, от «бедствия» не остается и следа: «все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня» – и охотника (героя и рассказчика в одном лице) охватывает отрадное чувство, столь же сильное и однозначное, как вчерашняя досада: «Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом <…>. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно – всею грудью…»
Вводную часть рассказа можно было бы назвать лирическим зачином, но здесь нет лежащей на поверхности композиционной вычлененности, нарочитой структурированности. Рассказ, и это характерно для всего цикла, начинается словно с полуслова и ведется как попутное, незамысловатое и не замысленное специально изложение происходящего. Контрастные эмоциональные всплески погружены в описания природы, рассуждения об условиях охоты перемежаются разговором о поисках пристанища, каковым, по подсказке всеведущего Ермолая, становится «матушкин хуторок», точнее, флигелек при нем – «нежилой и потому чистый». Через мимоходом брошенные детали просвечивает социальная проблематика: потенциальный наследник не знает границ и размеров материнских владений, столь они велики; чистота нежилого флигеля намекает на грязь в жилой крестьянской избе. Но за всем этим предметно-поэтическим рядом встает образ вольного странствия (охоты) молодого, беспечного барина, которому сущим бедствием представляется застигнувший его врасплох дождь и который легко приходит в приподнято-счастливое состояние духа при перемене погоды и при виде омытой ливнем и осиянной солнцем природной красоты.
Сюжетный толчок, разворачивающий рассказ в сторону его главного события, происходит почти незаметно: бесцельно, от нечего делать охотник прошел по узенькой тропинке, ведущей к пасеке, заглянул в амшаник, ничего толком не разглядев, повернул было прочь – но из темноты сарайчика его окликнули:
«– Барин, а барин! Петр Петрович! – послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.
Я остановился».
С этого оклика и с этой остановки, собственно, и начинается сюжетное движение, преображающее мимоходом набросанные в начале рассказа темы и существенно уточняющее картину мира, предъявленную в «Записках охотника» в целом.
Хотя может показаться, и нередко кажется, что смысл рассказа, то есть встречи скитальца-охотника и прикованной к своему ложу «мумии» Лукерьи, лежит на поверхности.
Она – страдалица, терпеливица, воплощение христианской кротости и смирения. Он – сочувственный слушатель и добросовестный свидетель-рассказчик, собиратель человеческих типов и жизненных коллизий.
Она органично вписывается в типологический ряд простодушных и цельных крестьянских натур, представленных на страницах цикла и в свое время навеявших М. Гершензону наблюдение, которым, в силу своего нарочитого и подневольного социологизма, пренебрегла советская литературоведческая школа: «Тургенев с любовью и доброй – не злой – завистью смотрит на жизнь Хоря и Калиныча, Касьяна и Филофея, дивится на эту жизнь, “текущую, как вода по болотным травам”, и рассказывает о ней так, чтобы и мы видели, как она крепка, мудра и счастлива»[32 - Гершензон М. О. Мечта и мысль И. С. Тургенева. М., 1919. С. 68.]. Однако и очевидными социальными смыслами пренебрегать не стоит, тем более что он (и это настойчиво подчеркивается многократно повторенным обращением) – барин, сочувственно выслушавший исповедь бывшей дворовой и, уже в качестве автора записок, задавший рассказу в том числе и «социологическую» интенцию – «край родной долготерпенья».
Впрочем, эпиграф, как уже говорилось, открывает путь и к намеченному Ипполитом Тэном осмыслению созданной Тургеневым картины как воплощения «средневекового сознания». Если «средневековое» расширить до вневременно?го (религиозный тип сознания), то мы получим сжатую формулу современных интерпретаций, которые преимущественно нацелены на выявление в тургеневском произведении религиозно-мистического дискурса[33 - См.: Барковская Н. В. Житейское и житийное в рассказе И. С. Тургенева «Живые мощи» // Филологический класс. 2002. № 7; Костромичёва М. В. Мифологический контекст в рассказе И. С. Тургенева «Живые мощи» // Спасский сборник. 2005. № 12; Иоанн (Шаховской). Торжество человечности (тургеневский образ) // Мир православия. 2006. № 1 (http://www.baltwillinfo.com/mp01-06/mp-12p.htm).].
Однако из «темноты», в которую, откликнувшись на зов, окунается охотник, от неожиданной, случайной и в то же время неизбежной и необходимой встречи исходит такое сложное, многосоставное, такое мощное, всепроникающее излучение, что вопрос о смыслах рассказа явно не закрывается упомянутыми трактовками, при всей их адекватности и справедливости.
Название, как и эпиграф, обращает читательский взор и мысль к героине – ее физическому («живые мощи») и душевному («долготерпенье») состоянию. Но остающийся в сюжетной тени рассказчик по-своему не менее значимый герой произведения, чем Лукерья. На поверхности текста настойчивым пунктиром запечатлена его непосредственная реакция на живую мумию, в которую превратилась былая красавица, певунья, плясунья, хохотунья: «Я приблизился – и остолбенел от удивления»; «Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами»; «…я с изумлением глядел на нее». У него простодушно вырываются поневоле жестокие слова: «Это, однако же, ужасно, твое положение!»; «И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?». Мысль о том, что это «полумертвое существо» собирается запеть, внушает ему «невольный ужас», который при звуке слабенького голоса, исходящего откуда-то из недр едва теплящегося, скрытого внешней окаменелостью нутра, сменяется острым состраданием: «Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце». Он искренне хочет, но не в состоянии помочь и – не может «не подивиться вслух ее терпенью».
Лукерья же всем своим существом тянется навстречу: «уж и рада же я, что увидала вас»; она хочет и просит внимания: «Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастием моим, – сядьте вон на кадушечку, поближе, а то вам меня не слышно будет…», – но рассказывает о своей беде «почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие». Она не стремится разжалобить собеседника: «Как погляжу я, барин, на вас <…> очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право!»; она не ждет от него помощи: «Барин, не трогайте меня, не возите в больницу»; «Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу».
Она хочет только одного: быть услышанной. И он не просто слушает – в какие-то моменты он словно сливается с ней, принимая, впуская в себя не только ее слова, но и ее состояние: «Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел».
При этом физическая неподвижность героев, внешняя статичность сцены не просто компенсируется, но – вытесняется в восприятии читателя неослабевающим сюжетным напряжением. Исповедь Лукерьи – рассказ в рассказе, перемежаемый вопросами, репликами и комментариями охотника, – приковывает внимание, поражает, завораживает самым своим характером (простодушием, наивностью, естественностью, спокойствием, доверительностью) в сочетании с «фантастическим» содержанием, в котором с той же простотой и органичностью, которая присуща интонации рассказа, переплетены обыденное, житейское и – мистическое, страшное, трагическое.
От ужасающего внешнего облика иссохшей, безвозрастной героини повествование движется к воспоминанию героя о недавнем молодом обаянии Лукерьи, от него – к рассказу о причине несчастья: «Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин», – охотно откликается Лукерья на недоформулированный вопрос. Незаметно, без какой бы то ни было аффектации, оставаясь в пределах той же ситуативно корректной и экономной стилистики, рассказ начинает набирать глубину. Причина несчастья – случай, странный, необъяснимый, слепой и глухой. Вышла ночью послушать соловья, почудилось, что окликнул кто-то голосом жениха Васи, спросонья оступилась, упала с рундучка, сильно ударилась и – словно оборвалось что-то внутри, а после этого стала чахнуть. В сущности, причины нет. Некого винить. Не на кого сетовать. Какая-то таинственная сила столкнула Лукерью с ее жизненной колеи и ввергла в медленное физическое умирание. Крепостная неволя, барская жестокость, грубость нравов, даже периодически настигающий русскую деревню неурожай и голод как реальный первоисточник сюжета рассказа – все это ни при чем, все это никакого отношения не имеет к случившемуся. Барыня, правда, в рассказе фигурирует, но в роли отнюдь не злодейской, а вполне пристойной, даже гуманной: лекарям больную показывала, в больницу посылала, потом, правда, убедившись, что вылечить не удастся, а «в барском доме держать калек неспособно», отослала Лукерью к родственникам в деревню, а те, в свою очередь, – спровадили ее в этот амшаник; да и Вася тем временем женился на другой – «не оставаться же ему холостым». За этой обыденной, привычной реальностью грозно маячит нечто неведомое, недоступное пониманию, не поддающееся анализу и объяснению. Герой Достоевского в подобной ситуации ощущает себя «выкидышем на празднике жизни», и бунтует против людей и против Бога, и требует к себе внимания и любви. Лукерья излагает свою беду без сетований и отчаянных вопрошаний, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие, – просто рассказывает, а чуть позже, мимоходом, поясняя свою сдержанность в молитве, приоткрывает и источник стоицизма, с которым переносит несчастье: «Да и на что я стану господу богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест – значит, меня он любит. Так нам велено это понимать». Вот оно, «средневековое сознание» и проистекающее из него «долготерпенье».
Тут следует заметить, что слово «терпение» в письмах Тургенева встречается многократно, чаще всего автор использует его применительно к самому себе и практически всегда – с горьким привкусом. Например, рассказывая своему английскому переводчику Вильяму Рольстону о сильнейшем приступе подагры, настигшем его в Спасском и не отпускающем вот уже больше двух месяцев, Тургенев пишет: «Всё это не очень весело – но что делать? Терпение! Эта добродетель имеет то особое достоинство, что можно отличиться, проявляя ее – даже когда к этому нет ни малейшего желания; вынужденная добродетель» [ТП, 10, с. 448].
«Живые мощи» можно прочитать как изображение этой добродетели, очищенной от принудительности, реализуемой с благодарной покорностью богу за отмеченность, избранность, тем более что в случае Лукерьи действительно следует говорить уже не о терпении, а о смирении. «Рассказ “Живые мощи”, – пишет архиепископ Сан- Францисский Иоанн Шаховской, – <…> открывает ярко одну из основных истин христианства: смиренность духа человеческого – есть не слабость, а необычайная сила человека… Мир древний, языческий не знал этой истины. И современный материализм, обезбоживающий человечество и обожествляющий горделиво-тщеславного, пустого человека, – этой истины тоже не знает. Только религиозный или с подлинно художественной интуицией человек способен увидеть эту истину высшей человечности, как увидел ее Тургенев в лице многотерпеливой русской женщины»[34 - Иоанн (Шаховской). Торжество человечности (тургеневский образ).]. Смирение Лукерьи, безусловно, имеет под собой религиозную образно-поэтическую опору, которая явственно обозначается в ее «хороших», «чудных», «удивительных» видениях-снах, не получивших, между прочим, одобрения батюшки, отца Алексея, полагавшего, что «видения бывают одному духовному чину». Сельский священник, похоже, почувствовал религиозную «избыточность», «неканоничность» Лукерьиных мечтаний, надрелигиозную, внерелигиозную устремленность ее духа, универсальность его усилий, его состояния.
Именно в эту универсальную сферу выводят рассказ вопросы охотника: «И как ты все лежишь да лежишь?», «И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?». В ответ она признается, что «сперва очень томно было», потом «привыкла, обтерпелась», поняла, что «иным еще хуже бывает» (все-таки и ей, в ее положении, с ее поразительной стойкостью, важно чувствовать себя не самой обездоленной, не самой крайней на обозримом поле бытия), и, наконец, приоткрывает дверцу в тайная тайных своей души. Рассказав про священника, который не видел смысла ее исповедовать, а в ответ на готовность покаяться в «мысленном грехе» даже рассмеялся, Лукерья признается: «Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна, <…> потому я так себя приучила: не думать, а пуще того – не вспоминать. Время скорей проходит».
Не думать, судя по предыдущим и последующим разъяснениям героини, – значит погрузиться в чистое, ничем не замутненное, не отягощенное созерцание, раствориться в окружающем мире, в доносящихся издали звуках и запахах, в редких, но тем более значительных событиях вторжения в амшаник нежданных желанных гостей: ласточки, курочки с цыплятами, зайца, спасающегося от собак, – просто слушать, вдыхать, смотреть: «…так лежу я себе, лежу-полеживаю – и не думаю; чую, что жива, дышу – и вся я тут». Даже темнота, в которую погружается все вокруг зимой, не страшна, потому что, «хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!». Как заклинание, звучит этот настойчивый рефрен: не думать. И какое очевидное сознательное усилие стоит за ним… Сказать, что Лукерья в своем созерцательном безмыслии уподобилась окружающему природному миру, будет неправдой, во-первых, потому, что природный мир существует по совершенно другим законам и вообще не знает проблемы подавления работы сознания, во-вторых, потому, что такое состояние всепоглощающего, обращенного вовне созерцания в данном случае явно носит не спонтанный, а целенаправленный характер, то есть является результатом волевого и мысленного усилия. На «умную молитву» исихастов это тоже не похоже. Что же значит Лукерьино не думать? Еще раз воспроизведем самую первую формулировку: «не думать, а пуще того – не вспоминать». То есть – не думать о себе. Не сравнивать себя прошлую и себя сегодняшнюю. Не рвать себе душу обидой и отчаянием. Не истязать себя невозвратными потерями. Не заниматься самоугрызением, самокопанием. Не задаваться невыносимыми вопросами: зачем? за что? почему? Не думать – то есть думать о другом, и не просто думать о другом, а – думать по-другому: наплывающими впечатлениями, предельным смещением мысли к восприятию и переработке внешних сигналов, сосредоточением на «чужом», не имеющем отношения к собственным переживаниям. Это может быть сочувствие к птицам как к добыче охотников: «Какие вы, господа охотники, злые!» – или к односельчанам: «А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить – крестьяне здешние бедные – хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет… Они бы за вас богу помолились… А мне ничего не нужно – всем довольна». И только в самом конце свидания, уже вслед уходящему навсегда собеседнику у героини вырывается поминальный стон: «Помните, барин, – сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах, – какая у меня была коса? Помните – до самых колен! Я долго не решалась… Этакие волосы!.. Но где же было их расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрезала… Да… Ну, простите, барин! Больше не могу…»
Очевидно, что думать совсем по-другому и о другом, тем более совсем не думать, не получается – напротив, экстремальность ситуации подталкивает Лукерью к таким мыслям, которые вряд ли пришли бы ей в голову, живи она как прежде, но – страдание, одиночество, самососредоточение взращивают в малограмотной затворнице интеллектуальный плод, который философия и литература считают одним из высших своих достижений. Охотник предлагает Лукерье перевезти ее в хорошую городскую больницу – она не просто отказывается, а молит не трогать ее, оставить в покое. Он, сбитый с толку горячностью отказа, отступает, извиняясь и оправдываясь: «Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал…» И вот тут она и говорит едва ли не самое важное, по крайней мере самое неожиданное и необычное из того, что слетает с ее уст:
«– Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите – а лежу я иногда так-то одна… и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я – живая! И чудится мне, будто что меня осенит… Возьмет меня размышление – даже удивительно.
– О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?
– Этого, барин, тоже никак нельзя сказать; не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было – не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди – ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья».
Это почти дословно, почти в тех же выражениях – Тютчев! Только не «специальный», процитированный в эпиграфе, а – сокровенный, затаенный, «ночной»:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью – и молчи!..
Услышь Лукерья эти строки, она, скорее всего и в подтверждение сказанного поэтом и ею самой, не узнала бы своих «таинственно-волшебных дум», тем более не поняла бы латинский императив «Silentium!», но говорит она именно об этом: о невозможности поймать, запечатлеть, выразить словом сокровенное, о летучей неуловимости мысли, о непреодолимости границ индивидуального сознания, о неизбежной чуждости другого, о неумолимой безысходности и горько-сладкой отраде одиночества. И даже форма ее высказывания – цепь вопросов с выводом-назиданием в конце – тютчевская: «…кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай!» – «Как сердцу высказать себя? / Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? / Мысль изреченная есть ложь. / Взрывая, возмутишь ключи, – / Питайся ими – и молчи».
То, о чем в одном из самых знаменитых, самых глубоких своих стихотворений говорил один из величайших русских поэтов, то, что станет зерном философии экзистенциализма и будет многосложно и многопланово разрабатываться в научных и художественных сочинениях двадцатого века, – как бы невзначай, к слову и в череде других слов, высказывает русская крестьянка. При этом тургеневская героиня ни на минуту, ни на йоту не выходит за пределы своего образа, своих «полномочий» и «компетенций», так что тютчевский «прототекст» не только не идентифицируется сходу, но наверняка и для самого Тургенева, прекрасно знавшего и очень любившего Тютчева, не был актуален в момент написания рассказа. Это совпадение. Из числа тех совпадений, которые обнажают, вскрывают сущности.
У Е. Баратынского есть замечательные строки о том, что самые замысловатые, торжественные истины – «плод науки долгих лет» – восходят к народным формулам-афоризмам и легко сворачиваются в них вновь:
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем:
Какой же плод науки долгих лет?
Что наконец подсмотрят очи зорки?
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум,
Что? точный смысл народной поговорки.
Тургенев в «Живых мощах» фиксирует именно тот таинственно-непредсказуемый, целомудренно-прикровенный момент, когда в полутьме заброшенного сарайчика посреди лесостепной России – в самой сердцевине народного бытия, в живой беседе двух случайно сошедшихся, очень разных и в то же время соединенных незримою неразрывной связью людей рождается выношенная личным опытом универсальная формула человеческого бытия.
В то же время эта сцена вызывает и другую ассоциацию, просится в другую параллель – с «последними» диалогами героев Достоевского. Однако у Достоевского участники диалогических встреч (в которых тоже, между прочим, как правило, доминирует один голос при вспомогательной роли второго) не только объективно даны как герои мировой мистерии, но и субъективно ощущают себя таковыми, нередко прямо формулируя вселенскую значимость происходящего: «Мы два существа, и сошлись в беспредельности… в последний раз в мире» [Д, 10, с. 195]. В рассказе Тургенева все очень сдержанно, просто, без котурнов, пафоса, патетики, без каких бы то ни было прямых апелляций к вечности и претензий на откровение-открытие, но по существу – это именно разговор в беспредельности и в последний раз в мире.
Слабый, шелестящий голос Лукерьи преодолевает неподвижную мертвенность заключающей его телесной оболочки, тесноту и узость окружающего физического пространства и вырывается из этого двойного плена на простор вольного, отрадного для сердца, распрямляющего и облегчающего душу человеческого общения, в свободный, никакими канонами и рамками не стиснутый прощальный полет – над миром, который Лукерья любит чуткой, благодарной, благословляющей любовью, и над собственной иссохшей плотью, в которую голосу этому вскоре суждено вернуться, чтобы замолкнуть уже навсегда. Но пока, преодолевая немощь, с трудом переводя дыхание, жадно устремившись навстречу вопрошающему вниманию собеседника, она вышептывает накопившиеся мысли и чувства, пересказывает сны, смеется, и даже поет, и вновь и вновь повторяет как-то особенно, необычно, призывно-доверительно и даже родственно звучащее в ее устах обращение «барин», за обыденной ритуальностью и социальным содержанием которого мерцает, накапливаясь и усугубляясь, какой-то важный дополнительный смысл.
По собственным словам героини, добрые люди ее «не оставляют»: девочка-сиротка захаживает, цветы приносит; священник наведывается; «девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города»; по-видимому, навещают и родственники. Но никто из них не утоляет ее потребности излить душу, выплеснуть накопившееся, свободно, без опаски быть непонятой и прерванной на полуслове высказаться – исповедаться. Девочка мала, священник твердо придерживается «чина» и Лукерью остерегает от вольностей; девушки и странницы приходят не слушать, а «гуторить»; крестьяне удручены бедностью, заняты тяжким трудом, обременены заботами. Коллективное их мнение о Лукерье запечатлено в прозвище «Живые мощи» и в отзыве хуторского десятского, который, с одной стороны, выражает удовлетворение тем, что от больной «никакого не видать беспокойства», ни ропота, ни жалоб – «тихоня, как есть тихоня», а с другой стороны, опасливо дистанцируется от столь необычного, пугающего явления: «Богом убитая, – полагает он, – стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее – нет, мы ее не осуждаем. Пущай ее!».
Она-то считает, что грех от нее сам «отошел», – а люди думают: наказана за грехи. Она ведь тут чужая, возле господ жила, не крестьянским трудом, а услужением, бог весть, как жила, – «но мы в это не входим», «пущай ее»… Для доктора, который тоже приезжал сюда однажды, она всего лишь диковинный случай, предмет узкопрофессионального честолюбивого интереса: «Я его прошу: “Не тревожьте вы меня, Христа ради!” Куда! Переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: “Это я для учености делаю; на то я и служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь”. Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь – мудрено таково, – да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли».
Вот отсюда, из этого опыта, из многолетнего не столько даже физического, сколько душевного одиночества и родилось понимание: «…кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет?». И тем не менее, сами эти слова адресованы другому, они и родились-то сейчас, в эту минуту, в присутствии другого, они к нему обращены и только в этой обращенности, адресности обретают форму и смысл.
«Барин, а барин! Петр Петрович!» – окликнула Лукерья вслепую заглянувшего в амшаник и уже было двинувшегося прочь охотника. Так началась эта встреча, этот разговор, для которого она, кажется, и жила, и лежала здесь, и ждала, – чтобы, высказавшись наконец без остатка, до того предела, за которым уже нету слов или не нужны слова, высказавшись-исповедавшись, облегчив душу от земного бремени и земных привязанностей, высвободить ее навсегда из увядшего, изнемогшего тела. И единственным, кто оказался способен дать ей эту возможность, кто не только слушал, но и слышал; кто деликатно поощрял и поддерживал исповедание, а не застопоривал его встречными замечаниями; кто смог вобрать, впитать в себя и сберечь обращенные к нему слова, – более того, единственным, кто, узнав, что в последний день жизни Лукерья слышала колокольный звон, исходивший не от церкви, а «сверху», понял, что «она не посмела сказать: с неба», и сказал это за нее, – этим единственным был тот, кого она звала, величала и даже ласкала словом барин.
Что позволило ему, совсем молодому человеку (ей в момент встречи не более тридцати, а он в пору ее цветущей молодости был шестнадцатилетним мальчиком), здоровому, сильному, беспечному скитальцу-охотнику, который не знает большего бедствия, чем нежданный-негаданный дождь, не просто мимоходом прикоснуться к настоящей, непреходящей беде, а – остановиться, замереть перед ней, открыть ей свое сердце, утолить чужую тоску по вниманию, пониманию, сочувствию? То и позволило, что подспудно содержится в привычно трактуемом как обозначение социального статуса слове «барин», – высочайший уровень культуры, раздвигающей не только интеллектуальные, но и жизненные горизонты, помогающей поверх, помимо личного опыта слушать и слышать, воспринимать и понимать другого. Иоанн Шаховской пишет о том, что «только религиозный или с подлинно художественной интуицией человек способен увидеть эту истину высшей человечности, как увидел ее Тургенев в лице многотерпеливой русской женщины»[35 - Иоанн (Шаховской). Торжество человечности (тургеневский образ).]. Однако рассказчик в «Живых мощах», как и в «Записках охотника» в целом, дан не как художник и, конечно, не равен биографическому автору, при всей близости к нему, рассказчик – охотник и барин, и оба эти определения имеют не только узко специальный, но и расширительный, метафорический смысл.
Охота предстает здесь как вольница, как погружение в свободный, нерегламентированный естественно-природный мир, как череда новых встреч и новых лиц, как открытие и собирание историй и смыслов. В заключительном рассказе цикла, «Лес и степь», есть такие строки: «Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, f?r sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату…» В автографах после слов «вы все-таки любите природу» стояло: «и свободу» [ТС, 4, с. 457].
А «барство» здесь оказывается не только социальным статусом, но и особым состоянием духа и души, которое легитимизирует и приумножает даруемое охотничьим времяпрепровождением чувство свободы, поощряет и развивает вменяемость, адекватность взаимодействия с миром. К тому же барин всегда «старший», «ответственный» – не по возрасту, а по положению; «батюшка», «отец родной» – так часто обращались к барину мужики[36 - См., например, рассказ «Бурмистр», хотя здесь слово «барин» – прямо противоположного данному в «Живых мощах» этического и культурного наполнения.]. Лукерья апеллирует кбарину именно в этих – высоких, «благородных» смыслах слова.
Социальное в «Записках охотника» традиционно прочитывается (и действительно чаще всего подается в самом произведении) как более или менее антагонистическое противостояние помещиков и крестьян, но оно отнюдь не сводимо к этой очевидной, лежащей на поверхности оппозиции, ибо одно из главных действующих лиц «Записок» – охотник – олицетворяет собою не водораздел, а связующее звено, не границу, а буфер. Он охотник за неуловимой ничем, кроме художества, «дичью» – текучей плотью и мерцающими смыслами бытия, странник по своему душевному складу и по возложенному на него сюжетному заданию, и – рассказчик, данный в непрерывном движении от одной истории-ситуации к другой, на пересечении человеческих судеб-миров, которые благодаря ему в совокупности своей складываются в объемную, многоплановую, многоликую и многокрасочную картину национальной жизни, представляющую единый – при всей своей пестроте, сложности и разнообразии – национальный мир. Рассказчик являет собою одновременно причастность и дистанцированность, доброжелательность и непримиримость, пристальность, скрупулезность, дотошность и – артистизм, непоказной, неброский, но несомненный и неизменный артистизм в отношении к жизни. Какой бы обыденно-непритязательной эта жизнь ни была, в восприятии и при участии Рассказчика самые заурядные картины обретают поэтическую притягательность и глубину.
«“Записки охотника” – поэзия, а не политика»[37 - Зайцев Б. Далекое. М.: СП, 1991. С. 183.], – писал Зайцев. «Записки охотника» – «любовная книга»[38 - Гершензон М. Мечта и мысль И. С. Тургенева. М.: Т-во «Книгоиздательство писателей в Москве», 1919. С. 68.], считал Гершензон.
«Записки охотника» – книга о любви. Любовью к природе, к России, к русским людям, как мягким, ласкающим солнечным светом, залиты ее страницы. Уже современники почувствовали, что «Записки охотника» – это своеобразный «анти-Гоголь»: живые души. Другие современники и потомки, особенно советские, усиленно педалировали социальный смысл книги – и он в ней, несомненно, есть, и он очень важен. Здесь есть горечь, печаль, гнев, есть неприязнь и презрение к тем, кто мутит источники жизни, нарушает гармонию бытия. Разумеется, чаще всего это помещики: кому больше дано, с того и спрос. Но и тургеневские крестьяне – из живой жизни, а не с лубочных картинок и не из умозрительных представлений. Социальное здесь дано в естественной пропорции с экзистенциальным в очень корректном эстетическом освещении и соотношении.
Русская проза начиналась с назидательно-сентиментального: «И крестьянки любить умеют». В знаменитой карамзинской формуле, при несомненном ее гуманизме, ощущается специальное усилие, направленное на подавление предубеждения: и крестьянки… Следующий шаг сделал А. С. Пушкин, который обогатил воспитанную на французских романах дворянскую барышню Татьяну Ларину народным мироощущением, тем самым придав ее характеру и личности значительность и глубину, и в конечном счете выстроил ее судьбу по народному (няниному, материнскому), а не по «французскому» образцу. Он же шутливо, но отнюдь не шутя обыграл тему социального мира и гармонии в «Барышне-крестьянке», где каждый органично и естественно смотрится на своем месте, а нарушение социальной границы приводит к взаимообогащению, но необходимость границы не только не оспаривается, но подтверждается, эстетически легитимизируется.
В «Записках охотника» крестьянский и помещичий миры сосуществуют на равных, естественно и органично, «как в жизни», без костюмированной игры, без утраты собственной идентичности, без перевода в символико-метафорический план – живут как живут, смотрят друг другу в лицо, говорят друг с другом, противостоят друг другу и раскрываются – в сравнении, во взаимодействии, в живом процессе сосуществования, запечатленном Тургеневым с поразительной тонкостью, деликатностью и достоверностью.
В «Записках охотника» невозможна фраза «и крестьянки любить умеют» – здесь это само собой разумеется. Неслучайно Белинский сразу по выходе первых рассказов цикла отметил, что Тургенев «зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил»[39 - Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М.: Худож. лит., 1982. С. 400.]. В «Записках» нет отдельного народа – крестьян, а есть единый национальный мир, единый народ, представленный разными лицами, разными типами, разными социальными группами.