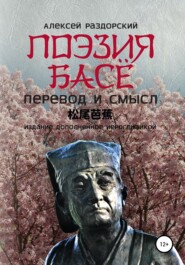
Полная версия:
Поэзия Басё. Перевод и смысл. Издание, дополненное иероглификой
Наиболее известные переводы:
«На голой ветке ворон сидит одиноко, сумерки осени».
Только «одиночество» домыслено, в тексте его нет. Далее – «На мёртвой ветке чернеет ворон, осенний вечер». В оригинале «чернеет» – нет. «Каркая, ворон к ночлегу уселся на ветку сухую». У Басё ворон не каркает. И фраза «на голом суку» тоже спорная, так как сук и ветка – разные понятия и слова. У Басё здесь «эда» – «ветка».
Я в своём переводе попытался передать саму атмосферу хайку, навеянную моральным состоянием поэта:
Сидит на ветке ворон,Мертва её кора,Он осень провожает —Прошла её пора.Сопоставив смысл строчек с биографическим календарём поэта, я решил, что в этом хайку он передаёт мучившие его тогда мысли – «омертвевшая» поэзия «данрин» его уже не интересует. Он думает о создании своего собственного стиля и готов попрощаться с прошлым, перед тем как начать новый творческий этап.
Так оно и получилось. Через некоторое время, пройдя ещё испытания бытовыми невзгодами – неурожай, голод, потоп, неурядицы в личной жизни, он становится учителем своей собственной школы поэзии. А в те несколько лет он писал мало и лишь издавал отдельные хайку в общих сборниках поэтов.
В этой части я привёл только два самых известных хайку, перевод которых не представляет сложностей даже для начинающих японоведов. Таких «простеньких» у Басё совсем немного. Но легко догадаться, что даже и их перевод вызывает бурные споры маститых знатоков японского языка.
Далее я буду приводить свои переводы хайку Басё разных периодов его жизни и творчества, не концентрируя внимание на несущественных расхождених с вариантами других авторов. Есть у Басё очень много хайку, по-настоящему сложных для толкования. На них я и буду иногда останавливаться отдельно в тех случаях, когда комментарии действительно необходимы для понимания исконного смысла оригиналов.
Глава третья. Первые стихи
Каким же был первый стих Басё и с чего началось его поэтическое творчество? Рассказ начну с некоторых фактов из жизни поэта, объясняющих стиль его ранних сочинений.
Биографические данные Басё известны до мельчайших подробностей и опубликованы во многих книгах исследователей творчества поэта, поэтому в своих комментариях я постараюсь как можно меньше касаться истории, больше обращая внимание на сами переводы. Но тем не менее о некоторых фактах я всё же считаю нужным рассказать, поскольку они важны для понимания жизненной философии поэта и его произведений.
Как известно, Басё родился в 1644-м году – на пороге смены двух эпох правления императоров, когда реальной властью в стране владел могущественный самурайский клан Токугава, а императоры превратились в символические личности-фигуры, которым народ поклонялся как посланникам богов. В 17-м веке они менялись очень часто, поэтому считать годы по названиям эпох было не так просто. За 50 лет жизни Басё сменилось шесть императоров и восемь эпох.
Третьему ребёнку в семье Мацуо Ёдзаэмона – второму мальчику после старшего брата Мацуо Хандзаэмона дали детское имя Кинсаку, а полностью официальное имя звучало Мацуо Тюдзаэмон Мунэфуса. Сама фамилия Ёдзаэмон означала, что когда-то её носители имели отношение к сословию самураев – охранителей императорского двора. Подробно система формирования кланов и их история расписаны в древней летописи «Хэйкэ моногатари», изданной у нас в замечательном переводе И. Львовой и А. Долина под названием «Повесть о доме Тайра» (Москва, изд. Художественная литература, 1982 г.).
Согласно табелю о рангах, отец Басё относился к разряду «мусокунин» – самураев-крестьян «дзисамурай», которым власти не выделяли земельные наделы, но ежегодно выплачивали денежное пособие в виде прожиточного минимума и выдавали рисовые пайки на каждого члена семьи. Их ещё называли «дзиси» и «коси». Воины-крестьяне могли когдато занимать более высокое положение, но теряли его с переходом на сельский образ жизни, покидая службу при дворе. Своего рода «силовики» в деревне. Получая пособия и рисовые пайки, они как военнообязанные могли быть призваны для участия в военных сражениях.
Безземельным отец семейства Мацуо Ёдзаэмон стал по той причине, что в какое-то время он покинул выделенный ему земельный надел в родном уезде Ига и поселился в соседнем уезде Уэно. Их родственники, другие Ёдзаэмоны, остались в Ига, где проживали ещё десять семей с такой же фамилией. Среди них были и зажиточные самураи, владевшие сравнительно большими участками земли. В то время стоимость земли определялась не размерами или площадью участка, а количеством собираемого с надела земли риса. Один «коку» равнялся 150 кг риса. У семьи Басё участок земли был вовсе не самым маленьким – давал пять тысяч коку в год, а надел самого богатого из Ёдзаэмонов – семь тысяч коку. В понятие «иэ» – «дом», в то время вкладывалось ещё и значение «родовая усадьба». Как и другие Ёдзаэмоны, семья поэта имела даже отдельное место на родовом кладбище местного храма-молельни Айдзэн-ин.
Мать будущего поэта тоже принадлежала к самурайскому сословию, точнее, к одной из потерявших влияние знатных ветвей «Момоти», в фамилии которых фигурировал иероглиф «то» – японское слово «момо» – «персик». По-видимому, относившийся с особым почтением к предкам матери Басё в один из многочисленных псевдонимов включил тот самый иероглиф «то» – «Тосэй», подчёркивая знатокам своё непростое происхождение.
Фамилия отца, хоть и обозначала его принадлежность к самураям, всё же не считалась знатной, так как в её написании используется иероглиф «левый», что не позволяло носителю фамилии претендовать на высокое положение среди других самурайских сословий, поскольку выше статусом были те, у кого в фамилии был указан иероглиф «правый».
Когда-то было очень легко судить о статусе лица по его фамилии. «Киндзаэмон» – по иероглифу «близкий» – охраняли трон, «мондзаэмон» – защищали «мон» – ворота замка. Сидевшие от императора справа «правые» – «удзаэмоны», служили воинами, а «левые» – «садзаэмоны», кормили и обслуживали двор. Конечно, я немного утрирую, но, в принципе, система фамильных суффиксов самураев фактически являлась табелем о рангах иерархического подчинения, подобно воинским званиям в армии.
Начитанный и прекрасно знавший историю своей страны Басё всё это понимал и старался не афишировать полное имя Мацуо Тюэмон, тем более, что в то время самурайский титул можно было уже приобретать за деньги. Чем именитее купленный титул, тем выше была ставка взноса. Система присвоения самурайских фамилий и званий полностью себя изжила и была упразднена во время реставрации (революции) Мэйдзи (конец шестидесятых годов девятнадцатого века), фактически уничтожившей самурайское сословие как класс. С того времени фамилии-звания уже не регистрировались и потеряли статусную значимость.
Из фактов интересно и то, что отец Басё, хотя и вернулся с семьей в родной уезд Ига, не значился владельцем усадьбы согласно книгам учёта земельной недвижимости, как и сам фамильный дом Ёдзаэмонов, и собственное жилище Басё в Ига. И не совсем понятно, почему поэт перед своей кончиной просил не хоронить его вместе с другими Ёдзаэмонами на родовом кладбище в Айдзэн-ин в Ига, а завещал отвезти своё тело в Оцу и упокоить рядом с могилой Минамото Ёсинака на территории храма Гитюдзи.
Старший брат поэта, ставший фактически главой дома «Мацуо Ёдзаэмона» после ранней кончины отца семейства, везде подписывался полученной с рождения самурайской фамилией Мацуо-Хандзаэмон и, судя по всему, этим гордился. Отец семейства Мацуо Ёдзаэмон умер, когда будущему поэту – второму сыну Кинсаку-Мунэфуса, было всего 13 лет. Воспитание младшего брата, обучение каллиграфии, истории и философии легло на плечи старшего брата, как и вся ответственность за содержание семьи из семи человек – матери, четырёх девочек и мальчика Кинсаку. И тем не менее Басё учился и каллиграфии, и рисованию, и китайской философии, имел возможность читать книги, что тогда было доступно далеко не каждой семье. Правда, всё это легко объясняется тем, что официально отец поэта имел статус учителя каллиграфии – «тэнараи», а этим старинным словом обозначали учителя и письма, и рисования, и наставника чтения и толкования старинных книг.
Отец неплохо зарабатывал на обучении детей элитных семей уезда, но не забывал передавать богатые знания и своим детям. Читая строчки о том, что Басё родился в местечке Ига уезда Уэно, можно подумать, что семья проживала где-то в отдалённом захолустье, но на самом деле уезды Ига и Уэно были влиятельными центрами власти сёгуната Токугава. И проживали в том районе очень знатные люди, в том числе и глава уезда Ига – Тодо Синситиро – высокопоставленный самурай тайсё с глубокими корнями, наследник знаменитого предводителя самураев Тодо Такатора.
После ранней смерти отца титул «учитель каллиграфии» унаследовал Хандзаэмон – старший брат Басё. По его рекомендации будущий поэт попал в услужение в семью сына главы уезда Ига Ёситада Кадзуэ. 18-летнему Басё предложили работу в «пищеблоке» то ли поваром, то ли управляющим всей кухней, но он быстро сдружился со своим молодым хозяином, увлекавшимся поэзией, как и его властный отец. Молодому господину Ёситада тогда было 22 года, но он уже имел поэтический псевдоним «Сэнгин» и приглашал платного учителя для совместного сочинительства «хайкай» – мастера поэзии Китамура Кигин, авторитетного «хайдзина», лучшего ученика самого Мацунага Тэйтоку – основателя наиболее влиятельной школы хайкай «Тэймон хайкай».
Китамура Кигин считался очень образованным человеком своего времени – по профессии врач, историк, поэт и, очень важно, – один из первых толкователей самых значимых для истории литературы старинных японских летописей, сказаний и сборников песен – «Гэндзи моногатари», «Тоса никки», «Исэ моногатари». Сочинения Китамуры можно найти и сейчас не только в архивах истории и поэзии, но даже и на полках книжных магазинов.
Молодой хозяин ценил знания Басё, его умение рисовать тушью и мастерство каллиграфии, поэтому разрешал «помощнику по кухне» присутствовать на уроках совместного сочинительства с наставником Китамурой. Сын самурая в то время сам писал стихи и публиковал их в сборниках поэтов.
Для Мунэфуса (имя Басё после совершеннолетия) всё тогда складывалось совсем неплохо, но в 1666-м году в господском доме случилась страшная трагедия. Молодой хозяин внезапно умер в возрасте 25 лет. Причины скорой кончины Ёситада неизвестны, но испытавший шок и полный переживаний Басё покинул дом покровителя. Известно только то, что он активно помогал вдове хозяина обустроить могилу молодого самурая у стены замка Уэно.
В своё время представительный замок Уэно был достопримечательностью провинций Ига и Уэно, но в эпоху Мэйдзи был уничтожен в ходе кампании по искоренению самурайских кланов. Несколько десятилетий назад его отстроили заново, сохранив отдельные фрагменты старых каменных стен. Впоследствии и сам уезд Уэно был упразднён и слился с уездом Ига. В таком названии этот город в префектуре Миэ существует и сейчас.

Покинув дом господина, Басё всё же остался в Ига и поселился в родовом поместье Ёдзаэмонов, теперь уже принадлежавшем старшему брату, где продолжил любимое творчество. Занятия с учителем Китамурой он тоже не бросил, только теперь платил за всё сам до тех пор, пока его наставник не предложил Басё-Мунэфуса отказаться от дальнейшего обучения и начать самостоятельное поэтическое творчество. Китамура ощутил в Басё состоявшегося хайдзина и иногда даже доверял ему присутствовать вместо себя на «совместных сочинениях» для зачитывания перед собравшимися «ку» уважаемого учителя. В те годы Басё-Мунэфуса несколько раз публиковался в местных сборниках поэтов уезда Уэно и даже посещал собрания поэтов в Киото.
В 1672-м году, через несколько лет после завершения обучения, Басё под настоящим именем Мунэфуса-си выступил в качестве редактора и издателя своего первого поэтического сборника шуточных стихов «Каи-оои». Это была довольно оригинальная книжка, своим названием намекавшая на раковину двустворчатого моллюска, открывая которую можно было рассматривать её левую и правую часть одновременно, как бы сравнивая – какая из них смотрится лучше. Сам написав предисловие, Мунэфуса выступил в этой книжке и в роли судьи, оценивающего своими комментариями правый и левый стих на страничке. Он же определял и победителя пары поэтов. Для участия в сборнике Басё выбрал 60 «ку» 32-х знакомых молодых поэтов и разделил их попарно на 30 конкурсных номеров.
Идея, конечно, интересная, но, в принципе, была не нова, так как в таком виде состязаний, только «вживую», традиционно проводились конкурсы на лучшее сочинение песен – «ута-авасэ», когда в присутствии уважаемого поэта соревновались молодые сочинители. Но такая форма книги явно указывала на то, что Басё в свои 29 лет был уже хорошо известным и авторитетным поэтом в Ига и мог брать на себя роль наставника начинающих поэтов.
Сборник этот нельзя назвать выдающимся по содержанию, поскольку были выбраны «ку», типичные для хайкай того времени – смакование удовольствий, развлечений, наслаждение сакэ и лёгкая эротика. Можно сказать, шуточное чтиво для взрослых. Мацуо Мунэфуса в этом сборнике тоже выставил на конкурс «ракушки» парочку своих «ку» лёгкого содержания.
Один – игра со словом «Дзимбэй» – персонажем, с одной стороны, мифическим, а с другой – служившим напоминанием о якобы существовавшем бойце «Дзимбэе», фамилия которого записывалась иероглифами
«дзин-хэй-эй». Он прославился тем, что носил поверх доспехов яркую цветастую накидку-безрукавку «содэнасибаори». Форма безрукавки стала впоследствии удобной военной формой и модной в быту, а её расшитый цветами вариант даже надевали как «ханаи» – одежду на праздник любования сакурой «ханами»:
きてもみよ甚平が羽織花衣Китэмо миё дзинбэй-га хаори ханаи.В моём переводе:
Неужто сам ДзимбэйПришёл к нам на ханами!В накидке помодней,Украшенной цветами.Второй его стих в сборнике носит явно эротическое содержание и многими трактуется даже как «лишённый стыда», хотя я не стал бы преувеличивать и отрицательно домысливать намёки Басё:
女男鹿毛に毛が揃うてむつかしМэото сика я кэ-ни кэ-га сороутэ кэ муцукаси.«Мэото» – буквально – «муж и жена» олени, кэ – шерсть, сороу – причесать (привести в порядок), муцукаси – трудно. Мой перевод:
Олень и оленихаДруг о друга трутся,От касаний этихПричёски их помнутся…А далее – каждый может «домыслить» сам. Хотя один из толкователей решил, что это намёк – «трудно заниматься разнополой любовью».
В предисловии Мунэфуса чётко указал, что сборник составлен им лично 25-го января в 12-й год эпохи Камбун – в 1672-м году. Рукопись не существует, но один печатный экземпляр того же года издания хранится в библиотеке университета Тэнри. Книжка несколько раз переиздавалась и после смерти Басё.

Дзимбэй в ханаи
Сегодня читатели имеют доступ к выложенным в интернете страницам с пояснениями на современном языке и оставляют забавные отзывы после прочтения: «Похоже, Мунэфуса был любителем развлечений!», «В 29 лет нормальные мужчины так не шалят, а занимаются делом!», «Чтиво не для девушек…», или «Вы думаете, что это хорошо, господин Мунэфуса!?».
Читая «ку» сборника «Каи-оои» и особенно комментарии БасёМунэфуса, начинаешь понимать, что ещё не достигший 30 лет мужчина Мунэфуса «крутился» среди поэтической элиты Ига и ценил все удовольствия и наслаждения «весёлой» жизни, проявляя при этом свою начитанность и интеллект. И главное – он ощущал, что из обычного сочинителя ему уже впору было становиться наставником молодых поэтов. А тогда, проделав лично всю работу по составлению и редактированию сборника в собственной редакции в маленьком домике на территории заднего двора родового поместья, унаследованного старшим братом, Басё-Мунэфуса смог не только издать саму книжку, но ещё и передал её в дар местному храму Тэнмангу.
Считается, что он сделал это исключительно для того, чтобы монахи помолились за успехи в его дальнейшем творчестве, но мне всё же показалось странным, что подарком затворникам стала книжка о развлечениях светской жизни. Ради любопытства нажал название храма в строке японского поисковика и узнал, что священники там поклонялись поэту и учёному эпохи Хэйан (9–10 века) Сугавара Митидзанэ, в честь которого они даже устраивали красочный праздник-шествие. Должен сказать, что японский интернет и его Вики-ресурсы – настоящий кладезь для тех, кто может читать на японском. Успевайте только нажимать на выделенные синим или красным тематические строчки, и вы будете получать до бесконечности подробнейшую информацию о том, что вас заинтересовало.
Можно было бы в нескольких строчках рассказать об учёном-политике-поэте, которого так чтил Басё-Мунэфуса, но эта личность настолько известна и почитаема, что информация практически неиссякаема, и темой данного раздела уже станет не поэт Басё, а политик Сугавара Митидзанэ.
Это, конечно же, шутка, но я вспоминаю годы, когда для получения доступа к интересующей исследователя информации приходилось сначала добиваться разрешительного допуска к иноязычным материалам, проходить процедуру оформления пропуска в научную библиотеку, потом заказывать нужную книжку и ждать её выдачи. Притом получал я её на руки вовсе не в день обращения, а копирование отдельных страничек было обременено целым рядом ограничений. Ещё сложнее была процедура оформления валютных заказов на книги из Японии или США. Месяцы и годы, да и то после разрешений и проверок.
Не стану мучить читателя подробностями деталей поиска материалов в «доперестроечное время», а продолжу рассуждения о переводе стихов.
Самым первым из известных нам стихов Басё считается написанный им в 19-ть лет «ку»:
春や来し年や行きけん小晦日Хару я коси тоси я икикэн коцугомори.По форме – типичный стих хайкай, в котором юмор сочетается с игрой слов. Среди нескольких десятков его первых «ку» именно такие «каламбуры» и стихи-прибаутки характеризовали творчество молодого поэта.
В данном конкретном «ку» смысл в том, что Басё пытается обыграть парадокс: «На дворе 29 декабря, но весна уже пришла, значит, Новый год уже наступил или, правильнее сказать, – ушёл Старый год».
В этих строках нет изысканного философского содержания, свойственного стихам Басё периода расцвета творчества. Ощущается влияние учителя Китамуры Кигин и стихов Мацунага Тэйтоку. Типичный приём – повторение фраз старинной классики и цитирование словосочетаний из стихов наставников, как это и ценилось мастерами хайкай. В моём переводе:
Последний день годаЕщё не прошёл,А Новый с собоюВесну уж привёл.Здесь интересно обратить внимание на то, что звук «н» в стихах считается у японцев отдельным слогом, в то время как в русском языке сочетание «кэн» – только один закрытый слог, а не два.
Ещё в этом хайку примечательно использование старого слова «коцугомори», обозначавшего предпоследний день года, 29 декабря по старому японскому стилю «инрэки», в то время как последним днём года тогда являлся «о: цугомори», то есть 30 декабря. Так было в Японии до наступления с 1873-го года «солнечного календаря» – «ё: рэки», соответствующего Юлианскому или Григорианскому календарям, по которым последним днём года считается 31 декабря, а предпоследним – 30 декабря, соответственно, «о: мисока» и «мисока» в современном японском языке. Совершенно очевидно, считают исследователи Басё, что такой стих стал результатом увлечения поэтом в то время старинными японскими летописями и легендами. Тогда в культурном обществе было принято цитировать классику, поэтому будущие сочинители заучивали длинные тексты наизусть.
Из юмористических и шуточных хайку, размещённых в то время поэтом в разных сборниках, издаваемых сообществом поэтов «тэймон хайкай», можно привести ещё несколько стихов, вполне соответствующих уровню маститых поэтов того сообщества. Один из стихов повторяет лексику, использованную в хайку основателя «тэймон хайкай» Мацунага Тэйтоку:
糸桜こや帰るさの足もつれИтодзакура коякаэру са-но асимоцурэПлакучей сакуры цветамиЯ в этот раз так любовался,Что в дом, когда я возвращался,Как опьянённый зашатался.
Асимоцурэ – буквально – «заплетались ноги» в ветках плакучей сакуры «итодзакура». «Ито» – нити – тонкие длинные ветки этой разновидности сакуры, в которых, как намекает поэт, легко запутаться, особенно в состоянии опьянения после «ханами» – любования цветами.
風吹けば尾細うなる犬桜Кадзэ фукэба охосо: нару инудзакура.В моём переводе:
Собачьей вишни веткуВетер нагибает,Она как хвост поджатыйУ пса, что удирает.Вишню «ину-дзакура» действительно называют «собачьей вишней», так как она обозначается иероглифами «ину» – собака, и «сакура» – японская вишня. Такое название дерево, похожее на растущую у нас черёмуху, получило благодаря пушистым веткам, облепленным мелкими белыми цветочками. При порывах ветра её ветки напоминают поджатые собачьи хвосты. Наблюдательность, меткие сравнения и старая лексика – именно то, чему его учил в господском доме мастер хайкай Китамура.

Собачья вишня инудзакура
Басё уже в своих первых стихах старался ассоциировать увиденное в природе с поведением человека или животных, поэтому и растения у него могут радоваться, смеяться, грустить и даже плакать! Вот как, по мнению Басё, встречает пришедшую весну просыпающаяся вишня. Раскрывает бутоны и улыбается ветру:
春風に吹き出し笑う花もがなХару кадзэ-ни фукидаси варау хана мо кана.Перевод:
Порывы ветра набегают,И шелестят в саду цветы,Они так радостно встречаютПриход весенней красоты.Стих написан Басё в 24 года.
Ещё один схожий стих того времени, подписанный автором как Ига Уэно Мацуо Мунэфуса:
あち東風や面面さばき柳髪Атикоти я мэнмэн сабаки янагиками.С точки зрения языка обращает внимание слияние слов «атиракотира» – «оттуда и отсюда», в удобную для короткого стиха форму, позволяющую при зрительном восприятии текста обратить внимание на то, что «коти» (иероглифы «восток» и «ветер») – это ещё и тёплый ветер, дующий с востока, притом Басё явно сравнивает развевающиеся во всестороны ветви ивы с распущенными женскимиволосами:
Весенний тёплый ветерКолышет ветви ив,Как у волос распущенныхИх каждый взмах красив!
Янагиками
Или другое сравнение в стихе, написанном в 24 года и тоже подписанном Мунэфуса:
餅雪を白糸となす柳哉Мотиюки-о сираи тотонасу янаги кана.«Мотиюки» – налипающий на ветки снег, похожий на покрытые как сахарной пудрой рисовые палочки-моти – «сираито». У поэтов «тэймон хайкай» встречается как сезонное слово для обозначения скорой весны:
Зима уходит, ветви ивыКак нити белые свисают,И как крупинками из рисаНа них снежинки налипают.Эффект игры слов использован и в написании безобидного стишка о старой сакуре, однако учитель решил, что «ку» звучит неуважительно по отношению к пожилым людям со стороны 21-летнего Басё:
姥桜咲くや老後の思ひ出Убадзакура саку я ро: го-но омоидэ.Поэт призывает старую вишню «вспомнить на старости лет» свою молодость и расцвести вновь, но всё дело в том, что по звучанию «уба» аналогично слову «беззубая старуха», поэтому такой сарказм многим мог показаться издёвкой:
Старушка сакура, напомни,Какой красивой была ты,И, не стесняясь, покажи намНа склоне лет свои цветы.В стихах того периода можно встретить и обычную игру слов, называемую японцами «котоба-асоби», когда авторы варьируют смыслом одинаково звучащих слов. Вот пример:
人ごとの口にあるなりした椛Хитогото-но кути-ни арунари сита момидзи.
Убадзакура – старая вишня
Одно и то же слово «сита» означает и «низ», и «человеческий язык». Внизу у ног красный лист клёна и язык во рту любого из нас.
Своего рода сопоставительная юмористическая ассоциация. Мой перевод:
Звучат одинаково – низ и язык,Я к сходству слов этих даже привык!Внизу – красноватый клёна листок,И розово-алый во рту язычок.Другой стих того же периода косвенно переплетается со старой поговоркой «в глазах пирата чёрта не разглядишь», но Басё делает упор на то, что и для людей низменного свойства – бандитов и пиратов, тоже существуют соответствующие им цветки. Это «они-адзами» – «чертополох» (они-чёрт), как и в русском «дьявол-репейник»:
花は賤の目にも見えけり鬼薊Хана ва сидзу-но мэ ни мо миэкэри они адзама.Мой близкий по смыслу перевод:
Свои цветы есть и для тех,Чей образ жизни аморальный,Из них лопух известней всех,Чертополох вульгарный.В некоторых переводах «сидзу» (он же «дзоку») трактуется как «бедный человек» – «и для бедняка есть свой цветок», только переводчики упускают из виду, что «дзоку» используется в значении «низменный», «бедный моралью» и встречается в сочетаниях «бандит, грабитель, пират» и им подобных. Этот стих был напечатан, когда Басё было 23 года.

