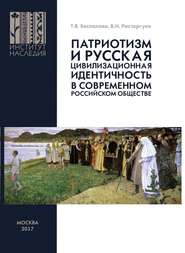 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Патриотизм и русская цивилизационная идентичность в современном российском обществе
Другие версии базируются на идеях целенаправленного «смешения кровей», тотальной дехристианизации и конструировании «открытого общества» без внутренних границ – как государственных, так и культурных, но, разумеется, с общими врагами, в списке которых с давних пор заложена особая ниша для России. Именно в России скрыты якобы основные угрозы цивилизованному, сиречь европейскому или западному, миру. Но и здесь мы сталкиваемся с рядом парадоксов. С одной стороны, для подавляющего большинства гуманитариев – как европейцев, так и иноземцев, воспитанных на европейских ценностях, – еще недавно было самоочевидным существование единого цивилизационного и, соответственно, цивилизаторского европейского пространства, которое противостоит варварству и служит образцом для перевоспитания варваров. С другой стороны, в сознании многих европейцев и прежде всего новых властителей дум, всемирная презумпция доверия к западному опыту, как подметил А.С. Панарин, готова «смениться презумпцией недоверия, что находит свое дополнение в реабилитации и легитимации некогда отвергаемых и третируемых форм неевропейского опыта».
И это действительно так, что особенно полно подтверждается в наши дни, когда на волну насилия, идущую от стихийного переселения миллионов беженцев в Европу, западные «кающиеся европейские интеллектуалы» и растерянные политики отвечают только коллективным самоосуждением и публичным покаянием, радикализм которого ведет их до полнейшего отрицания европейского опыта как такового. «Таким образом, вместо плюрализма, – по словам Панарина, – возникает монизм с обратным знаком. А рядом с этим расцветает крайний релятивизм, пытающийся устранить всякое различие между цивилизованными нормами того или иного типа и отсутствием каких бы то ни было норм. И это касается не только межкультурных и межцивилизационных сравнений. Начав с отрицания “европоцентричных” норм, кончают отрицанием каких бы то ни было различий между нормальным и девиантным»[84].
Следствием такого подхода является вывод о том, что «коллективного варварства вообще не существует или даже никогда и не существовало в мире, как не существует и не существовало различия между развитыми и примитивными культурами: каждая по-своему хороша и аутентична. Существует девиантное поведение на индивидуальном уровне; не существует девиантных народов и культур, которые надо цивилизовывать»[85]. Следующий шаг, как прозорливо подметил Панарин, – признание любых личных проявлений откровенно девиантного поведения (вплоть до педофилии) нормой.
Если позиции европейских интеллектуалов столь радикально расходятся, то установки политиков не столько расходятся, сколько сходятся в точке полнейшей беспринципности. Очень хорошо помню урок, который получил лет 20 назад на одном из заседаний межпарламентской группы в Париже, которое вел известный в то время французский политик. На мой вопрос, что он вкладывает в понятие Европы, говоря о ее противоречиях с Россией, он ответил предельно лаконично: «Европа, да и Россия, – понятия сугубо ситуативные». Действительно, для большинства политиков всё зависит от конъюнктуры: сегодня – железный занавес, завтра – разрядка, а далее по кругу…
Вывод из сказанного, который можно сделать, заключается в следующем: отношения Европы и России – это отношения не только между различными политическими системами, но и между различными цивилизационными мирами, где важнейшую роль играет традиционная религиозная и культурная идентичность. А условные границы, сохраняющие жизнеутверждающие ценности народов и национальные святыни, в действительности не разделяют, а объединяют те нации, которые умеют ценить и беречь собственное культурное и духовное наследие. Выработка сколько-нибудь взвешенной и конструктивной стратегии межцивилизационных отношений в принципе невозможна без участия самих верующих, то есть без участия Русской православной церкви и других конфессий, исторически представленных на территории России и единой Европы. В этой связи следует упомянуть о том, что «православный сегмент» играет особую роль в ЕС после вхождения в этот политический союз православных государств Восточной Европы.
Это обстоятельство следует рассматривать как существенный фактор в миротворческом процессе. А одним из эффективных инструментов согласования позиций государства, церкви и гражданского общества при выработке общенациональной стратегии России стал в последние годы Всемирный русский народный собор. Его деятельность, по мнению президента России В.В. Путина, направлена на сплочение всех конструктивных сил общества вокруг незыблемых гуманистических идеалов и ценностей. Ведь они задавали жизненные ориентиры и традиции нашего народа, помогали стране двигаться вперед»[86].
В том, что такой диалог может быть конструктивным, автор убедился, поскольку имел возможность детально обсудить этот вопрос в одном из главных мозговых центров Европы, а точнее, в «конструкторских бюро» ЕС, где еще в 20-х гг. прошлого века начался длинный путь к строительству Евродома. В тексте статьи использованы стенограммы докладов, подготовленных и прочитанных автором несколько лет назад (по специальному приглашению организаторов) на традиционных Чешско-баварских встречах Панъевропейского союза в честь святого Иоанна Непомуцкого в Праге.
Следует дать небольшую справку: Панъевропейский союз – одна из наиболее влиятельных организаций, основана в 1926 г. на Первом Панъевропейском конгрессе в Вене графом Р. Куденхове-Калерги. В ряды союза входили не только ведущие политики и финансисты, но и великие властители дум ХХ в., с именами которых сегодня связывается представление о современной цивилизации: Томас и Генрих Манны, А. Эйнштейн, 3. Фрейд и многие другие. Свою работу союз осуществляет в рамках различных европейских политических структур, включая Европарламент. Помимо заседаний ассамблеи Международного панъевропейского союза, конгрессы проводит каждая из национальных организаций. Немецкий Панъевропейский союз ежегодно устраивает, к примеру, «Панъевропейские дни» в одном из крупных городов Германии, австрийский проводит так называемые «Альпийские встречи», а Панъевропейский союз Чехии и Моравии организует заседания культурно-политического конгресса «Дни Яна Непомуцкого» (Nepomuk-Fest). Конгресс назван по имени чешского святого, что накладывает отпечаток и на тематику форума, и на отношение к религиозным аспектам становления Европейского Союза.
3. Инверсии идентичности: анти-Россия и анти-Европа
Для автора этих срок представление о природе едва ли не тысячелетнего российско-европейского стояния и противостояния, закрепленного в подкорке и даже глубже, открылось неожиданно лет 40 назад. Тогда я, будучи молодым преподавателем, впервые увидел огромную военную карту мира, предназначенную для слушателей академии ПВО, где принимал экзамены. На этой карте Союз ССР выделялся красным цветом, а уже на этом фоне темно-багровыми пятнами и соответствующими символами были выделены зоны размещения «оружия Судного дня», способного поразить любые объекты в любой точке Западной Европы. СССР напоминал собой грозовую тучу, освещенную красным заревом и нависшую над западноевропейскими государствами, которые в своей разрозненности казались бессильными карликами. Каждое из них свободно умещалось на «ладони» средней русской губернии.
Позднее, когда я читал запрещенную в те времена в СССР книгу Н.Я. Данилевского, эта картина всплыла в сознании. Приведу фрагмент из книги, где он описывает свой диалог с европейцем, произошедший полтора века назад, задолго до появления ядерного оружия: «Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?»[87] Именно чувство вполне объяснимого страха, знакомого европейцам и культивируемого в течение долгого времени, служит, с одной стороны, одним из следствий противостояния Европы и России как ее антипода – анти-Европы, а с другой стороны, если и не причиной, то фактором, постоянно воспроизводящим это противостояние и обеспечивающим его легитимацию.
Роль анти-Европы для европейцев в разные эпохи выполняла не только Россия. Источниками смертельной опасности объявлялись в разные времена и по разным причинам Османская империя, Турция, а иногда и весь исламский мир. Типичные варианты антипода на отдельных этапах становления европейского самосознания – Германия и, разумеется, Британская империя, которая вновь удивила мир, выбив из фундамента евроздания один из краеугольных камней, что грозит обвалом всей конструкции. Не следует забывать, конечно, и об особой роли США, которые с момента своего возникновения рассматривались и как неизменный образец для подражания, и в то же самое время – как успешный конкурент-антагонист Европы. Эта явная и скрытая конкуренция осложнена тем фактом, что США, будучи своеобразным историческим «модифицированным клоном Европы», превратили идею единой Европы в культурно-политический клон панамериканской идеи, а позднее и саму политическую объединенную Европу – в кальку американской культуры и американской демократии. Реакция на столь заметную и деструктивную зависимость – отношение к такому «клонированию» со стороны европейцев. Не случайно само соединение высоких слов (те же «культура» и «демократия») с прилагательным «американские» в рамках европейского культурного и политического дискурса обычно воспринимается как известное сочетание «свободы» и «любви» – с заметной презрительно-негативной окраской, что свидетельствует не столько об антиамериканизме европейцев, сколько об их способности к критической самооценке.
Зависимость древней Европы от новоявленного «старшего брата», превращающая единую Европу в анти-Европу, глубоко враждебную европейской традиции, всё чаще становится предметом специальных исследований и в Америке, и в европейских странах. Показательна в этом отношении переведенная на ряд языков совместная американо-итальянская научная работа «Империя» (М. Хардт и A. Негри), основные выводы которой можно свести к двум риторическим вопросам. Первый: «Разве американская демократия по сути своей не основывалась на демократии “исхода”?» И второй: «Разве американская культура не возведена в ранг образца для всего мира?»
В результате, как отмечают авторы, всё то, что было характерно для американской культуры, стало теперь олицетворением западной культуры в целом: «Так американское искусство превратилось из регионального в мировое, а затем и в общечеловеческое искусство. <…> В этом отношении послевоенная американская культура заняла то же положение, что и американская экономическая и военная мощь: на нее была возложена ответственность за сохранение демократических свобод в «свободном» мире. История перемещения центра художественного производства и, что еще более важно, художественной критики является всего лишь одной из сторон сложной идеологической операции, которая сделала американскую глобальную гегемонию естественным и неизбежным следствием кризиса Европы».[88] Причем, как ни парадоксально это звучит, «даже проявления самого яростного национализма в европейских странах, приведшие к столь ожесточенным конфликтам в первой половине столетия, в конечном итоге сменились соперничеством за то, кому лучше всего удастся выразить крайний американизм»[89].
При этом антиамериканизм в сознании европейцев хорошо уживается с верностью основным догматам «американской веры», и прежде всего – веры в то, что мир жестко разделен на единую западную демократию и страны, в разной степени подверженные заразе тоталитаризма. Как писал А.С. Панарин («Агенты глобализма»), «из подозрения в тоталитарных поползновениях выведена только американская культура». Остальные же четко подразделяются на непримиримых врагов и идеологических попутчиков. Одни подлежат устранению (великие цивилизации Востока и России), другие – «отбору на возможную пригодность» (это, по мнению Панарина, касается западноевропейской культуры, которая рассматривается не в своем самодостаточном значении, а только как «попутническая» и промежуточная).
Такое деление мира на «оазисы демократии» в «пустыне тоталитаризма» закономерно приводит самих европейцев к тому, что в число антиевропейцев они при необходимости всегда могли и могут включить не только отдельные европейские и неевропейские народы, государства и межгосударственные союзы, но, как показывает история, и целые культурные миры. Не являются исключением и народы, без которых трудно представить историческое становление Европы. Вопиющий пример – отношение к славянству, в том числе и к славянским народам, ставшим ныне (ценой недолго хранимого суверенитета) частью условно единого политического тела – Европейского союза. Да, новый союз дает надежду, пусть даже призрачную, на благополучное сосуществование, но инерция истории сильнее робких надежд. Нелишне в этой связи вспомнить, что апологетами антиславянства были не только нацисты, о чем хорошо известно, но и многие просвещенные европейцы – властители умов прошлого века и начала нынешнего, создатели учений, кардинально изменивших мир и заложивших фундамент нынешнего раздела. Не следует забывать: стройплощадка евродома, объединившая европейцев, разделила славян, в том числе и единоверцев, на «своих» и «чужих» сильнее, чем антихристианские идеологии середины ХХ в., авторы которых, как известно, не были чужды славянофобии. Не составляли исключения и основоположники «научного коммунизма» – пророки общества без наций и классов, не скрывавшие своего презрительного отношения к балканским славянам, которые, по их мнению, не заслуживали свободы, поскольку якобы ничего не сделали для Европы и ее развития[90].
Кто может сегодня, в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова, после тяжелых потрясений в России и проведения границ, разделивших народы на отдельные племена, после надругательств над христианскими святынями и геноцида славян в Косово, поручиться, что откровенно расистские идеи об этнонациональных селекциях по отношению к славянскому миру и России никогда не повторятся? Имеет ли мировое сообщество хоть какое-нибудь противоядие от повторения внутриевропейского геноцида по отношению к отдельным этническим группам или семьям народов и от его превращения в повседневный инструмент геополитики? Эти вопросы следует отнести к разряду риторических, если учесть динамику этнокультурных и конфессиональных изменений в новой Европе, явно не готовой к широкому обсуждению, а тем более к разрешению назревающих внутри- и внешнеполитических противоречий, способных обернуться идеологическим и даже военным противостоянием между Россией и странами НАТО.
В бесчисленных проектах пан-Европы, о которых следует упомянуть, поскольку они уже два столетия конкурируют за право стать идейным фундаментом Европейского союза, основная установка остается почти неизменной. Эта установка – консолидация перед лицом внешних угроз, реальных или мнимых. Причина очевидна: трудно найти более доходчивое обоснование, чем жупел общего врага. Данилевский в работе с говорящим названием «Горе победителям» пишет, что государства Европы получили понятие о себе как о политическом целом от противопоставления мусульманскому Востоку. «Понятно, что и в настоящее время сознание о политическом целом, именуемом Европою, точно так же является результатом сознания существования чего-то ей политически противоположного, а это противоположное, эта анти-Европа, и есть Россия и представляемый ею Славянский мир»[91].
Именно в качестве анти-Европы воспринимали Россию со времен Ницше, который одним из первых высказал идею о необходимости наднационального объединения европейских стран в единый союз. При этом европейцы, по его мнению, должны будут пожертвовать даже своей суверенностью перед лицом мощной России. Если Бруно Бауэр полагал, что Гегель был последним мыслителем Европы, который говорил о европейской политике без учета русской угрозы, то Ницше четко сформулировал причину этой угрозы. Россия, в отличие от европейских стран (не имеющих полного набора ресурсов, в том числе и временного ресурса для защиты своих интересов под натиском геополитических конкурентов), по его определению, подобна церкви, и поэтому может ждать. К тому же в России живет народ, наделенный, по выражению Ницше, великодушием молодости и истинной силой воли, а в психике русских есть некое особое измерение, которое при определенных обстоятельствах может вынудить правителей страны действовать безжалостно. Современный английский политолог К. Коукер в книге «Сумерки Запада» анализирует эту установку Ницше, находя в ней предсказание 1917 г., перевернувшего Россию и превратившего ее в источник саморазрушения и постоянного ожидания катастрофы для европейцев[92]. Вместе с тем Коукер демонстрирует глубокое понимание исторической миссии России. Он считает, что ее сила и слабость – в глубокой поглощенности собой. Основное отличие российского общества от западного Коукер находит в том, что оно по своей природе не универсалистское, а контекстуалистское, поскольку русская мысль интересовалась не столько ситуацией вообще, сколько самопознанием.
Разумеется, если продолжать эту мысль с учетом русской философско-религиозной традиции, то станет очевидным, что за оболочкой «контекстуалистского самопознания» скрывается феномен вселенского сознания, а следовательно, и тот особый универсализм, который не укладывается в прокрустово ложе культурной унификации. При этом следует напомнить, что Бердяев различал два понимания вселенскости с учетом конфессиональных отличий – горизонтальное и вертикальное: для первого вселенское единство означает охватывание как можно больших пространств земли и универсальную организацию, а для второго вселенскость есть не что иное, как «измерение глубины». Именно это понимание он относил к православию. Как точно подменил Е.П. Челышев, который посвятил многие годы теории и практике межцивилизационных связей, оценивая эту бердяевскую схему, «такое метафоричное толкование существенно упрощает и схематизирует представление о межцивилизационных контактах». Однако, если подойти к проблеме с другой стороны, схема Бердяева «заостряет внимание на ключевом аспекте при осмыслении этой тематики – на особой роли мировых конфессий в процессе становления локальных цивилизаций. При размывании религиозных основ мировосприятия исчезают и высшие смыслы мирового развития, его общечеловеческие (вселенские) горизонты. Единство в многообразии – эта формула, почерпнутая, в частности, из древней индуистской культуры, является универсальной»[93].
Зададим себе три вопроса. Первый: какую роль сыграли такие предсказания и ожидания в истории Европы? Второй: насколько они были оправданны? И третий: насколько они конструктивны в наши дни, когда Европа стала относительно единой (относительно Европы до- и послевоенной), а демократизирующаяся Россия, потерявшая значительную часть исконных территорий, только в наши дни с огромным трудом и риском преодолела инерцию окончательного распада?
На первый вопрос мы уже ответили: народы объединяют общие угрозы, играющие созидательную, консолидирующую роль. Перефразируя Дидро, можно сказать: если бы общих угроз для европейцев не существовало, их надо было бы придумать. Собственно, преимущественно этим и занимались многие политики и интеллектуалы в течение ушедшего столетия.
На второй вопрос – об обоснованности страхов – ответ также лежит на поверхности. Многие из них были вполне адекватны политическим реалиям в течение долгого времени. Европа в Новое время радикализировалась ускоренными темпами, а Российская империя действительно пугала тех радикалов либерального и марксистского толка, которые видели в ней главное препятствие на пути к социальному прогрессу. Причем набор моделей и сценариев прогресса был чрезвычайно узок. Если для либералов-радикалов Европа должна была стать анти-Европой, то есть «экспериментальной площадкой», предварительно «зачищенной» от традиционализма, династических институтов передачи власти, а также всех национальных и конфессиональных особенностей, замедлявших час окончательного торжества третьего сословия, то для марксистского проекта этот этап был всего лишь паллиативом. Окончательным решением должна была стать воистину анти-Европа – огромная строительная площадка, открытая на пространстве уходящей в небытие христианской Европы и призванная взорвать основы планетарного социального мироустройства, в том числе частную собственность и социальную иерархию: «Кто был ничем, тот станет всем».
Единственной силой, сковывавшей совместные усилия антагонистов-союзников (либералов и коммунистов), оставалась Россия, нелюбовь к которой с их стороны была идеологически оправдана и неизбежна. Здесь, кроются, кстати, и корни трудно объяснимой на первый взгляд русофобии, которая отличает сознание доморощенных российских реформаторов и демократизаторов разных временных и идеологических популяций, в том числе европоцентристов. Не менее, а может быть, и более зловещим стал образ России для европейцев после падения самодержавия. Тогда Россия отказалась от собственного цивилизационного «я», пройденного исторического пути («проклятое прошлое») и даже своего имени, взяв на себя именно ту роль, которую радикалы прочили обновленной Европе, если бы она полностью встала на путь «прогресса». Таким образом, Россия была превращена в анти-Европу в полном смысле этого слова – Европу «обезбоженную», технократически мобилизованную и милитаризированную, насквозь индоктринированную и идеологизированную.
В этой ситуации европейцам ничего не оставалось, кроме объяснимого стремления любой ценой объединиться против «красной России» с учетом той угрозы, которую несет усиление милитаризирующейся Германии и нового геополитического игрока – США, не желающих упустить свой шанс вырвать преференции за счет распыленного (после Первой мировой войны) европейского потенциала. Поэтому Куденхове-Калерги, самый яркий и последовательный провозвестник евроединства, пишет: «Есть только один узкий путь в лучшее будущее между Сциллой русской военной диктатуры и Харибдой американской финансовой диктатуры. Он называется пан-Европа и означает – помочь себе самим, объединив Европу в политико-экономический союз»[94].
Отвечая на третий вопрос, следует произнести сакраментальное: времена меняются вместе с идентичностью Европы и России. Европа всё меньше походит ныне на мозаику изолированных друг от друга миров, но всё больше – на сверхдержаву по своему военному и экономическому потенциалу. А Россия на глазах становится открытым обществом с явно выраженным стремлением восстановить основы христианской культуры и, кстати, тратит на военные расходы значительно меньшие средства, чем единая Европа, не говоря уже о США. При этом именно Европа под напором США концентрирует стратегические военные объекты на границах России, втягивая ее в гонку вооружений и принуждая ставить под прицел земли братских славянских народов, за независимость которых не раз проливали кровь русские солдаты.
Можно вспомнить и о том, что кроме придуманных, хотя в ряде случаев и оправданных страхов, существуют и множатся всё новые и совершенно реальные угрозы. Среди них ресурсный голод, водный голод[95] и «просто голод» – пищевой, не признающий границ в глобализированном и унифицированном пространстве, а также другие глобальные проблемы, которые не будут ждать, когда мировое сообщество научится устранять причины, порождающие глобальные экономические и политические болезни. Одна из них – лавинообразное исчезновение с карты мира не только большей части языков, культур и малочисленных народностей, но и великих народов, в том числе европейских. Им также угрожает культурная и конфессиональная ассимиляция в постглобальном и постхристанском европейском (постъевропейском?) пространстве.
4. Самообразы Европы и парадоксы европейской идентичности
Не существует и не может существовать ни единого для всех и во все времена самообраза Европы, ни единой и завершенной истории европейского развития, ни самой монополии на право обладания «единственно верным» образом и историей. Но сосуществует множество различных, а иногда и конкурирующих представлений о европейской идентичности, которые легко разделить на два типа. Первый – это образы европейского прошлого и настоящего, закрепленные в языках и национальных культурах посредством написанных кем-то историй-рассказов, а вторые – проекты европейского и, соответственно, мирового будущего, т. е. его концептуальные прообразы, положенные в основу долгосрочных политических, социально-экономических и культурных стратегий европейского развития.
Трудность заключается не в том, чтобы создать адекватную типологию самообразов Европы. Эта задача представляется вполне выполнимой, хотя и чрезвычайно ответственной в том случае, если классификационная схема войдет в политические доктрины или отразится на определении стратегий (выражение «разделяй и властвуй» относится не только к типу правления, но и к классификациям, которых придерживаются политики). Подлинная проблема скрыта в том, чтобы в процессе политического строительства не забыть о тонкой грани, отделяющей традиционные образы и традиционную идентичность от прообразов-проектов и, соответственно, культурную самоидентификацию народов от политических стратегий (императивов). А проводить это различие необходимо, как минимум, по трем причинам.



