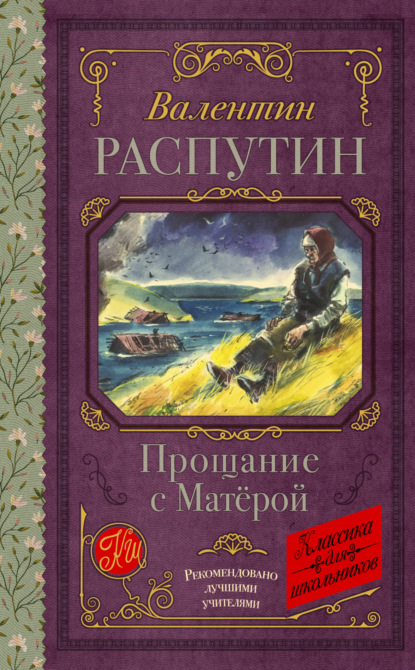
Полная версия:
Прощание с Матерой
Как ишо живой остался! Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли берегчись, да берегчись-то никак не умел, ломил эту работу что здоровый, не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под Рождество, а его близко к этой поре, за Троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно.
На острову у нас могила есть… Тепери-то ее без догляду потеряли, гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре. Я ишо помню ее, как маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И вот раз плывет с товаром, увидел Матёру и велел подгребать. И до того она ему приглянулась, Матёра наша… пришел к мужикам, которые тогда жили, пришел и говорит: «Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем острову, на высоком яру, быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву Христову». Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги, купец, видать, богатный был… целые тыщи – то ли десять, то ли двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря говореть…
Тятьке как помирать, а он все в памяти был, все меня такал… он говорит: «Ты, Дарья, много на себя не бери – замаешься, а возьми ты на себя самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть». Раньче совесть сильно различали. Ежли кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки на виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по совести, да где ее взять, ежли не уродилась вмести с им? За деньги не купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет да ишо спасибо скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный, шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и делал. На его сватья грешит: «Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек». А он правда что простофиля: «Люди просют…» Ну запустил свое хозяйство… «Люди просют» – хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния – он туды свою голову… – Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешнее: – Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей звездочка покрашенная была, сын с городу железную тумбочку привез, а сверху, как птичка, звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, какой ишо надо грех? – Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и, вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в куть и вынесла оттуда пять шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет – три протянула Богодулу и две оставила себе. – Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка: в войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам для скусу. Сердился не дай Бог, ежли мы для ребят оставляли, заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, чего нету.
– Вино – ык! – подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел.
– Пущай его дьявол пьет, – согласилась Дарья, усаживаясь обратно на свое место. – Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли нету. Кто с ей – совестливый, кто без ее – бессовестный. Теперь холера разберет, все сошлось в одну кучу – что одно, что другое. Поминают ее без пути на кажном слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось. Навроде и владеть ей неспособно. О-хо-хо! Народу стало много боле, а совесть, поди-ка, та же – вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу, хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли, а при больших-то делах совесть, однако, что железная, ничем ее не укусишь. А наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, Господи! Че про совесть, ежли этакое творится!
Я ночесь опосле вечорошного не сплю и все думаю, думаю… всякая ахинея в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот, грезится, чей-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу – до того напружилась от ожиданья… Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою – то ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че. От страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там дверь брякнет, там брякнет – не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да жаркие – страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне… Закружили меня звездочки… навроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али унесли куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назадь поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа освятилась. «С чего, – думаю, – че было-то?» И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала. Навроде как голос был. «Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится», – навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.
У нас мужики извеку, почитай, все свои были, матёринские. Чужих не сильно принимали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт – свояк. Он на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется, язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил, на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахакают, и хахакают на всю Матёру, а он сидит – голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие – не здря говорят: у кого зубы редкие – вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет – откуль че берется? До улежки мужиков доводил. Но и работящий был, ой работящий! Где кол забьет, там че-нить да вырастет. Дак вот, Дунька, за Генкой Пресняковым замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась, не в тятьку своего: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за словом в карман тоже не лазили – ну и одного как шпиена ерманского, чтоб не подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матёры. А куды съехал, живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а то бы у Дуньки долго ли спросить?
Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с Матёрой породниться каждый рад. У нас извеку богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили, бравые – не залеживался товар. Ишо и пощас видать породу, кто с Матёры. Мамку мою тятька тоже привез откуль-то с бурятской стороны. Как он ее дразнил: «Ой-ё-ёк». От с этого самого Ой-ё-ёка, али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости, тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куды от ее деться – кругом Ангара. На Подмогу передти и то надо вплавь, а у нас там, на Подмоге, покосы стояли. Так и не привыкла до самой смерти. Мы над ей подсмеивались, нам-то Ангара – своя, сызмальства на ей, а мамка говорела: «Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет». Дак нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась вода – не нам однем, всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что незряшний он был… он когды… щас… – Дарья растерянно запнулась, уронив голос, едва слышно и потерянно закончила: – Он ка-ак: догонит все ж таки и мамку вода. А мне и не в ум… Он ка-а-ак…
Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь, Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках – везде, куда падал этот свет, казалось сиро и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью. Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник – ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжанием моторная лодка, заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем неспокойней ей становилось. И сильней набиралась досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера… корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны.
Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:
– Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись – боле некуда. Тепери ты иди, ежли надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с разговором, а об чем говореть… Наши разговоры как мякина – ни весу, ни толку. Только и память, что было зерно. Было время…
– Дарья, куды? – строго вопросил Богодул, задирая голову.
Она на минутку замешкалась и отказала:
– Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.
Куда «туды» – она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню – ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища она не дошла; сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом – нет его, и не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и, отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась раз, и другой, и третий…
Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие острова, и свою Матёру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав, более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матёре, свисая с ее крутого берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матёре так и называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки, ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля, которые только нынче и забросили.
И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, держала она в достатке, не потому ли и назвалась громким именем Матёра? И тихо, потаенно лежала она – набиралась соков раннего лета: на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими, за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с темными пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к Подмоге. Ближе леса и левей от дороги огорожена была с двух сторон поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, – там бродили коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же, как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (листвень – на «он» звали ее старики), с прямо оттопыренными, тоже могучими ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного вида или онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела, разваливаясь, кора, и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и пусто на выгоне – остальное оборвал и вытоптал скот.
Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, – поля с высокими осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине и ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за такую опору – она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем другие – высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.
Видела Дарья на память и дальше – снова поля по обе стороны от дороги, на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной, сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит назьменными пластами – сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности, до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов, отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще туда-сюда – оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек? Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города, всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет, ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба – досаждать другим.
«Так ли? Так ли» – со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее, лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.
…А там – тупая оконечность Матёры, илистый берег перед подможьем или подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно перегоняли скот – колхозное стадо там и летовало каждый год, но как поднимется, задурит река – держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару и чуть заходит за Матёру, будто когда-то нижний остов вознамерился обойти передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матёре брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и заглядывая вниз, как поплавки.
И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не дающее тени. Кругом сонно и терпеливо, и кругом безгласно – молчком лежит слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами; застыл на поскотине обезглавленный «царский листвень», слепо растопырив огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса; и, конечно, тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более богатая деревня, закрытая теперь для поселения, – кладбище, пристанище старших…
Скоро, скоро всему конец.
Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может, так и надо? Отступясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что «так и надо»? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает. Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят. Им только чудится, что они поспеют за ней, – нет, и им суждено с тоской и немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.
Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. «На море-океане, на острове Буяне…» – некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная молитва.
5
Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидала, что Павел вошел в ограду и скинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда Павел вошел в избу:
– Подчистили картофку-то?
– Подчистили.
– Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то, однако, не взяли – надолго ли вам, едокам!
– Побольше-то издрябла бы, – отозвался Павел, усаживаясь на лавку и приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.
– Издрябла? – удивилась Дарья. – Ты сказывал, там подполье есть.
– Есть, – кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. – Есть подполье, есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть насосом качай.
– Но-о. Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?
– А там досматривай не досматривай… у всех вода. Никакой Ангары не надо.
– Это че деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрежь лопатой в землю не ткнули, че в ей?
– По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.
– Ишо чудней.
И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли другие слова, и что изменится от того, если кто-то знает, откуда они взялись? Был бы хлеб, был бы дом, и не было бы того, чтобы человеческое жилье ставили на слепые глаза!
Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтобы не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан, старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по весне, незадолго до Пасхи, ему сравнялось пятьдесят – был он у Дарьи теперь старшим, а по порядку вторым сыном: первого прибрала война. И еще одного сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь нашел смерть на лесоповале за тридцать километров от Матёры. Привезли его домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию: она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было, и всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это бывает сослепу: на кого, не видя, падет – тот упадет; нет, существовало в этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьей детей все трое успели вырасти и войти в жизнь – один годился для войны, другой для работы, третья – старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже родах, жила своей семьей. В Подволочной – значит, тоже уйдет под воду. Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть может, останется в земле – кто знает, как у них там с землей и водой, чего живым требуется больше.
И столько же, трое, осталось у Дарьи в живых: дочь в Иркутске, сын из старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый, поближе к Матёре, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что, чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого слова с ней не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости такая судьба – что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не сидит, и оно, отношение к родным и старикам, – самая первая для них важность.
Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого, наверно, что заметил – пол не подметен, спросил:
– Как ты тут управляешься? Вера не приходит?
– Вера когда зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас запустила. Вечор к корове, и к той не подошла, от всего отступилась.
– Захворала, что ли?
– Дак оне че творят-то, Павел? Че творят-то? Уму непостижно! – стала говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь в сухих, клохчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда, чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной, непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:
– Может, хоть деда с бабкой твоих перенесли бы… а, Павел? Кольцовы с собой увезли своих… два гроба. А Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, конешно, грех покойников трогать… Да ить ишо грешней оставлять. Евон че творят! А ежели воду пустют…
– Сейчас не до того, мать, – ответил Павел. – И так замотался – вздохнуть некогда. Посвободней будет – перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.
И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом:
– Косить-то нонче будете, нет?
– Не знаю, мать. Ничего пока не знаю.
Она пожалела его, не стала вязаться с расспросами.
Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе: пора уже было решать, держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и неближних, что дома там ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже пострадальцы: пьяный Самовар – так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера, – шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так еще бы – привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу решила, что, если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в цветочках-лепесточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтобы на улицу не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.
Это жилье. А рядом – тут же, во дворике, впритык к стене, огородик на полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то, потому что отмерен он на камнях и глине, – и это было тоже диковинно: отчего так шиворот-навыворот – не огород на земле, а землю на огород. И что это за огород! Полторы сотки – курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее, тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку. Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно вожжались с конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью отмахивался:



