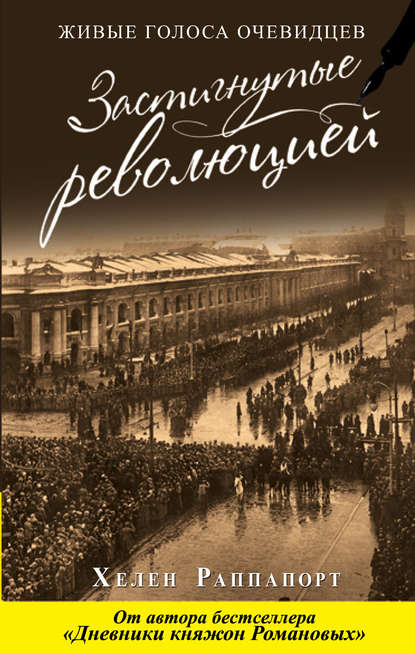
Полная версия:
Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев крушения Российской империи
События продолжали развиваться. Количество женщин, участвовавших в демонстрациях на Невском проспекте и на подходах к нему, возросло где-то до 90 000 человек. «Пение на этот раз превратилось в могучий рев, – вспоминал Томпсон, – вселявший ужас и в то же время зачаровывавший». Все испытывали «страшное возбуждение»{167}. Вновь появились казаки, как заметил Дж. Батлер Райт, «словно по мановению волшебной палочки»; их длинные пики блестели на солнце. Томпсон наблюдал за тем, как они снова и снова пытались рассеять колонны женщин, несясь на них галопом и размахивая нагайками, но женщины только перестраивались и широко улыбались казакам всякий раз, когда те напирали на них{168}. Когда одна из женщин споткнулась и упала перед ними, те перепрыгнули на конях через нее. Все были удивлены: эти казаки не были «свирепыми опричниками царизма, которых видели в действии в 1905 году», когда сотни демонстрантов были убиты во время «Кровавого воскресенья». На этот раз они были вполне «любезными» и даже озорными; они, казалось, были готовы поддаться общему настроению, когда, продвигаясь вместе с толпой, они сняли папахи и «помахали ей ими»{169}. Оказалось, что многие казаки были резервистами, и отсутствие у них навыков в удержании толпы объяснялось их проблемами в обращении с лошадьми, которые не привыкли к большому скоплению людей{170}. Казаки сообщили демонстрантам, что, пока те требуют только хлеба, они не возьмут на себя смелость открывать огонь. В рядах демонстрантов, разумеется, было много агентов-провокаторов, желавших превратить акцию протеста в акт насилия, но толпа в основном, как отметил в тот день Артур Рэнсом в своем сообщении для «Дейли ньюс», осталась «уравновешенной». Он выразил надежду, что не произойдет никаких серьезных конфликтов. «В целом народные волнения, – заключил он, – были стихийными и разрозненными», не имели политической направленности{171}.
Такая ситуация продолжалась до шести вечера. Толпа продолжала требовать хлеба, а казаки напирали на нее и рассеивали в разные стороны, «однако серьезных инцидентов не было». Полиция задерживала всех, кто пытался остановиться и произнести речь, наряду с этим демонстранты весь день ходили по улицам с красными флагами, и, к удивлению Томпсона, по ним не стреляли. Однако он знал, что все еще было впереди: «Я чувствую, что будут беспорядки, – писал он своей жене в тот вечер, – и, слава богу, я нахожусь сейчас здесь, чтобы снять все это на пленку»{172}.
Полиции осталось только окончательно разогнать толпу, которая в большинстве своем к семи вечера, когда стало холодать, разошлась по домам. Однако озлобление народа в отношении полиции усилилось, возросло и число нападений на нее. Особенно это относилось к конным полицейским на конях черной масти, которых презрительно называли «фараонами» – то есть угнетателями и мучителями (намекая на «высокие, похожие на кисточки для бритья киверы из черного конского волоса», которые те носили). «С их появлением у людей с лиц сразу же пропали улыбки, – отметил Арно Дош-Флеро, – и когда они начали расправу, достав свои сабли», он услышал «грозный рык, который может издавать только разъяренная толпа»{173}.
На другом берегу Невы, в фабричных районах, весь день происходили эпизодические стычки. На Петроградской стороне в большом хлебопекарном заведении Филиппова (филиал московской хлебопекарни, которая ежедневно по железной дороге доставляла свою продукцию во многие столичные хлебные магазины) старухи из очереди, отстояв на холоде несколько часов только ради того, чтобы услышать, что сегодня хлеба не будет, потеряли терпение{174}. Они выломали входную дверь и разгромили пекарню. Говорили, что «в дальних кладовых нашли много черного хлеба». В окрестных продуктовых магазинах также разбили окна. В другой разгромленной хлебопекарне старухи обнаружили белые булочки, «предназначенные для ресторанов». Перебив в заведении окна, они взяли эти булочки и продали их за четверть цены тем, кто крайне нуждался в хлебе{175}.
В тот вечер Харпер и Томпсон осмелились перейти Троицкий мост, чтобы выяснить, что происходило в фабричных районах. Они обнаружили, что улицы в ряде мест «были заполнены возбужденными мужчинами и женщинами», и оставались там до одиннадцати часов вечера, пока Томпсон не заметил, что слишком многие присматриваются к дорогому пальто Харпер из котика. Борис, их переводчик, посоветовал поскорее уходить: он услышал, как некоторые женщины говорили, что «ей следует порезать лицо». «Посмотрите, как она одета! Да, у нее есть хлеб, а у нас – нет»{176}. Очевидно, они приняли Харпер за богатую русскую даму. Когда оба журналиста спешили среди ночи назад в «Асторию», их несколько раз останавливала полиция для проверки документов. Они не могли не заметить, что «город патрулировало много войск» – в этот день в Петрограде вырвались на свободу необузданные, стихийные силы. Среди голодающих, организовавших демонстрации на Невском проспекте, и забастовщиков на той стороне Невы был зажжен факел революции. В течение ночи забастовочные комитеты в Петрограде и на Выборгской стороне разрабатывали планы, как воспользоваться благоприятным моментом. Революция – «о которой так долго говорили, которой страшились, против которой боролись, планы которой вынашивали, которую жаждали, за которую погибали», – наконец пришла, «тайком, украдкой, когда ее никто не ожидал, когда ее никто не признал»{177}.
За ночь напряженность в Петрограде существенно усилилась, поскольку появились слухи о введении «карточек на хлеб». Негодование подогревалось также тем, что хлеб продавался в то время, когда все были на работе и не могли стоять в очереди, чтобы купить его. В пятницу, 24 февраля, все это неизбежно переросло в беспорядки: разгромили еще несколько хлебопекарен. В связи с продовольственным кризисом люди были доведены до такого отчаянного состояния, что, как писал Артур Рэнсом в «Дейли ньюс», иногда даже «отбирали хлеб у тех, кто смог купить его»{178}.
Утро следующего дня было ярким и солнечным, и повышение температуры на пять градусов (до минус 4,5 градуса) способствовало тому, что на Невском проспекте вновь собралась огромная толпа{179}. Предвидя эскалацию демонстраций, генерал Хабалов распорядился расклеить ночью новые объявления, в которых подчеркнул, что «все скопления народа на улицах полностью воспрещаются», и предупредил, что он приказал войскам «употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем для водворения порядка»{180}. Американец, работавший в консульстве в здании компании «Зингер», слышал разговоры о том, что на улицах видели «бронированные автомобили», которые уже несколько ночей подряд патрулировали город, «с прожекторами и множеством пулеметов, выглядывавших из амбразур». Ему также сказали, что «на полицейских участках было полным-полно пулеметов, они были у солдат, переодетых полицейскими». «Все это вздор! – возразил на это кто-то. – Солдаты-мальчишки не будут стрелять в свой собственный народ»{181}.
Жгучее негодование вымещали на немногочисленных, пока еще работавших переполненных трамваях. Многие из них уже вышли из строя и стояли, мертвые и пустые, «никто не думал ремонтировать их, новых взамен не было»; другие толпа опрокинула с рельсов и даже перевернула{182}. Как отметил Арно Дош-Флеро, все на улице в то утро, похоже, «были уверены в скором зрелище». Он находился в толпе вблизи Казанского собора. Повсюду мелькали приметные зеленые студенческие фуражки, и один из студентов сказал ему, что «университеты вышли на забастовку в знак поддержки хлебных демонстраций»{183}. Магазины, тем не менее, были открыты, и в городе все еще была заметна «некоторая деятельность», хотя большинство жителей передвигались пешком. Прохожие менее охотно, нежели накануне, подчинялись требованиям полиции не останавливаться и продолжать движение{184}.
Все утро рабочие из Выборга и с Петроградской стороны, где состоялись оживленные фабричные митинги, переходили через Неву. Большинство рабочих вышли на забастовку, и их настойчиво подстрекали вооружаться «болтами, гайками, камнями» и даже кусками льда и идти «громить все магазины, которые только им встретятся»{185}. На пути к Литейному мосту забастовщики вновь устроили погром хлебопекарен; вначале завязались драки, которые переросли в грабежи. Путь через мост снова был заблокирован солдатами и казаками, хотя последние отказались разгонять забастовщиков, получив такой приказ. Забастовщики (около пяти тысяч человек) вновь приняли решение перейти по льду, чтобы добраться до центра города{186}. Из окон своих канцелярий французские дипломаты Луи де Робьен и Шарль де Шамбрюн видели, как те проделывали свой путь через Неву, «словно цепочка черных муравьев, «гуськом», как они петляли между «нагромоздившихся глыб льда и толстого снега». Казаки с другой стороны реки наблюдали за ними, передвигаясь галопом вверх-вниз по набережной, «весьма живописные на своих маленьких лошадях», с пиками и карабинами; но они не рискнули спускаться на лед, чтобы остановить манифестантов{187}.
К середине дня уже около 36 800 человек вышли на центральные улицы Петрограда{188}. Все трамваи встали, и, поскольку проехать по улицам было невозможно, извозчики также вернулись со своими дрожками домой. Толпа продолжала напирать и прокладывать дальше свой путь, продираясь мимо казаков (некоторые демонстранты даже проскакивали, ныряя, под их лошадьми), которые пытались преградить ей путь. Жившая в Петрограде француженка Амели де Нери осознала разницу между этими демонстрантами и теми, кто, «находясь в приподнято-мистическом состоянии», в атмосфере религиозного настроя принимал участие в демонстрации 1905 года. В 1917 году толпы состояли из реалистов, отметила она. «Два года войны закалили их гораздо больше, чем это могло бы сделать столетие спокойствия и мира»{189}. По мере того как толпа продвигалась вперед, «полиция и войска преследовали ее и всячески запугивали», но оружие не применяли{190}. Казачьи отряды, гарцевавшие по снегу на своих маленьких жилистых лошадях, продолжали удивлять своей сдержанностью: они ничего не предпринимали, даже когда в колоннах демонстрантов стало появляться все больше и больше красных флагов. Всякий раз, когда казаки останавливались, «вокруг них собирались мужчины и женщины и предлагали им присоединиться к демонстрантам». «Вы наши!» – кричали они им, а казаки улыбались и расступались, чтобы пропустить их. Репортер «Таймс» Роберт Уилтон слышал, как демонстранты обращались к войскам, с которыми они встретились при своем движении: «Вы же не будете стрелять в нас, братья! Мы только хотим хлеба!» «Нет, мы голодны, как и вы», – отвечали им казаки{191}.
Берт Холл, американский военный летчик, прикомандированный к российскому Императорскому военно-воздушному флоту, в этот день находился в Петрограде, и, как и у Томпсона с Харпер, это было его первым боевым крещением в России. Он описал в своем дневнике «бесконечные толпы людей, которые шли по улицам, распевая какие-то безумные песни и швыряя кирпичи в автомобили». Он видел рабочих с плакатами, которые требовали не только хлеба: «Дайте нам землю!», «Спасите наши души!». В конце одной колонны «маленькая девочка несла маленький флажок», на котором было написано: «Накормите своих детей!» Как он вспоминал, это была «самая трогательная сцена, которую я когда-либо видел в своей жизни». Почему русские просто «не пойдут, не сделают революцию и не покончат с этим?» – спросил он у своего русского коллеги. Увы, «Бог все еще любит царя, – ответили ему. – Было бы дурно восставать против правителя, который ладит с Богом». Берт Холл был возмущен: «Простые люди голодны; они уже слишком долго голодали. Боже, почему царь не сделал что-либо для этого! Какая возможность для какого-нибудь толкового американского бизнесмена! Только подумай об этом! Вся Россия может либо потерпеть крах, либо спастись только по воле мелкого толкового бизнесмена»{192}.
В то время как толпа весь день перемещалась вверх-вниз по Невскому проспекту, люди, жившие на нем, распахивали свои окна, чтобы посмотреть на происходящее и посочувствовать. У британского и канадского персонала Англо-русского госпиталя, а также у его пациентов был особый угол обзора событий из окна второго этажа здания. Медсестры получили указание «оставаться в помещениях и не выходить наружу, за исключением территории госпиталя»{193}. В Англо-русском госпитале «было полно солдат, готовых к любым чрезвычайным ситуациям»: тридцать военнослужащих Семеновского гвардейского полка находились там для охраны, трое из них стояли у входной двери с примкнутыми штыками. Персоналу госпиталя было приказано готовиться к эвакуации в самые сжатые сроки. Но все это вскоре оказалось невозможным из-за большого наплыва людей, двигавшихся вниз по Невскому проспекту{194}. «Демонстрантов просто расшвыривали, – вспоминала канадская медсестра Дороти Коттон. – Казаки, ехавшие навстречу, наезжали на них на лошадях и рассеивали их». Некоторые из пострадавших были доставлены в госпиталь – они были ранены полицейскими, переодетыми в солдат (как утверждалось){195}.
Флоренс Харпер и Дональд Томпсон в этот день были на улице с раннего утра, «следя за толпой»; бо́льшую часть времени их «носило в толпе вверх-вниз по Невскому проспекту», они поневоле были вынуждены порой бежать, скользя по снегу, а порой прижиматься к стенам зданий, чтобы их не задавили{196}. В конце концов их вынесло к Казанскому собору, традиционному месту сбора, где несколько колонн демонстрантов уже скопилось на площади. Некоторые демонстранты опустились на колени, обнажили головы и молились, другие собрались небольшими группами вокруг ораторов{197}. Казаки по-прежнему вели себя сдержанно, причем до такой степени, что «префект полиции» (по выражению леди Сибил Грей) подъехал к собору на своем автомобиле и «приказал офицеру патруля казаков атаковать демонстрантов с шашками наголо». Офицер отказался: «Я не могу отдать такой приказ, ведь они лишь просят хлеба». Услышав это, толпа одобрительно загудела, «казаки в ответ также ободряюще приветствовали ее»{198}. Томпсон и Харпер также обратили внимание на такой ответ. Не проявлялось никакой агрессии, «это была очень доброжелательно настроенная толпа». Было лишь одно исключение: американские журналисты видели, как полицейский в штатском «пытался сфотографировать» оратора, обращавшегося к толпе. Его сразу же заметили, напали на него и разбили его камеру. Его могли бы убить, если бы не конный полицейский («фараон»), который спас его. Томпсон тоже фотографировал, «используя свою маленькую камеру», но «старался не привлекать к себе внимания». Он отметил, что некоторые полицейские вели себя «скверно» и что многие из них были переодеты в солдат или в казаков{199}.
В четыре часа дня Харпер и Томпсона на обратном пути чуть не задавили на Невском проспекте рядом с Англо-русским госпиталем. Мимо них проезжали казаки, «смеясь и перешучиваясь с толпой» и «слегка подталкивая ее своими пиками», если она двигалась недостаточно быстро. Они ехали плотным строем, нога к ноге, и американские журналисты были вынуждены спасаться в проеме наружных створок входных дверей госпиталя. Харпер все же получила «ужасный удар пятой пики» от проезжавшего мимо казака. Она заметила, что это был мальчишка лет восемнадцати; он велел ей идти дальше, но она отказалась, и он снова ткнул ее пикой. «Этого было вполне достаточно», – вспоминала она. На пару с Томпсоном она «пролетела по мосту и вниз по Невскому проспекту»{200}.
К восьми часам вечера пятницы большинство демонстрантов, собравшихся в центре Петрограда, разошлись по домам, пообещав вернуться на следующее утро. Это был уже второй день массовых демонстраций, во время которого бастовало больше рабочих, чем когда-либо с начала войны. Демонстранты вели себя все более агрессивно, особенно по отношению к полиции и конным «фараонам». В ответ на это генерал Хабалов распорядился, чтобы на чердаках и крышах домов, гостиниц, магазинов, на колокольнях на Невском проспекте, а также на крышах железнодорожных вокзалов были установлены дополнительные пулеметы. В его распоряжении были также пехотные подразделения и пулеметчики и большое количество винтовок, револьверов и боеприпасов («хранившихся на различных полицейских участках»), которые, хотя и были предназначены для фронта, могли быть использованы в Петрограде, если бы в этом возникла необходимость{201}.
К большому разочарованию иностранных корреспондентов, оказавшихся в Петрограде в круговороте этих событий и теперь осознавших их возраставшее значение, они не могли дать правдивую информацию о ситуации для своих изданий в Великобритании, США и других странах из-за строгой царской цензуры, которая действовала относительно всех телеграфных сообщений, отправлявшихся из российской столицы. Арно Дош-Флеро написал в своем ежедневном сообщении для издания о «хлебных бунтах» и был вынужден «иметь дело с молодым чиновником, ответственным за цензуру». И каждый день ответ ему был одним и тем же: чиновник «предлагал мне чай, но ничего не обещал относительно моего сообщения». И только когда он наконец написал «о восторженном отношении населения к казакам», сообщение Арно Дош-Флеро было разрешено к отправке{202}. У Роберта Уилтона из издания «Таймс» некоторое время также были аналогичные трудности, и он был вынужден лишь смутно намекать на растущее недовольство в столице «из-за дезорганизации продовольственных поставок». В ту пятницу он сообщал о «продолжительных дебатах» в Думе о том, как бороться с продовольственным кризисом, одновременно подтверждая, что поведение демонстрантов в целом «не имело подрывного характера и не было продиктовано желанием отомстить». «Заверения властей о поставках хлеба, – телеграфировал он, ссылаясь на генерала Хабалова, – оказали положительное воздействие на ситуацию» (это было написано специально для того, чтобы обойти цензуру){203}. Слово «революция» журналист не упоминал[42].
В течение всей ночи с 23 на 24 февраля вспыхивали эпизодические перестрелки; несмотря на это, как ни удивительно, общественная жизнь столицы продолжалась. Александринский театр в тот вечер был полон, давали «Ревизора» Гоголя. Публика «весьма живо откликалась на сатиру на политические изъяны середины девятнадцатого века». Мало кто, казалось, был готов поверить, что «в этот момент в столице наяву разворачивалась настоящая драма»{204}. Лейтон Роджерс и несколько его коллег из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка направлялись на ужин в “Cafe de la Grave”, расположенное на цокольном этаже одного из зданий на Невском проспекте. По пути они впервые встретились с казаками, отряд которых промчался мимо них «по тротуару на полном скаку… Они кричали, как сумасшедшие, карабины подпрыгивали у них на спинах, шашки били по лошадям», «они размахивали стальными пиками». Роджерс со своими друзьями, взглянув на это, побежал сломя голову. После ужина они возвращались домой уже в темноте, атмосфера в городе «была накалена до предела». Отряды конных казаков все еще патрулировали город; они выстроились вдоль всего Невского проспекта, «вынуждая пешеходов идти посередине улицы между двумя рядами лошадей и стальных пик». «Эти ощущения я бы не назвал приятными, – вспоминал Роджерс. – Всю дорогу я представлял, как извиваюсь на одной из этих пик, как червяк на крючке». «Отныне я никогда не буду ловить рыбу на живую приманку», – резюмировал он{205}.
В поисках темы для очередной статьи Арно Дош-Флеро в этот день проделал «длинный путь» по Выборгской стороне и обнаружил, что «на ней было много войск». Некоторые трамваи еще ходили, «но в целом в районе стояла зловещая тишина». На улицах были только уже привычные очереди за хлебом и группы рабочих, чье «тяжелое молчание» показалось Флеро «многозначительным». Томпсон также заметил их, когда после ужина у «Донона» он решился до трех часов ночи прогуляться по окраинам города{206}. В посольстве Франции первый секретарь Шарль де Шамбрюн писал своей жене, обдумывая только что услышанные им новости о том, что на следующий день объявлена всеобщая забастовка. Будут новые демонстрации, будут новые акции протеста. Но что может сделать толпа «без алкоголя, без лидера, без четкой цели?» – задавался он вопросом. Наступила ночь, и Петроград застыл в напряженном ожидании{207}.
Глава 3
«Как в праздничный день, но в воздухе пахнет грозой»
«Ох уж эта нескончаемая русская зима, эти месяцами белые крыши и скользкие дороги», – с грустью писала в своем дневнике француженка Луиза Патуйе, хоть она уже давно привыкла к этому низкому серому небу, которое и хмурым утром 25 февраля, в субботу, приветствовало город новым снегопадом{208}. Лейтон Роджерс, напротив, восторженно восклицал: «Что за день! Всеобщая забастовка началась, это точно, и начались беспорядки». В то утро по дороге в банк он и его коллеги «обнаружили, что на улицах полно полицейских, пеших и конных, заводы не работают, по всему Невскому проспекту закрыты магазины, повсюду заколочены двери или окна». До него дошли слухи, что предыдущей ночью при попытке проникнуть в хлебный магазин впервые был убит человек. Люди на улицах, казалось, ищут развлечений, «как зеваки на большой сельской ярмарке», но Роджерсу «даже думать не хотелось о том, что может начаться после первого же выстрела»{209}.
Знал бы Роджерс, сколько оружия уже было на руках забастовщиков, которые готовились к неизбежным уличным боям с полицией, он был бы более встревожен. Посольства и дипломатические миссии по всему городу получали по телефону уведомления о том, что сотрудникам не рекомендуется покидать свои помещения и выходить на улицу. Тем не менее Роджерс в тот день несколько безрассудно отправился из Петроградского филиала Государственного муниципального банка Нью-Йорка с «краткосрочными казначейскими облигациями на сумму девять миллионов рублей», чтобы «положить их на хранение» в ячейку сейфа в хранилище Волжско-Камского банка, до того как в воскресенье банк закроется. Банкноты, общей стоимостью примерно 3 миллиона долларов США, он положил во внутренний карман пальто и покинул помещение филиала банка, который находился в здании бывшего посольства Турции на Дворцовой набережной. Однако на улице было полно народа, поэтому ему пришлось сделать крюк, чтобы обойти толпу. У Михайловского театра он ненадолго остановился, чтобы прочитать афишу нового французского сезона. И тут к нему подбежал его коллега из банка и закричал: «Где Вы, черт возьми, пропадаете?! Мы ищем Вас по всему городу, всех уже обзвонили!» Когда они позвонили в Волжско-Камский банк, оказалось, что Роджерс туда еще не приходил, и все были встревожены, подумав, что с ним что-то случилось, поскольку им намекнули, «что началась революция»{210}.
Рабочие из фабричных районов, выходившие тем утром на многотысячную демонстрацию, были настроены решительно и готовы к столкновениям с полицией. На этот раз под ватники они надели несколько слоев одежды, чтобы выдержать удары нагайками со свинцовыми наконечниками, которыми пользовались «фараоны». Некоторые даже смастерили себе металлические пластины, которые можно было надевать под шапку, чтобы защититься от таких ударов, а также набивали карманы любыми металлическими деталями, подходящими для метания, и оружием, которое они могли достать у себя на фабриках{211}. В полдень толпы начали двигаться вниз по Невскому проспекту, но «фараоны» уже ждали их на Литейном мосту. Когда толпа подалась вперед, чтобы попытаться перейти его, «фараоны» набросились на нее. Однако толпа сначала расступилась, чтобы пропустить их, а потом быстро сомкнула свои ряды, как в тиски захватив офицера полиции. Его стянули с лошади. Кто-то из толпы схватил его револьвер и застрелил офицера из его же оружия, другой в это время продолжал яростно бить его деревянной дубиной{212}. Это было первое открытое столкновение с полицией в тот день.
На юге Петрограда к забастовке присоединились рабочие большого предприятия – Путиловского завода, это было огромное количество людей. В течение дня стачка неумолимо распространялась по всему городу. В конце концов на улицу вышли все: приказчики и половые, повара, горничные и извозчики, работники жизненно важных для снабжения города предприятий энерго-, газо- и водоснабжения, а также рабочие трамвайных депо и вагоновожатые. С утра несколько хлебных лавок еще были открыты, но вскоре после полудня и они были вынуждены закрыться, а забастовка работников почтовых отделений и печатников привела к тому, что не доставлялись ни почта, ни свежие газеты. Количество бастующих еще более возросло, когда к ним присоединилось по меньшей мере 15 000 студентов. Они подошли пятнадцатью различными колоннами и объединились на Невском проспекте. Точно не известно, сколько всего человек вышло на демонстрации на улицы Петрограда в тот день; по официальным данным, их было от 240 000 до 305 000{213}.
Стихийные протесты из-за нехватки хлеба, начавшиеся двумя днями ранее, теперь разрослись в политическое движение, в ходе которого все больше и больше стало проявляться насилие, случались акты грабежа. Амели де Нери видела на Литейном проспекте, как молоденький паренек, который помогал грабить небольшую еврейскую лавочку, стоял там и продавал шесть десятков украденных перламутровых пуговиц за рубль. Это, может быть, являлось просто мелким воровством, но Амели де Нери почувствовала, что произошло тревожное изменение общественных отношений, вызванное протестами, стали стираться грани между «своим» и «чужим». А назавтра, задалась она вопросом, быть может, «по моральным ценностям будет нанесен еще более мощный удар»{214}. Однако пока не было еще никаких внешних признаков организованного восстания, протест находился в зачаточном состоянии и не имел лидера. «Это еще бунт? Или уже революция?» – вопрошал Клод Анэ, петроградский корреспондент газеты «Ле пти паризьен», который – как и другие иностранные журналисты в городе, – к несчастью, не имел возможности отправить эти новости по телеграфу своей газете в Париж{215}.



