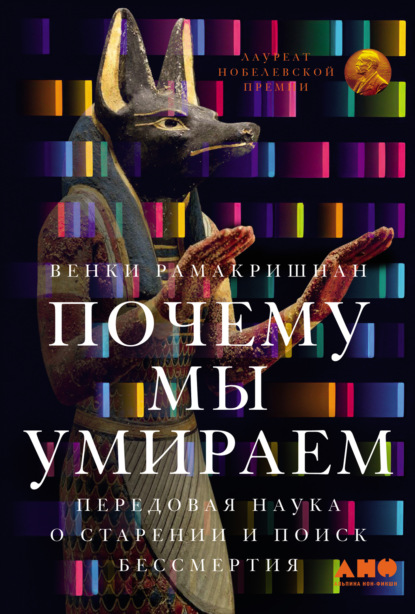
Полная версия:
Почему мы умираем: Передовая наука о старении и поиск бессмертия
Таким образом, точный момент смерти не поддается определению, но то же самое можно сказать и о моменте рождения. Мы существуем в утробе матери еще до появления на свет и первого вздоха. Во многих религиях началом новой жизни считается момент зачатия, но и зачатие слишком расплывчатое понятие. Существует некий промежуток времени после того, как сперматозоид соприкоснется с поверхностью яйцеклетки, в течение которого должен произойти ряд событий в определенной последовательности, прежде чем в оплодотворенной яйцеклетке будет запущена генетическая программа. После этого наступает период, длящийся несколько дней[11], когда оплодотворенная яйцеклетка (зигота) делится несколько раз, и эмбрион (на этом этапе называемый бластоцистой) внедряется в слизистую оболочку матки. Еще позже начнет формироваться зачаток сердца, и лишь спустя долгое время после этого, когда сформируются нервная система и мозг, растущий эмбрион обретает способность чувствовать боль.
Вопрос о том, когда начинается жизнь, не только научный: как показывают неутихающие споры об абортах, он носит общественный и культурный характер. Даже в странах, где аборты разрешены, например в США и Великобритании, закон запрещает использовать для научных исследований эмбрионы старше двух недель: приблизительно в этом возрасте у зародыша появляется так называемая первичная полоска – борозда, делящая плод на левую и правую стороны. С этого момента эмбрион уже не может разделиться и развиться в однояйцевых близнецов. Хотя мы и считаем смерть и рождение мгновенными событиями – в одно мгновение мы появляемся на свет, а в другое перестаем существовать, – границы жизни размыты. Это же верно и в отношении более крупных организационных единиц. Сложно точно определить момент, когда возникает город или когда он погибает.
Смерть может происходить на всех уровнях[12], от молекул до целых народов, но у каждой из столь разных структурных единиц мы видим одни и те же фазы: рост, старение и гибель. При этом во всех случаях наступает переломный момент, когда составные части больше не обеспечивают функционирование целого организма. Молекулы в наших клетках согласованно взаимодействуют, чтобы клетка исправно работала, но сами они могут подвергаться химическому воздействию и в конечном итоге разрушиться. А если эти молекулы участвуют в жизненно важных процессах, то и сами клетки стареют и умирают. Триллионы клеток выполняют разнообразные задачи на разных уровнях человеческого организма (клеток, тканей, органов) и взаимодействуют друг с другом, чтобы обеспечить его нормальное функционирование. Клетки в нашем теле отмирают постоянно без каких-либо отрицательных последствий для нас. На самом деле многие из них запрограммированы на смерть еще во время внутриутробного развития организма – это явление называется апоптозом. Однако, если погибает определенное количество важных клеток – сердца, мозга или иного столь же значимого органа, – организм теряет способность функционировать и умирает.
Мы, люди, не так уж отличаемся от клеток. У нас тоже есть свои роли внутри групп, предприятий, городов, сообществ. Потеря одного работника обычно не сказывается на эффективности крупной компании, тем более на жизни города или страны, так же как гибель одного дерева никак не повлияет на жизнеспособность леса. Но если внезапно уйдут все ключевые фигуры, например все высшее руководство, благополучие и будущее компании окажутся под угрозой.
Интересно также отметить, что продолжительность жизни соразмерна величине объекта. Большинство клеток в человеческом организме умирает и заменяется новыми множество раз, прежде чем умрет сам человек, а срок жизни предприятий обычно гораздо меньше, чем городов, в которых они работают. Принцип безопасности за счет многочисленности характерен как для эволюции живых существ, так и для развития общества. Жизнь предположительно возникла с появлением самовоспроизводящихся молекул, которые затем организовались в обособленные структуры, известные нам как клетки. Какие-то клетки позже объединялись, формируя более сложные организмы – сначала одноклеточные, потом многоклеточные. Затем организмы начали образовывать группы себе подобных, или, если говорить о людях, сообщества, города и народы. На каждом следующем уровне организации системы повышается безопасность и взаимозависимость составляющих его элементов. В современном мире вряд ли кто-то из нас мог бы выжить без взаимодействия с другими людьми.
ОДНАКО, РАЗМЫШЛЯЯ О СМЕРТИ, мы обычно имеем в виду свою собственную: прекращение нашего осознанного существования как личности. Есть явный парадокс, связанный с этим видом смерти: отдельные индивиды умирают, но сама жизнь продолжается. Я говорю сейчас не о том, что после нас остаются жить наши родные, знакомые и общество в целом. Более примечательно то, что каждое живущее сегодня существо является прямым потомком древнейшей предковой клетки, существовавшей миллиарды лет назад. Значит, пусть даже меняясь и эволюционируя все время, какая-то сущность, присутствующая во всех нас, живет непрерывно уже несколько миллиардов лет. И пока на Земле существует жизнь, так можно будет сказать о каждом живом существе, если только однажды мы не создадим полностью искусственную форму жизни.
Поскольку мы прямые потомки наших древних предков, в каждом из нас должно присутствовать нечто неподвластное смерти. Это информация о том, как создать новую клетку или целый организм даже после того, как изначальный носитель этой информации умер. Точно так же, как идеи и слова, изложенные в данной книге, могут сохраняться в той или иной форме еще долгое время после того, как бумажная книга рассыплется в прах.
Информация, необходимая для продолжения жизни, содержится, как известно, в генах. Каждый ген – это участок молекулы ДНК, которая хранится в виде хромосом в клеточном ядре, особом вместилище для генетического материала. Бо́льшая часть наших клеток содержит один и тот же набор генов, известный под общим названием гено́м. Всякий раз, когда клетка делится, она передает каждой дочерней клетке весь геном. Подавляющее большинство этих клеток являются просто кирпичиками нашего тела, и с его смертью они погибнут. Но часть клеток его переживет, превратившись в наше потомство – новых индивидов, которые составят следующее поколение. Какая же особенность этих клеток позволяет им жить дальше?
Ответ на этот вопрос помог разрешить яростный спор, начавшийся задолго до открытия генов, не говоря уже о ДНК. Когда ученые только начали допускать идею эволюции биологических видов, родились две противоположные теории. Первая, выдвинутая французским ученым Жан-Батистом Ламарком в начале XIX в., предполагала, что приобретенные признаки могут наследоваться. Например, если жирафу приходилось постоянно вытягивать шею, чтобы объедать листья с верхних ветвей деревьев, то его потомство унаследует удлинившуюся в результате этого шею родителя. Вторую теорию – естественного отбора – предложили английские биологи Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес. Согласно этой теории, жирафы были разными: у кого-то шея была длиннее, у кого-то короче. У длинношеих было больше возможности найти пищу, и, соответственно, они чаще оказывались способными выжить и дать потомство. И с каждым следующим поколением жирафов в силу естественного отбора выживали вариации со все более длинными шеями.
В 1858 г. работавший тогда на Малайском архипелаге 35-летний Альфред Уоллес, весьма далекий от академического мира, написал о своих идеях Дарвину, не догадываясь, что старший коллега пришел к подобным выводам на много лет раньше. Поскольку эти идеи были столь революционны и могли иметь значительные социальные и религиозные последствия, Дарвин долго не решался их обнародовать, однако письмо Уоллеса побудило его к действию. Дарвин входил в элиту британского научного сообщества и, будь он менее щепетилен, мог бы просто проигнорировать письмо и поспешить с опубликованием своей работы. Имени Уоллеса никто бы никогда не узнал. Тем не менее Дарвин представил совместный доклад на заседании Лондонского Линнеевского общества 1 июля 1858 г. Реакция на доклад была относительно сдержанной и не повлекла за собой почти никаких немедленных последствий. Выступая с ежегодным обращением, президент Линнеевского общества сделал одно из самых неудачных заявлений в истории науки: «Этот год, в сущности, не был отмечен никакими поразительными открытиями того рода, что сразу же переворачивают, так сказать, ту область науки, в которой совершаются». И все же доклад стал важным шагом[13] на пути к публикации в следующем году труда Дарвина «Происхождение видов», который бесповоротно изменил наше понимание биологии.
В 1892 г., через 33 года после выхода фундаментальной работы Дарвина, немецкий биолог Август Вейсман выступил с убедительным опровержением идей Ламарка. Люди давно знают[14], что секс и размножение связаны между собой, но лишь в последние 300 лет они обнаружили, что ключевым событием здесь является слияние сперматозоида с яйцеклеткой, запускающее этот процесс. В результате оплодотворения яйцеклетки и происходит сотворение совершенно нового существа, ранее казавшееся чудом. Многоклеточное живое существо состоит из триллионов клеток, которые выполняют почти все телесные функции в организме и умирают вместе с ним. Они известны под общим названием «соматические клетки» (от лат. soma – «тело»). В то же время сперматозоид и яйцеклетка – это клетки зародышевой линии. Они находятся в половых железах: в семенниках у мужских особей и в яичниках у женских. Только эти клетки могут передавать наследуемую информацию (гены). Вейсман предположил, что клетки зародышевой линии могут дать начало соматическим клеткам у потомства, но обратный процесс невозможен. Это строгое различие между двумя видами клеток называется барьером Вейсмана. Так что, вытягивая шею, жираф может воздействовать на разные виды соматических клеток, составляющих мышцы и кожу его шеи, но эти клетки не могут передать какие-либо изменения своему потомству. На клетки зародышевой линии, укрытые в половых железах[15], никакие действия жирафа и никакие признаки, приобретенные при вытягивании шеи, повлиять не могут.
Клетки зародышевой линии, передающие гены потомству, бессмертны в том смысле, что их крохотная частица используется для создания следующего поколения как соматических, так и клеток зародышевой линии путем полового размножения, которое, в сущности, эффективно переводит назад стрелки на часах старения. В каждом поколении наши тела, или soma, – это лишь сосуды для передачи генов, и, выполнив задачу, они становятся ненужными. Смерть животного или человека – это на самом деле лишь гибель сосуда.
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТ СМЕРТЬ? Почему бы нам не жить вечно? Русский ученый-генетик XX в. Феодосий Добржанский писал: «Ничто в биологии не имеет смысла иначе как в свете эволюции»[16]. В биологии на вопрос «Почему все происходит так, а не иначе?» есть единственный ответ: потому что так распорядилась эволюция. Начав задумываться над тем, почему мы умираем, я наивно полагал, что, видимо, смерть – это стратегия природы, позволяющая новым поколениям процветать и размножаться без путающихся под ногами стариков, посягающих на ресурсы, а значит, способствующая выживанию генов. Более того, каждый представитель следующего поколения будет обладать новой комбинацией генов, отличной от родителей, и постоянная перетасовка этой колоды облегчит выживание вида как целого.
Эта идея живет по меньшей мере со времен Лукреция, римского поэта I в. до н. э. Она привлекательна, но тем не менее неверна. Беда в том, что любые гены, приносящие пользу группе за счет отдельной особи, не могут стабильно существовать в популяции из-за проблемы «мошенников». С точки зрения эволюции это любые мутации, от которых индивид выигрывает за счет группы. Вообразим, например, что существуют гены, запускающие старение, чтобы люди своевременно вымирали на пользу популяции. Если у индивида произойдет мутация[17], отключающая эти гены, и он проживет дольше, то получит больше возможностей завести потомство, хотя группе это пользы не принесет. В итоге такая мутация закрепится.
В отличие от людей, многие виды насекомых и большинство зерновых культур размножаются один раз в жизни. Такие виды, как почвенная нематода[18] Caenorhabditis elegans или, например, лосось, производят огромное количество потомков, а затем вскоре погибают, совершая своего рода самоубийство и предоставляя свои разлагающиеся тела для создания питательной среды для потомства. Подобное репродуктивное поведение подходит для червей, которые обычно представляют собой инбредные линии, и, следовательно, их потомство генетически идентично родительским особям. С другой стороны, репродуктивная стратегия лосося обусловлена его жизненным циклом: чтобы вернуться к месту нереста, лосось должен проплыть в океане тысячи миль. Поскольку большинству лососей вряд ли удастся совершить такое путешествие дважды[19], для них лучше лишь один раз вложить все имеющиеся ресурсы в размножение, используя при этом всю энергию и даже идя на гибель, – чтобы получить достаточно потомства и максимально увеличить шансы нового поколения на выживание. Для видов, которые могут размножаться неоднократно, например человека, мухи или мыши, умирать в момент рождения потомства, которое родственно им лишь наполовину, с генетической точки зрения бессмысленно. В целом естественный отбор редко работает на пользу вида или даже группы особей. Природа, скорее, производит отбор в пользу того, что биологи-эволюционисты называют приспособленностью или способностью индивида передавать свои гены.
Если цель состоит в том, чтобы гарантировать передачу генов, то почему эволюция вообще не отменила старение? Ведь чем дольше человек живет, тем больше у него шансов оставить потомство. Если коротко, то дело в том, что на протяжении большей части истории нашего вида жизнь отдельного индивида продолжалась недолго. Обычно болезни, несчастные случаи, хищники или враги убивали большинство людей еще до достижения 30-летнего возраста. Так что у эволюции не было причин проводить отбор в пользу долголетия. Однако теперь, когда мы сделали мир более безопасным и благоприятным для нас, почему продолжительность жизни больше не увеличивается?
За решение этой загадки в 1930-е гг. взялись два представителя британской научной элиты, Джон Бёрдон Сандерсон Холдейн и Рональд Фишер. Биолог Холдейн, обладавший поистине энциклопедическими знаниями, изучал практически все, от механизмов действия ферментов до происхождения жизни. Он придерживался социалистических воззрений[20] и в конце жизни, разочаровавшись в Британии, переехал в Индию, где и умер. Что касается Фишера, его фундаментальный вклад в статистику расширил наше понимание эволюции и заложил основы рандомизированного клинического исследования, которое используется для тестирования новых лекарств и методов лечения и уже спасло миллионы жизней. Спустя более полувека после смерти (1962) Фишер приобрел скандальную славу из-за своих идей в области евгеники и расового превосходства. Недавно руководство кембриджского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Фишер когда-то работал, демонтировало витраж[21], посвященный одной из ключевых идей ученого, касающихся проведения экспериментов, и где сейчас находится этот витраж, никто точно не знает.
Независимо друг от друга Фишер и Холдейн приблизительно в одно и то же время выдвинули революционную идею, согласно которой мутация, вредная на начальном этапе жизни, будет жестко отбраковываться, поскольку ее носитель не успеет дать потомство. Однако этого нельзя сказать[22] про ген, который несет вред для нас только на поздних этапах жизни, поскольку к тому времени, когда он пагубно скажется на носителе, тот уже успеет передать свои гены потомству. Бо́льшую часть истории нашего вида носитель такого гена даже не замечал его вредного воздействия, потому что умирал раньше. И лишь сравнительно недавно мы стали узнавать о последствиях мутаций, которые причиняют вред в конце жизни. Например, болезнь Гентингтона обычно поражает людей после 30 лет, а к этому возрасту большинство из них – как показывает история – успевают дать потомство и умереть.
Гипотеза Фишера и Холдейна объясняет, почему некоторые вредоносные гены сохраняются в человеческой популяции, но связь этих генов со старением не сразу стала очевидной. Понимание пришло, когда на проблему обратил внимание другой британский биолог, Питер Медавар[23], выдающийся ученый и яркая личность. Уроженец Бразилии, Медавар получил известность в основном благодаря идеям о том, почему иммунная система отторгает пересаженные органы и как приобретает толерантность к ним. В отличие от многих ученых, сосредоточенных на одной узкой области, Медавар, подобно Холдейну, интересовался широким кругом вопросов и писал книги, которые славятся как познавательностью, так и изяществом стиля. Многие ученые моего поколения выросли на его книге «Советы молодому ученому» (1979), которую я нахожу напыщенной, исполненной высокомерия, глубокомысленной, увлекательной и остроумной одновременно.
Медовар предложил так называемую теорию накопления мутаций, объясняющую старение. Даже если некоторое количество мутаций, которые носит в себе индивид, не оказывают в начале жизни заметного влияния на его здоровье, позже, накопившись, они вызовут хронические заболевания, которые и приводят к старению.
Биолог Джордж Уильямс сделал следующий шаг в том же направлении, предположив, что причина старения заключается в том, что природа отбирает даже те генетические варианты, которые негативно сказываются в пожилом возрасте, – если они благоприятны на ранних этапах жизни. Эта гипотеза известна под названием «антагонистическая плейотропия». Плейотропия – это просто мудреный термин, означающий ситуацию, когда ген может оказывать множественное воздействие. Антагонистическая плейотропия, таким образом, означает, что один и тот же ген может оказывать противоположные воздействия. У генов, участвующих в старении, эти эффекты могут проявляться в разное время: в начале жизни полезные, ближе к концу – вредные. Например, гены, которые помогают нам расти в детстве и юности, увеличивают риск возрастных заболеваний, таких как рак или деменция, в пожилом возрасте.
Подобным же образом гипотеза одноразовой сомы предполагает[24], что организм, ресурсы которого не безграничны, должен распределять их, инвестируя, с одной стороны, в рост и размножение на ранних этапах жизни, а с другой – в продление жизни путем постоянной репарации изношенных и поврежденных клеток. По мнению биолога Томаса Кирквуда, впервые выдвинувшего эту теорию в 1970-е гг., старение организма – это эволюционный компромисс между долголетием и более высокими шансами на репродуктивный успех и передачу генов.
Имеются ли какие-либо данные в подтверждение этих различных представлений о старении? Ученые проводят эксперименты на плодовых мушках (дрозофилах) и на червях-нематодах – двух видах, любимых биологами за то, что их легко выращивать в лаборатории и у них происходит быстрая смена поколений. Как и предсказывают описанные выше гипотезы[25], мутации, увеличивающие срок жизни, снижают плодовитость (число потомков от одной женской особи за определенный срок). Точно так же снижение калорийности дневного рациона увеличивает у этих видов срок жизни и снижает плодовитость.
Что касается экспериментов с участием людей, помимо этических аспектов возможность их проведения осложняет тот факт, что смена поколения у нас происходит за два-три десятилетия, а это слишком большой срок для обычной научной карьеры, не говоря уже о студентах или аспирантах, которым нужно выполнить работу за какие-то несколько лет. Однако есть необычное исследование[26] британской аристократии последних двенадцати с лишним веков, и оно показывает, что среди женщин, перешагнувших 60-летний рубеж (выборка, исключающая такие факторы, как болезнь, несчастные случаи и смерть при родах), дольше всех прожили те, у кого меньше детей. Авторы исследования утверждают, что у людей тоже прослеживается обратная зависимость между плодовитостью и долголетием, хотя, разумеется, как известно любому измученному родителю, может быть множество других причин, по которым малодетность способствует продлению жизни.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ в последние сто лет заставляет обратить внимание на еще одну особенность человеческого старения, практически не присущую другим видам: менопаузу. За исключением нескольких видов, включая кита-косатку, большинство женских особей на Земле способны размножаться почти до конца жизни, а вот женщины нашего вида почему-то утрачивают детородную функцию в среднем возрасте. И столь резкое изменение в женской физиологии по сравнению с постепенным угасанием половой функции у мужчин также представляется довольно странным.
Можно было бы предположить, что, если эволюция производит отбор с учетом способности передавать гены, она должна стремиться к тому, чтобы мы размножались как можно дольше. Почему же тогда женщины относительно рано утрачивают фертильность?
Возможно, сам этот вопрос поставлен неверно. Наши ближайшие родственники, например человекообразные обезьяны, перестают давать потомство примерно в том же возрасте, что и мы: ближе к 40 годам. Разница в том, что они обычно вскоре умирают. И на протяжении большей части истории человечества большинство женщин также умирали вскоре после менопаузы, если не раньше. Так что правильнее будет, пожалуй, спросить не почему менопауза наступает так рано, а зачем женщины так долго живут после нее.
Человек не может быть уверен, что произвел потомство, успешно передав дальше свои гены, пока младший из его детей не станет самостоятельным, а у людей очень длинное детство, то есть время, когда они зависят от родителей. Менопауза могла возникнуть[27] как защита женщины от повышенного риска деторождения в пожилом возрасте, чтобы, живя дольше, она имела возможность заботиться о тех детях, которых уже родила. Это также может объяснить, почему мужчины – которым ничего подобного не грозит – могут сохранять репродуктивную способность в гораздо более старшем возрасте. Таким образом, менопауза могла появиться в процессе эволюции как адаптация, повышающая для потомства женщины вероятность достичь зрелого возраста – и передать ее гены дальше. В этом состоит так называемая гипотеза «хорошей матери». Действительно, немногие виды, у которых женские особи живут намного дольше фертильного возраста, – это как раз те, детеныши которых нуждаются в продолжительной материнской заботе. Впрочем, даже у этих видов репродуктивная функция скорее постепенно сходит на нет, чем резко прекращается, как при менопаузе. Например, слоны, хотя их фертильность[28] снижается с возрастом, не в пример людям способны давать потомство до глубокой старости. Подобным же образом обстоит дело у шимпанзе[29]: они тоже, как показали наблюдения, живут дольше своего детородного возраста, но у них менопауза наступает в самом конце жизни.
Предложенная антропологом Кристен Хоукс гипотеза «бабушки»[30], также объясняющая происхождение менопаузы, распространяет идею на следующее поколение. Согласно этой гипотезе, жить дольше имеет смысл, если женщина помогает заботиться о внуках, тем самым повышая их шансы на выживание и размножение. Некоторые ученые возражают, что отказ от возможности передать половину своих генов, продолжая рожать детей, ради повышения выживания внуков, у которых лишь четвертая часть ее генов, не самая выигрышная стратегия для женщины.
Другая идея, основанная на результатах изучения китов-косаток[31], одного из немногих видов, у самок которых, как и у людей, наступает менопауза и которые живут большими группами, состоит в том, что менопауза – это способ избежать конфликта между поколениями. У некоторых видов, у которых размножение происходит в группах, репродуктивная способность подавляется у молодых женских особей, роль которых – помогать старшим фертильным самкам. Но у нашего вида такого конфликта поколений практически не существует: женщины перестают рожать, когда следующее поколение только начинает. Молодой женщине нет смысла помогать свекрови завести еще больше детей, так как у нее со свекровью нет общих генов. А вот женщина, помогающая с потомством невестке, тем самым способствует передаче четверти своих генов, которую наследуют внуки. Так что для нее, скорее всего, лучше прекратить размножаться и вместо этого заботиться о следующем поколении.
Возможно, эволюция просто распорядилась так, что число яйцеклеток[32] у женщины соответствует среднему сроку ее жизни в дикой природе. Стивен Остед из Университета Алабамы в Бирмингеме отмечает, что менопауза, может быть, вовсе не является адаптацией, направленной на повышение выживаемости детей или внуков. Прошло всего лишь 40 000 лет с тех пор, как мы стали жить заметно дольше, чем неандертальцы и шимпанзе, так что женские яичники, возможно, просто не успели[33] адаптироваться к новому сроку жизни организма. При невозможности проверить гипотезу экспериментально, ученые, особенно биологи-эволюционисты, любят поспорить.

