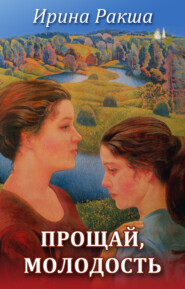скачать книгу бесплатно
Это Париж, 2 декабря 1937 года, идёт судебный процесс – изнурительный, демагогический, предрешённый спектакль. Он стал в жизни актрисы последним спектаклем. И, как всегда, у героини – главная роль. Однако слушать аккомпанементом ложь, клевету и наветы от вчерашних друзей и знакомых просто мучительно. Скамья подсудимых, как сцена, и на ней (уже за барьером сего бытия) – немолодая, горькая, женщина в чёрном. Прекрасны гордая голова, тёмные косы причёски, высокая шея. Ей пятьдесят три.
А на барьере, отделяющем её от зала «неправосудия», трагически сложены кисти ещё прекрасных рук, крест-накрест, в кожаных чёрных перчатках. Сколько в жизни было поклонов этим рукам! Сколько восторженных слов величайших людей эпохи о них было сказано: «…и пальцы эти живут, смеются, страдают и плачут…»
И вот на очередной вопрос судьи: «Что вы можете сказать о похищении?» – звучит последний спокойный ответ, достойный русской христианки: «Господь Бог – мой свидетель. Он видит, что я невиновна».
Всматриваюсь в лицо на фотографии, в родные, такие дорогие мне черты. Чем глубже суть человека, тем глубже его одиночество в мире… И почему-то на память приходят строки поэта: «Где мы были? В комнате сидели? Как могли дышать мы в этот час?». Впрочем, я ещё не дышала – ещё не родилась. А молодой мой папа?
Может, тогда в далёкой «красной» Москве он, беспечный студент ТСХА, спешил в кино в останкинский парк на свидание с моей будущей мамой-студенткой? И не подозревал, что происходит в тот же час где-то в далёкой Европе, в каком-то зале суда, с его родною душой, родной кровью? С его матерью, которую всю жизнь его заставляли забыть и называть тёткой?.. Но мать она ему или тётка, всё равно родная кровь, родная душа.
Порой задаюсь вопросом: что было бы с Надеждой Васильевной, вернись она в Россию в тот роковой 1937-й? Или вообще останься она в России после Гражданской в двадцатых? Ответ во всех случаях однозначен. Погибла бы. Но и в Париже до неё дотянулась-таки рука палача…
Снова смотрю на старое фото. На суде достойная, гордая поза её поражает. Она уже нездешняя, потустороння, уже на пороге вечности. Не замечает ни кино-, ни фотокамер, ни зала, с любопытством шумящего. Она уже не хочет видеть ничего.
Трагедия состоялась. Спектакль окончен, и занавес опускают. Погибла Родина, убит Государь, погибли в России все её близкие, а теперь погиб и муж, нет её дома, и предали друзья… Вот и всё – мир рухнул. Завтра, сменив чёрное платье на тюремное рубище, она станет каторжанкой. Ей в собственность оставят только воспоминания. Но это – завтра. А пока, в последний миг, она «на публике», которая жадно следит за казнью, за каждым жестом казнимой.
И ей, легендарной русской певице, актрисе, которую почитал сам Государь Всея Руси, ей, уходя из этого мира, надо держаться с честью, с достоинством. И она держалась.
…В тюрьме эта русская была странной заключённой. Бледная, постаревшая, обессилевшая женщина, но с гордо посаженной головой, она не желала ни с кем общаться по-французски. И вела себя странно, словно тронутая умом. Плохо ела, была послушна, безропотна и всё что-то писала, а порой тихо, негромко пела. Да так пела, что заключённые в соседних камерах, прислушиваясь, плакали. Это были какие-то протяжные, непонятные напевы на русском, похожие на молитвы: «Ох, то не ветер ветку клонит, / Не дубравушка шумит. / То моё, моё сердечко стонет, / Как осенний лист дрожит…» или «Замело тебя снегом, Россия. / Запуржило седою пургой. / И печальные ветры степные / Панихиду поют над тобой». А ещё она нараспев как бы сказывала: «…И спаси, Господи, души рабов твоих. И прости согрешения их, вольные и невольные. И даруй им Царствие небесное». А может, у русских это и были молитвы?..
Порой, молясь в тюремной часовне, она словно замертво падала на холодные церковные плиты перед образом Христа на Кресте: «Яви, Господи, правду твою…» – замирала надолго, словно ожидая ответа. И тогда служителям приходилось под руки её поднимать.
Дочь Деникина в своём телеинтервью вспоминала, как она, тогда совсем ещё молодая, неожиданно увидела великую Плевицкую на тюремном кладбище в Реми. «И с трудом узнала ту великую, которая изумительно пела нам когда-то в концертах, на русских праздниках». На чьей-то могиле каторжанка, присев, любовалась недавно расцветшими цветочками розовых маргариток. «И, возможно, одну хотела сорвать, взять с собой, – говорила Деникина. – Но я подняла палец, и она молча сразу же отошла, конечно меня не узнав».
Весной 1940 года уже ослабевшая от болезней Надежда Васильевна просила пригласить к ней из Парижа священника, её духовника. Исповедаться, причаститься.
Он приехал, пробыл в камере довольно долго, а уезжая, утирал слёзы со щёк: «Пречистая душа. Другой такой я не видел». А 5 октября 1940 года она, получив от знакомых «с воли» пакет с передачей, где почему-то оказалась и губная помада, неожиданно занемогла. И вскоре загадочно умерла в тюремной больнице. Затем незаметно и тихо была погребена на тюремном кладбище… Светильник угас…
А между тем в Москве, на Лубянке, в химической лаборатории генерала Павла Судоплатова продолжались разработки препаратов – новейших ядов. И удачное производство это проявляло себя ещё долгие годы и в СССР, и в Европе.
Очень скоро немецкое гестапо (по свидетельству того же Б. Прянишникова), вероятно имея на то основания, извлекло, эксгумировало тело заключенной № 9202 из могилы. И подвергло тщательному (химическому) обследованию. Зачем педантичные, рациональные немцы пошли на это? Зачем гестапо понадобилась эксгумация? Зачем нужен был результат химических анализов? Какой секрет хотели они раскрыть?..
В середине 1990-х посетившая меня парижанка Анна (внучка адвоката Ф.) с архивными документами, подтверждавшими абсурдность процесса против певицы, поведала и о другом страшном свидетельстве. В 1941-м после эксгумации тело Плевицкой гестаповцы во дворе тюрьмы разорвали на части танками. Затем закопали в безымянной общей могиле. Дальнейшее – без комментариев.
Только один вопрос: за что могли фашисты так ненавидеть эту русскую женщину?
А нам, сегодняшним, остаётся лишь преклонить колена перед величием артистки, певицы, основоположницы жанра русской народной песни – как символа Родины, – принявшей мученический Крест за Веру, Царя и Отечество и полвека нёсшей по миру знамя бессмертной нашей культуры. Воистину: «Блаженны гонимые правды ради, ибо тех будет Царствие Небесное».
В поисках материалов о жизни Надежды Васильевны я наткнулась в архивах музея Бахрушина на пожелтевший листок газеты 1915 года. На нём – изящный (карандашом) женский портрет. Прекрасные тёмные косы вокруг головы, на губах играет улыбка, но в больших выразительных глазах – безысходная скорбь. Подпись: «Рисунок А. Койранского. К получению Н. В. Плевицкой золотой медали». А рядом текст. За подписью «К.». Почти пророческий: «Сейчас в большую моду входит Н. Плевицкая, гастролировавшая в «Буфф» и получившая имя певицы народной удали и народного горя. Карьера её удивительна. Прожила семь лет в монастыре. Потянуло на сцену. Вышла за артиста балета. Стала танцевать и петь в кафешантанах, опереттах. Выступала и с Собиновым, и одна… В «Буфф», среди сверкания люстр, пела гостям романсы, русские и цыганские песни… Какой прекрасный, гибкий, выразительный голос. Её слушали, восторгались… И вдруг запела однажды старую-старую, забытую народную песню. Про похороны крестьянки. Все стихли, обернулись… В чём дело? Какая дерзость… Для чего в «Буфф» смерть? Крестьянский гроб? Посетители пришли для забавы, смеха, а слышат: «Тихо тащится лошадка, по пути бредёт, гроб, рогожею покрытый, на санях везёт…» Все застыли. Что-то жуткое рождалось в её исполнении. Сжимало сердце. Наивно и жутко. Наивно, как жизнь, и жутко, как смерть…»
…Я смотрю в вечернее окно. С высоты четырнадцатого этажа моей квартиры – россыпь огней прекрасной, летней Москвы начала XXI века. Время смутное, неуютное: что-то будет с моей страной завтра, через год, через десять? И время, возможно, совсем неподходящее для «возвращения» Надежды Васильевны из забвения и изгнания – на Родину. Хотя, впрочем, она знавала времена и похуже.
Да и те её современники, с кем она была знакома, дружна, мало-помалу вернулись: Шаляпин и Есенин, Бунин и Ильин, Мережковский и Зайцев, Цветаева и Гиппиус, Рахманинов и Шаламов. Их издают, изучают, читают. Может, и ей пора вернуться – своими книгами, своими песнями? Всё всегда «возвращается на круги своя».
…Мой муж, художник Юрий Михайлович Ракша, сказал мне незадолго до своей смерти как бы невзначай: «Это для красоты словца говорят, будто никто не забыт, ничто не забыто. Жизнь тех, кто ушёл, впрямую зависит от тех, кто остался…» Только жаль, что потомки это не всегда понимают. У меня в доме сохранилось столько памятных реликвий о дорогих, прежде меня ушедших близких, что моей жизни не хватит воскресить в слове всё дорогое сердцу. Но эту шкатулку орехового дерева, которая дожила до сегодня, я открываю аккуратно (ключик давно потерян) и не спеша. Конечно, она порядком уже опустела. Но ещё победно блестит зеркальце, в которое смотрелась волшебница-хозяйка, ещё розовеет атлас, и так же нежны лайка её перчаток и аромат духов. Вот открытки, её переписка: Ницца, Париж, Петербург… Вот подорожная иконка Богоматери. Вот кусочек домотканого полотенца. Он вышивался чёрно-красным курским крестиком более ста лет назад в избе под соломенной крышей юными пальчиками сестёр Винниковых. Рисунок замысловат. Под деревом плетень у дома, и мать с четырьмя дочками – расшитые фартуки, по плечам косы. Орнамент из букв: «Как у наших у ворот всегда девок хоровод». Уж не тот ли хоровод, Дёжкин, будущий? Её многотрудный жизненный карагод?.. Именно он. Тот самый…
В шкатулке и фотографии: стройная красавица в длинном платье обнимает за шею коня… вот кормит кур из подола. А это – её красивый дом на высоком фундаменте, где хозяйку даже снимал режиссёр Гардин в немом кино. Дом этот сгорит в войну. А на этой – светлые лики наших предков: прадед Василий Аврамович (по прозвищу Солдат) и прабабушка Акулина Фроловна, в аккуратном платочке. Высоколобая и степенная. А вот на её коленях испуганный внук, карапуз Женечка, который выживет и позже станет моим отцом. Но самое главное в этой шкатулке – две книжечки, написанные хозяйкой в эмиграции. Конечно, в надежде на прочтение кем-то когда-то в будущем. «К тебе, имеющему быть рождённым столетие спустя, как отдышу…» И отдышала. А вот книги остались, выжили. И на каждой странице – драгоценная «энциклопедия жизни» давних лет. И в каждой строке – сама Надежда, её душа, мысли, музыка её слова. И благодаря этому встают во весь рост светлые образы моих предков – крепостных крестьян, православных людей крепкой стати: работящих и совестливых, на коих всегда стояла земля русская.
В 1936 году Павел Флоренский, сосланный на Соловки, писал: «…предвижу время, когда станут искать отдельные обломки разрушенного». Вот оно и пришло. И я пытаюсь сгрести ладонями, сложить дорогие обломки, как мозаику, в одну картинку. В самом начале девяностых мне удалось издать и впервые в России представить читателю обе её самобытные книги. Они написаны неповторимым, удивительно образным языком. А спустя лет десять мы вместе со скульптором Вячеславом Клыковым, тоже курянином, решили провести фестиваль народной песни имени великой певицы. И фестиваль прижился и из года в год проходит в Москве, Курске и её родном селе Винникове.
А тогда впервые мы открывали этот праздник на Троицу. Счастливое совпадение. И, как диво, всюду плыл колокольный звон, и ароматы трав и цветов, а в руках у всех зеленели трепетные берёзовые ветки, венки, букеты. Крестный ход в Курской губернии! И мы, московские гости, и хозяева-куряне с радостью влились в этот многолюдный Крестный ход во имя Знаменской Богоматери. Он неспешно, как людская река, тёк под ясным солнцем из Курска в монастырь в Коренную пустынь! И я, грешная, в едином душевном порыве шла в людском потоке вместе со всеми. И всю дорогу старалась идти босиком (порой под тёплым дождичком) и горячо молилась, а порой плакала. От радости, что шагаю путём той девчушки – Дёжки, которая шла когда-то по этой дороге за руку со своей матушкой – моей прабабкой… А потом были святой источник, и молебен, и даже монастырская трапеза!
…А уж сколько приехало на фестиваль в Винниково голосистых, ярко-нарядных ансамблей из Белгорода, Воронежа, Курска! Просто соцветие. Пели песни Плевицкой и в клубе, и на сельской площади, и даже на футбольном поле под голубым небом… А с большого портрета на клубе на всё это радостное многолюдье живо смотрела сама Надежда Васильевна. И плыла над зелёным селом, где босоногая девочка когда-то бегала с хворостиной за гусями, над его крышами, над куполом храма, где она венчалась, над могилами предков её задорная песня: «Наша улица, зелёные поля, / Голубыми васильками зацвела. / А ещё у наших окон, у ворот / Белоснежная черёмуха цветёт… / Ах ты, травушка-муравушка моя, / Ты тропиночка нетоптаная…»
Вечером в Курском театре состоялся гала-концерт, посвящённый Плевицкой. И вести этот концерт было поручено мне. Я радовалась и волновалась так, что холодели руки. И каждый раз, выходя на освещённую авансцену, под огромным портретом актрисы, хотелось крикнуть, глядя в многолюдный зал: «Вот ты и вернулась! Любовь наша и наша Надежда. Мечта твоя осуществилась!» Я смотрела со сцены в зал, в лица родных земляков, словно её глазами. И звучали одна за другой под струнный оркестр её бессмертные песни. Их пели лучшие певицы и певцы нашего времени: Александра Стрельченко и Анна Литвиненко, Татьяна Петрова и Людмила Рюмина, Надежда Крыгина и Иван Суржиков. И зал щедро гремел аплодисментами.
А мне всё казалось: вот стоит за кулисами сама Надежда Васильевна и после каждого моего выхода тепло и ободряюще берёт меня за руку. И почему-то хотелось плакать.
В конце торжества Вячеслав Клыков вручил мне и солистам на память прекрасные фигурки – поющего курского соловья, сидящего на бронзовом колоколе. А я подарила представителю филармонии живописное полотно, привезённое из Москвы: «Плевицкая и Рахманинов – у рояля». На её доме в Курске – мемориальная доска, где она тоже рядом с великим, так любившим её Рахманиновым. Позднее в честь этого губернского праздника местные власти уложили в Винникове асфальт. Покрыли железом крышу сельского храма и одноэтажной школы, построенной на фундаменте её некогда прекрасного дома. В этой школе теперь музей великой землячки. Его основала радетельница её памяти, учительница Лидия Сергеевна Евдокимова. А под ветвями могучих елей и лип, посаженных столетие назад Плевицкой, поставлен Дёжке памятник (работы Клыкова) – во весь рост.
И стоит она, как прежде, в длинном платье, чуть заломив прекрасные руки, во дворе своего дома и с печальной любовью смотрит вдаль на синие холмы и родной Мороскин лес. И, может, малое сельцо Винниково широко прославится её именем? И будут в деревне покаянно гордиться своей великой односельчанкой? Как гордятся, например, своими земляками чеховское Мелихово или блоковское Шахматово.
Однако «вера без дела мертва есть». А дело всё-таки есть – вот оно. Решением Российской академии наук (ведущими учёными института теоретической астрономии) 18 декабря 1996 года вновь открытая планета Солнечной системы № 4229 получила имя «Плевицкая». Как написано в паспорте: «В честь великой певицы Надежды Васильевны Плевицкой (1884-1940), блиставшей на подмостках России, Европы и Америки. Большие ценители русского искусства называли её «Русским Жаворонком» и «Курским Соловьём». С ней пели Леонид Собинов, Иван Шаляпин, ей аккомпанировал Сергей Рахманинов». Воистину планета – это уже навечно, это её взгляд, её обращение к нам из прошлого в будущее.
Однажды Надежда Васильевна сказала: «В жизни я знала две радости. Радость славы артистической и радость духа, приходящую через страдания». И ещё в своей книге она написала так: «Думала, гадала ли я, что во Франции, над озером, в Меденском лесу, буду я вспоминать своё Винниково, песни сестёр, подруг и милой матушки, под тихое бормотание прялок в зимние вечера. Далеко меня занесла лукавая жизнь! А как оглянусь в золотистый дым лет, так и вижу себя скорой на ногу Дёжкой в затрапезном платьишке, что по румяной зорьке гонит на речку гусей… А вот, словно берёзка, бредёт к храму тихая монастырка Надежда, строгий плат до бровей… С обрыва видна мне дальняя даль: синеют леса святорусские, дым деревень, просёлки-дороги, золотые хлеба, облака… Заря моя, зорюшка! Нежная, алая. Свет тишайший над Русью… Поднять бы к ней руки, запеть бы… Но вдруг поплыл гул малиновый, бархатистый… Это Чудо-колокол ударил к ранней заутрене. Так бы и воспарила я с ним, так бы и полетела в родную сторонку… Но одно у меня крыло. Одно крыло, и то ранено. Аминь».
Кто выше?
1. Помню, эта картина, не очень большая, в глянцевой старинной раме цвета топлёного молока, всегда висела у нас над пианино. На ней, очень милой, – чудо-собака и крошка-девочка. В нашем доме эта картина была постоянной и главной. И у прабабушки Марии висела, потом – у бабушки Зины на Таганке, потом – у моей мамы в Останкине (бабушка ей подарила) и вот теперь – у меня. И называлась она – однотонная, сентиментально-сладкая, очень «мимимишная» – коротко: «Кто выше?». По стенам среди современных картин моего мужа-художника, среди его мощных живописных портретов, сочных пейзажей и графики, она была явно нездешней, случайной, как из другой жизни. По рождению она и правда была из жизни другой. Представьте себе, американской. (Как гласит мелкая-мелкая подпись понизу латынью – кудрявым, вычурным шрифтом.) Это была монотипия, почти фото, цвета коричневой сепии. Мне неизвестно, как в XIX веке она попала в дом к прабабушке и прадеду-хирургу, участнику Балканских войн Никольскому Ивану Никаноровичу.
Её бытие у нас было настолько привычно и в комнате неотъемлемо, как воздух, как мебель, как потолок или пол, что просто не замечалась. К тому же несколько лет назад, чтобы она не выцветала от косых, ползущих из окон лучей солнца, я накинула на неё свой шарф из тонкого шёлка. Но недавно мой чёрный любимый кот Васька, «дворянин» (бывший дворовый), гоняясь по гостиной за кошкой Дымкой, своей подружкой, тоже «дворянкой» (в гостиную я обычно их не пускаю, чтобы мебель не драли), сорвал этот шарф и даже повредил угол рамы. И тогда я сняла её, пропылённую, и решила наконец обновить, оживить. Сменить толстое стекло на лёгкий пластик. В общем, подреставрировать.
А пока стоит она, моя дорогая, на полу, «Кто выше?», и молчаливо, трепетно ждёт от меня взаимности. А кто на ней всё-таки выше? Кто ответит? О чём и в чём тут суть и сюжет?
Я сижу в кресле напротив. И впервые за много лет разглядываю её. Будто увиденную впервые. И почему-то волнуюсь, как на первом свидании. Представляю, сколько она, бедная, претерпела за эти полтора века. Насмотрелась, наслушалась. От «Боже царя храни» до «Мы жертвою пали в борьбе роковой…». От «Вставай, проклятьем заклеймённый» до «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой…». А сегодня, уже в XXI веке, дожила до новомодного дурацкого рэпа. Чуждого, непонятного, народом не принятого.
Сколько жарких событий, революций и войн пронеслось перед ней. Сколько сотен, тысяч людей она видела. Сколько встретила взглядов и глаз. Сколько слышала голосов. И людей, моих близких, родных по крови, но не встреченных, до вовсе чужих, посторонних. Сколько слышала разговоров, речей тайных, тихих и гневной громкой ругани. И до любовного шёпота, вздохов, признаний и поцелуев. А ещё, бывало, за окном рядом – курлыканье милых птиц, но были и выстрелы, крики, грозный топот копыт, ржанье, дробный стук сапог по булыжнику мостовой. И слушала она, конечно, победные марши духовых оркестров, медью сиявших труб. А ещё… резкий стук в дверь неких советских органов: «Откройте! Обыск!». Но позже, уже потом, потом звуки клавиш нашего пианино под пальцами моей милой мамы. Звуки её голоса и чудо-мелодий Моцарта, Грига. Звуки слёзных сладких романсов и пришедших на смену послевоенных песен. «Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны».