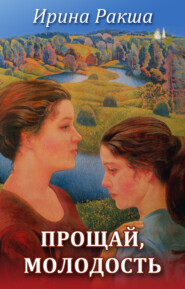скачать книгу бесплатно
Над полями да над чистыми
«Над полями да над чистыми / Месяц птицею летит. / И серебряными искрами / Поле ровное блестит…» Ах какая это прекрасная песня! Звонкая, развесёлая, удалая! Сколько в ней зимней свежести, морозного ветра! «Гривы инеем кудрявятся, / Порошит снежком в лицо. / Выходи встречать, красавица, / Мила друга на крыльцо!»
Так и звенят, так и заливаются бубенцы резвой тройки, мчащей по Руси, сквозь перелески и снежные поля. Мчат мила друга к его любимой! Вот радости-то будет при встрече, когда «глянут в сердце очи ясные», да глянут так, что «закружится голова»! Ведь «С милой жизнь, что солнце красное, А без милой – трын-трава. / Ну, звончей, звончей, бубенчики, / Заливные голоса! / Ой ты, удаль молодецкая, / Ой ты, девичья краса!».
Так и кажется, что такую задорную песню мог написать очень счастливый, по-русски озорной человек. И мне захотелось доискаться, познакомиться с автором этих великолепных поэтических строк. И, несмотря на то что во многих песенных сборниках эта «Новогодняя песня» значится как народная, с автором стихотворения мне, хоть и не без труда, всё же удалось познакомиться.
А звали его Александр Степанович Рославлев. И жизнь у этого талантливого человека была совсем не весёлой и совсем не счастливой.
Он родился в городке Коломна, недалеко от Москвы, в 1883 году. В двенадцать лет остался сиротой и с этого нежного, почти детского возраста должен был надеяться лишь на себя. А ведь от роду Саша записан был «потомственным дворянином». Его отец, некогда респектабельный потомственный дворянин Степан Рославлев, даже наследовал от родителей небольшое имение и владел неплохим хозяйством. Однако давнее пристрастие к «зелёному змию» всё больше портило его характер, да и всю жизнь. Не помогла избавиться от недуга пьянства и женитьба на милой и любимой женщине, которая родила ему сына Александра – очаровательного, здорового малыша и наследника. Год от года дела в доме Рославлевых шли всё хуже. И наконец пагубная страсть хозяина к алкоголю, на горе близких, привела-таки семью к полному разорению, а хозяйство – к обнищанию и распродаже. Постоянные скандалы, попрёки и слёзы жены, а главное, собственное безволие и укоры совести привели господина Рославлева к тому, что весной 1895 года он покончил с собой. Повесился. Для родных это было страшным ударом! А несчастную молодую вдову, Сашину мать, потрясло так, что она не вынесла горя и, как говорили тогда, «умом тронулась». То есть сошла с ума.
В памяти Саши навсегда останется горестное воспоминание о посещении казённой больничной палаты, куда безвозвратно определили его любимую маму. Запомнятся серые лестницы, серые коридоры, серый свет за окнами и она сама – его мама, похудевшая до неузнаваемости, враз поседевшая, с опущенной головой и крестиком на груди, не узнававшая даже любимого сына. Молча завязывала и развязывала она бахрому на ветхой скатерти убогого стола. Саше запомнились и её пальцы, когда-то прекрасные, легко аккомпанировавшие его любимым романсам и песням, скользившие в такт музыке по клавишам рояля в гостиной.
И вот – всё рухнуло. Всё кончилось. Оборвалось. Как жить дальше, Саша совершенно не знал. К тому же за три дня до трагедии, до самоубийства отца, его выгнали из гимназии с жестоким «приговором»: «за неспособность». Правда, сторож гимназии успокоил уныло сидевшего на скамейке, безутешного паренька: «Не твоя тут вина. Это родитель твой неспособен отдать долг за твоё ученье, – и погладил его по голове. – За всё, милок, в этой жизни надо кому-то платить. За всё».
А жизнь между тем продолжалась, и выживать осиротевшему подростку как-то было надо. И хотя полного гимназического образования у Саши не было, но было умение прекрасно, каллиграфически писать. А это в конторах ценилось, и именно это его спасло. По протекции дальнего родственника Саша устроился (о, удача!) писцом в Коломенскую земскую управу. На небольшое жалованье. Так началась его самостоятельная жизнь. Однако в Коломне Саша оставался недолго. Рядом, под боком, Москва с её бурлящей и шумной жизнью. Она тянет Сашу словно магнитом. И спустя год, бросив удачную, спокойную, а главное, надёжную работу, он оказывается на улицах столицы. Буквально без гроша в кармане. Зато в самой гуще, в водовороте незнакомой и интересной жизни. Юный потомственный дворянин скитается по рынкам, вместе с нищими и пьяницами спит на Солянке, на Хитровке в ночлежных домах. По найму работает грузчиком, служит на побегушках у приказчиков мелких лавок, трудится и в богатых, фирменных магазинах. Но, видно, Ангел-хранитель, оберегая, витает над ним, распахнув свои белые добрые крыла. Да и Ангел любимой умершей маменьки, видимо, тоже помогает. И паренёк выживает, не гибнет в этой низменной круговерти. И, надо признаться, его не очень-то и гнетёт, казалось бы, беспросветное существование, эта жизнь «на дне». Такой уж у юного Саши оптимистичный, лёгкий характер! Он от роду позитивен.
А не печалится он ещё и потому, что печалиться просто некогда. Теперь он… ПИШЕТ. Да-да, пишет. И с жадностью, с удовольствием. Всё больше и всё упорнее. Своим красивым каллиграфическим почерком, по вечерам склоняясь к листам дешёвой складской зелёной бумаги в свете горящих свечей, которые десятками покупает в свечной лавке. Каждую свободную от работы минуту он тратит на самообразование, на чтение газет и журналов или на собственные сочинения, которые постепенно становятся его страстью. Вначале это, конечно же, были стихи. Стихи и поэмы – подражательные, незрело-длинные. Однако не без искры собственных чувств и новизны. Позже Саша пробует писать и рассказы, и даже статьи на разные злободневные темы. И скоро это становится его горячей, ежедневной потребностью, даже страстью. В надежде на публикацию он вначале с боязнью, а потом всё смелее относит свои творения в редакции разных газет и журналов. Посылает даже в другие города по почте. Их, разумеется, регулярно возвращают. Но молодой автор, получая назад собственные пакеты с рукописями, не смущается. Он упрямо не оставляет пера и не оставляет надежд. И вот однажды из далёкого города Томска, куда он также посылал свои опусы, приходит пакет с толстым журналом «Сибирский наблюдатель». Он жадно, с бьющимся сердцем разрезает ножом страницы. И листает, листает. И – вот оно! Как удар! Опубликовано первое стихотворение поэта Александра Рославлева под названием «Ангел». Вот он!.. Помог ему его белокрылый Ангел-хранитель!.. К тому же автору «причитается получить» на почте неплохой гонорар!.. Первые деньги за литературный труд!.. Какая же это радость была! Какое ликование! За это не грех было и выпить «по чарке» с друзьями, прежде, конечно, не верившими в его литературный дар.
А потом… Потом к Рославлеву приходит настоящий успех. За несколько лет один за другим выходят 14 его поэтических сборников. Теперь он уже неплохо зарабатывает лишь только литературным трудом. Снимает приличную квартиру. Заводит кухарку. Его стихи уже постоянны на страницах московской периодической прессы. Пишет он и прозу. Например, свои нашумевшие в те годы «Записки полицейского пристава». Эта небольшая сатирическая повесть на какое-то время стала в литературных кругах столицы буквально притчей во языцех. Только ленивый тогда не говорил о ней. А молодой, но уже довольно известный критик начала XX века Корней Чуковский, человек носатый и злой, беспощадно высмеял повесть. Но и это тоже была реклама. «Написано вяло, плохо… подражательно… скверно». Молодой Чуковский так искренно досадовал на Рославлева, что посвятил его «Запискам» даже две статьи. Названия их вполне красноречивы: «Литературные стружки» и «Третий сорт». Однако надо отметить, что Александр Степанович совершенно не отреагировал на такую разгромную критику. Он её словно бы и не заметил. «Как слону дробина», – говорили друзья. А Саша и правда был большим, могуче-здоровым и очень красивым человеком. Но главное – был несокрушимым оптимистом. И продолжал, не смущаясь, работать.
В те годы он близко сошёлся с Леонидом Андреевым. Хорошо знал Чехова, Александра Куприна, а особенно «певца бедноты и уличных горемык» Горького, с его, тоже сиротской, схожей судьбой. В общем, сошёлся со всеми видными авторами того времени. Будучи по природе благодушным, открытым, сдружился даже с тем же Корнеем Чуковским. Забавно было видеть вместе этих молодых литераторов: одного – невысокого, толстого, как колобок, другого – длинного и худого, – горячо спорящих где-нибудь за столиком в клубе или редакции. Любил и почитал Рославлев и Александра Блока, кстати тоже осмеявшего его стихи, саркастично назвавшего их «эпигонскими». Впрочем, с годами Рославлев действительно стал совершенно безразличен к отзывам о своём творчестве. А всё потому, что его давно и серьёзно увлекала совсем иная, горячо захватившая душу страсть. И имя у этой страсти было женское – Революция. Он с восторгом отдался ей. Её захватывающим лозунгам, её новым веяниям и идеям. В событиях 1905 года Александр участвовал активно и даже радостно.
Поэт безоглядно верил в справедливость грядущего общества, где все должны были быть равно счастливы и, конечно же, равно богаты. Где не будет, как он уверился, одиноких людей и горьких сирот, не будет взяток, пьянства, бесчинства, бесчестья. Однако его общественно-революционная деятельность денег на жизнь не давала. Приходилось и дальше существовать за счёт литературных трудов. Приходилось, как прежде, писать на заказ для газет и журналов всякую ерунду.
Как-то в ноябре 1907 года журнал «Пробуждение» попросил его дать какое-нибудь «свеженькое стихотворение» в новогодний номер. И заплатить обещали прилично. Журнал был недорогой, непрестижный, даже несколько аляповатый. Но заказ есть заказ. Подобной халтуры у поэта и раньше хватало. И вот после вечернего чая Александр Степанович подсел к столу, макнул перо в хрустальную чернильницу и склонился к бумаге, уже дорогой и белой. Пытался вообразить себе что-то приятное, зимнее, новогоднее… Он легко представил себя юным, беззаботным, когда все были живы, и… влюблённым, каким он давно уже не бывал. И сразу же первые строки легко, даже слишком легко побежали из-под пера, красиво ложась на страницу: «Над конями да над быстрыми / Месяц птицею летит, / И серебряными искрами / Поле…» Конечно же, сколько раз он воочию видел всё это зимой. И в детстве, когда была жива матушка, и позже, бывая и в родной Коломне, и в имениях у друзей. Когда, бывало, ночью, после шумного дружеского застолья весело завалишься в сани, и кони тотчас рванут с радостной силой и устремятся в синюю даль. И куда?.. Конечно же, к милой… А над летящими конскими гривами, над звенящим поддужным бубенчиком поплывёт в звёздном небе, полетит над тобой вослед рогатый месяц в серебряной дымке. «Наша сваха – воля вольная. / Повенчает месяц нас…» Светловолосая голова Александра Степановича в золотом круге света, как в нимбе, склоняется над бумагой, и скользит, скользит по странице перо: «Словно чуют – разъярилися / Кони – соколы мои. / В жарком сердце реки вскрылися / И запели соловьи…» Всю ночь он работает: черкает, комкает листы, переписывает заново. И рождаются слова, выстраиваются строки. «С милой жизнь, что солнце красное, / А без милой трын-трава…» В этих стихах было всё: и раздольный русский пейзаж с его светлой грустью, и сама душа поэта – широкая, удалая, со страстной мечтой о собственном счастье.
К утру Рославлев наконец закончил работу. Устало откинулся на спинку кресла. Не спеша перечитал текст, строфу за строфой, и вдруг понял, что это и не стихи вовсе, а песня. Конечно же, это песня! И, подумав, добавил сверху ещё одну строчку, название: «Новогодняя песня». Потом одним дыханием задул очередную оплывшую, задымившуюся свечу и какое-то время, довольный, молча сидел в голубой предутренней тишине… «Получилось, кажется, получилось…» А через пару часов, наняв извозчика, он уже отвозил свой литературный заказ в редакцию. По заснеженной, морозной Москве, с белыми печными дымами от крыш в небо, которые словно бы подпирали сам небосвод. Волновался, конечно, уткнув нос в поднятый воротник. Как-то примут его ночную работу? Что скажут?..
И вот стихотворение А. Рославлева «Новогодняя песня» выходит в свет без задержек, прямо с листа, в первом номере журнала «Пробуждение» за 1908 год. Читатель не только его принимает, стихотворение украшает номер. Более того, оно оживает, звучит как песня. И вскоре «Новогоднюю песню» начинают петь всюду. И в светских салонах под гитару, и в мещанских домах, и в кабаках и трактирах на рабочих окраинах. Мелодию на эти слова пишут самые разные музыканты. Порой самодеятельные. Но та, которая, пройдя сквозь столетие, дошла до нас, которую и нынче поют современники, принадлежит известному композитору начала XX века П. Владимирову.
С тех пор «Новогодняя песня» в России стала так популярна (из десятилетия в десятилетие её поют и солисты, и хоры с оркестрами), что постепенно превратилась в народную. А начальные слова «над конями да над быстрыми месяц птицею летит…» были с годами изменены. И звучат теперь так: «Над полями да над чистыми». Эта строка стала даже названием. К тому же вместо шести куплетов осталось только три. Порой даже профессиональные музыканты не знают имени автора. Да и издатели нот порой забывают указать то имя композитора, то имя поэта. А то и обоих сразу. Даже в концертах объявляют со сцены: «Русская народная песня». Что ж, такова судьба многих самых любимых народом, бессмертных песен. И это – доля завидная.
Ну а какова же дальнейшая судьба поэта? Александр Степанович Рославлев благополучно дожил до революции 1917 года, которую называли тогда переворотом. Действительно, перевернулось в России всё. Жизнь. Судьбы. Эпоха. Однако воплотилась, осуществилась-таки его мечта – ненавистное ему самодержавие пало. Даже царскую семью в восемнадцатом расстреляли. Казалось бы, «святое» дело «освобождения» народа свершилось. Ликуй. Рославлев стал даже «красным» участником Гражданской войны. С Красной армией подался на юг. Испытал всяческие жизненные коллизии. Но, как известно, революция пожирает своих детей. И долгожданного счастья: равенства, братства, гармонии – что-то вокруг не наступало. Чтобы окончательно не разочароваться, он с жадной энергией хватался за разные дела. Стал редактировать пролетарскую газету со странным названием «Красное Черноморье». Затем в Новороссийске вместе с молодым режиссёром Мейерхольдом азартно принялся создавать Театр политической сатиры. Всё надеялся увлечься, не потерять мечту. Стал по-революционному аскетичен, строго одет. Забывал о себе – о сне, о еде. Да и наступивший голод сему сопутствовал. Но, несмотря на все усилия, душа Александра Степановича почему-то всё больше печалилась, всё увядала. Лирические стихи не писались вообще, словно бы Муза, обидевшись, отвернулась от него навсегда. И до «расцвета коммунистического завтра» романтик Рославлев так и не дожил.
В ноябре 1920 года его, человека такого большого, красивого, сильного, свалила какая-то ничтожная тифозная вошь. Заразный, мучительный тиф свирепствовал тогда в голодной, разорённой до нищеты стране. А на юге России, как в наказание, эпидемия косила буквально всех. Лошади и полуторки не успевали вывозить с улиц трупы. И 37-летнему поэту уже не могли помочь ни врачи, ни его лёгкий, некогда заводной нрав, ни его оптимизм, который совсем иссяк. Он умирал от сыпняка, сыпного тифа, в горячке, то теряя сознание, то приходя в себя. И лишь его белокрылый Ангел-хранитель, о котором поэт писал ещё в юности, теперь распростёр крыла и в ожидании беззвучно реял над ним. Сочувственно и с любовью подавал сверху руку. И поэт, уже уходя навсегда, не мог и представить, что из всего написанного им в жизни дойдёт до потомков лишь одна немудрёная, но бессмертная, ясная песня, которую он, Саша Рославлев, написал когда-то в новогоднюю ночь:
Ляг, дороженька удалая,
Через весь-то белый свет.
Ты завейся, вьюга шалая,
Замети за нами след.
«Ну сколько можно о Марине?»
1. Передо мной чёрно-белая фотография, прислана из Тарусы. От одного старого активиста при музее Цветаевой (он просил себя называть «Борис. Таджик»). Впервые я увидела его издали в Тарусе в 2004 году куда была приглашена руководством музея выступить на очередном «Цветаевском костре». № 16. В лесу на берегу Оки. Приехала, за рулём на своей «копейке». Выступила. Удачно и неожиданно, потому что с удовольствием прочла стихи из ранней книги Марины, когда она ещё ходила в гимназической форме. «Вечерний дневник», выпущенный ею втайне от близких. Кстати, там, «у костра», было много разных творцов из Москвы. И чванливый поэт Кублановский, и симпатяга Ира Емельянова (дочь Ольги Ивинской – любовницы Пастернака), и другие. Остались цветные фото. Стоим толпой в мелком лесочке вокруг маленького костерка. В руках пластиковые стаканчики с винцом – пьём за именинницу. Но тогда я не знала, что этот самый «Борис. Таджик» (житель Тарусы) – давний и ярый русофоб (это как-то не вязалось с Марининой русскостью, патриотизмом). А вот на этом чёрно-белом полученном фото передо мной «мир глянца» – портрет кудрявенькой, этакой мимимишной куколки. Ротик бантиком, глазки как прозрачные роднички (читай, бездонно-голубенькие). Ну прямо эталон с модной журнальной обложки. Вот такие чудо-дивы, «пустышки» выступают нынче на показах мод перед ВИП-дамами по ВИП-дорожкам. Вышагивают этак показно, картинно, нога за ногу (причём кривую, длинную) под вспышки фото- и кинокамер. Я соображаю, кто бы могла быть эта красотка? Чей это портрет?.. Но вот внизу читаю надпись: «Марина в Тарусе». Но нет, нет, такого не может быть! Какое отношение может иметь это личико к великой, легендарной Цветаевой? Да никакого. Хотя кто-то (может, это сам Борис-таджик?), очевидно очень её любя, долго старался, рисовал, «фотошопил» это лицо на собственный вкус. И так вот нелепо и глупо «украсил», что явно перестарался. На фото – сплошной «фотошоп». Я печально вздыхаю: «Что ж, люби, пожалуйста, но не до такой же неузнаваемой степени?» Я чту закон «единства формы и содержания». Но тут даже и чёрточки не осталось от истинной поэтессы.
2. Сегодня её жизнь изучена сотнями «ведов» досконально, по дням, часам и минутам. И её фотографий очень много и разных периодов. И давно всем известно, что Марина не была красавицей. И внешне (с обывательской точки зрения) никогда не была хороша. Смуглокожа, востроноса, простоволоса. С глазами неопределённого цвета, которые она называла «зелёными». И дочь её Ариадна никогда не была красивой. И младшая сестра Ася, Анастасия Ивановна (прожившая 99 лет), с которой не раз встречался мой друг, военный писатель Стас Грибанов (два года искавший место гибели в боях с фашистами сына Марины, Мура-Георгия Эфрона, поставивший там памятник-стелу всему погибшему батальону), много об Асе рассказывал, не была даже «симпатичной старухой». А Вадим Сикорский в конце 50-х годов, тогда молодой литератор (в Литинституте был помощником в мастерской поэта Михаила Светлова), рассказывал нам, студентам, много интересного о Марине. Он хорошо её знал и по Москве, после её возвращения из Парижа, а с её сыном вообще учился вместе в десятом классе. Ну а в Елабуге… О, в Елабуге в 1941-м… По его словам, он даже вынимал Цветаеву из петли (об этом можно прочесть в инете мой рассказ «Что сказал Сикорский»). А тогда в аудитории Литинститута мы слушали Вадима с открытыми ртами, ловили каждое слово. Ведь мы обожали, мы просто боготворили Цветаеву. Тогда советская цензура только что сняла запрет и разрешила её публикации. Вышла её первая книжка с фотопортретом. Я, грешная, украла её в районной библиотеке, такую аккуратненькую, в голубой твёрдой обложке (о чём потом даже каялась на исповеди). Мы наизусть знали всё, что печаталось в периодике: и её, и о ней самой. И она, гений, эмигрантка со сложной судьбой, представлялась, рисовалась нам сущей богиней. И, разумеется, сущей красавицей. Не иначе как «Неизвестная» Крамского. Но почему-то Сикорский, ширококостный здоровяк с грубым «топорным» лицом, с лапищами деревенских рук (больше похожий на лесоруба, чем на литератора), не раз называл её «заурядной тёткой» и «незаметной простушкой». Порой говорил даже жёстче: «Мимо пройдёт – не взглянешь». Говорил: «У неё друзей не было. Разве что моя семья, отчим и мама, поклонница её таланта. Когда приехали в Елабугу в эвакуацию, мама всё заставляла меня с ней «погулять по свежему воздуху». А та, бывало, вцепится мне в руку, повиснет на локте и семенит рядом. Стучит мелким шагом по деревянным тротуарам. И всё что-то рассказывает мне, рассказывает. Твердит то про Есенина, то про Блока, то про Маяковского. Я слушаю вполуха и злюсь, злюсь: ну какое право имеет эта тётка так рассуждать о наших советских классиках? Ведь мы их даже в школе проходим? Ну, я как дурень и таскаюсь с ней по улицам, гуляю туда-сюда. – И, помолчав, добавлял: – Я тогда как раз впервые влюбился. И взаимно. В одну молоденькую татарочку. Всё вечера ждал, темноты, чтоб кинуться к ней. У них свой дом был и свой сеновал». Мы, юные, его жадно слушали, но верить всему не хотели, сомневались. Для нас поэт Цветаева уже врезалась в сердца, уже стала кумиром. И, конечно, представлялась нам чудо-красавицей. А её отца, известного искусствоведа, профессора, основателя Русского музея искусств, православного дядьку, вдовца, мы категорически порицали. В перерывах, сидя в коридоре рядком на подоконниках, осуждали резко, горячо и единогласно. Ведь он был против брака своей своенравной старшей дочки с завидным красавцем Сергеем Эфроном. Мало того, отец говорил, что этот брак нелеп и не нужен. И не принесёт Марине счастья. Что жених младше её, что он практически юный школьник из Феодосии. Да к тому же ещё и еврей, то есть иноверец и инородец…
Мы приставали к Сикорскому с идиотскими вопросами (жаждали правды, подробностей её жизни и смерти), ответы на которые он не знал. Да и знать не мог: все архивы были тогда закрыты (а последний, «Записные книжки поэта», вообще стал доступен лишь в новом веке, недавно). Но тогда мы раз в неделю (на «светловское» мастерство, а Вадим был подмастерьем Светлова) всем курсом жадно ждали появления в аудитории его квадратной фигуры. Появления человека, близко знавшего «нашу» Марину. Ведь отсвет сияния её гения как бы падал и озарял этого дядю с грубым лицом – «никакого» поэта и «младшего сотрудника» Литинститута.
3. А позже, гораздо позже, мы узнали, что и правда наша богиня, к сожалению, внешне была вполне заурядной. И, возможно, именно поэтому все её романы как-то не клеились. Её избранники (я размышляла именно так), наверно, не учитывали мощи её таланта. Не выдерживали её душевных порывов и бурь, силы её характера. Она попросту была им не по плечу. Согласитесь, ведь трудно себе представить, что «заурядная» тётя, которая моет в доме полы грязной тряпкой, стоит в очередях за едой, а потом стирает в корыте в мыльной пене на ребристой доске твоё исподнее мужское бельё опухшими красными пальцами, – просто-напросто ГЕНИЙ? Гений мировой поэзии, литературы? И они отступали, оставляли её, уходили почти без сожалений. Пожалуй, только Борис Пастернак до конца понимал и ценил Марину, писавшую и ему чудо-письма и чудо-стихи. Но тогда он любил совсем другую, красивую «земную» женщину. А о Цветаевой написал такие строки: «Лицом повёрнутая к Богу, / Ты тянешься к нему с земли, / Как в дни, когда тебе итога / Ещё на ней не подвели». (Они виделись случайно, и то пару раз. Но долгая переписка двух гениев – это вершина литературно-эпистолярного космоса.) Первый раз он видел её на сцене вдвоём с её сестрой Асей в гимназическом платье. Они читали ранние стихи Марины. Второй раз – спустя многие годы, когда Борис Леонидович помогал ей, вернувшейся из эмиграции, отправиться с сыном в Елабугу, в эвакуацию, подальше от войны. Помогал связывать тяжёлые парижские чемоданы. Даже верёвку принёс. И… – о, ирония судьбы!.. – на этой самой верёвке поэтесса в Елабуге и повесилась.
Всю жизнь Марина очень остро нуждалась в любви. Всегда ожидала её, искала с ней встречи (и в эпистолярном творчестве, и в быту). Но при этом ясно и высоко ценила и себя, любимую, особо редкую избранницу Неба. «Кто создан из камня. Кто создан из глины, – / А я серебрюсь и сверкаю! / Мне дело – измена, мне имя – Марина, / Я – бренная пена морская». И опять, и опять влюблялась в мужчин, которых сама выбирала (и даже в женщин). И у Волошина в Коктебеле, где отыскала юного Сергея Эфрона, и постоянно потом – и в Москве, и за границей. И вообще… на Земле. И, по-моему, именно из-за этого вечного клинча, из-за этого вечного несоответствия внешнего с внутренним всегда неожиданно, как при ударе кремниевой зажигалки, высекалась искра. «Слияние душ, а не тел». Высекался яркий горячий огонь её самобытных стихов. И порой её страстные чувства были похожи на сокрушительное половодье. Вот, например, посмотрите. «Попытка ревности» (заметьте, всего лишь «попытка»!): «Как живётся вам с другою, – Проще ведь? – Удар весла! – / Линией береговою / Скоро ль память отошла / Обо мне, плавучем острове / (По небу – не по водам!) / Души, души… – быть вам сёстрами, / Не любовницами – вам!». Или: «Как живётся вам с простою / Женщиною? Без божеств? / Государыню с престола / Свергши (с оного сошед)…» Или ещё. Злые, уничижительные упрёки: «…После мраморов Каррары / Как живётся вам с трухой / Гипсовой? (Из глыбы высечен / Бог – и начисто разбит!)…»
4. Но в ответ на её половодье чувств ей никто не давал необъятной любви. Никто не отвечал ей той же «безмерной мерой» «в мире мер». Ни её дети (о детях я скажу ниже: о погубленной трёхлетней малышке Ире, о сыне Муре, десятикласснике, погибшем позже в боях с фашистами, сказавшем на смерть матери «собаке собачья смерть»), ни её любимый красавец муж Сергей Эфрон (практически её бросивший), ставший позже сотрудником НКВД, да и иные её друзья, любовники или просто избранники. И только в Елабуге крепко-накрепко её обнял, обхватив руками и вынимая из смертной петли, вот этот Вадим Сикорский, юный друг её сына. Да и тот так испугался, что не изжил этого страха до конца своей жизни. А может, все-все они чувствовали, что, по существу, эта странная женщина ценит только мир великой Поэзии, а в нём – свой дар и себя саму? «А я серебрюсь и сверкаю!.. Я – бренная пена морская».
5….Конечно, сегодня у каждого живёт в душе свой собственный образ Цветаевой. И у меня он свой. Любимый по-своему. Но, признаюсь, когда я нынче о ней думаю, то закон единства формы и содержания рассыпается в прах. Она его напрочь опровергает. Её понимание таких святых сущностей, как очаг, семья, материнство, как бы тонет, уходит на дно в ином для неё и, очевидно, большем понятии – «сверкающее «море Марины»». И именно об этом, очень печальном, я и делаю ниже короткое отступление.
6. P. S.
Одна поэтесса (Наталья Кравченко), всю жизнь обожавшая Цветаеву, недавно прочтя её наконец-то ставший доступным архивный дневник («Записные книжки поэта»), была настолько потрясена судьбой её второй, младшей, дочки Ирины, доведённой матерью почти до голодной смерти и сданной-таки уже умирающей в приют (где кроха вскоре и умерла), что написала вот такое стихотворение (и это лишь одна из многих учёных работ «цветаеведов» о судьбе этого нелюбимого ребёнка, отцом которого являлся, предположительно, Осип Мандельштам, тогда молодой поэт):
Ну сколько можно о Марине! –
безмолвный слышу я упрёк.
Но я – о дочке, об Ирине.
О той, что Бог не уберёг.
Читала записные книжки.
О ужас. Как она могла!
Не «за ночь оказалась лишней»
её рука. Всегда была!
Нет, не любила, не любила
Марина дочери второй.
Клеймила, презирала, била,
жестоко мучила порой.
В тетради желчью истекают
бесчеловечные слова:
«Она глупа. В кого такая?
Заткнута пробкой голова».
Всё лопотала и тянула
своё извечное «ду-ду»…
Её привязывали к стулу
и забывали дать еду.
Как бедной сахара хотелось,
и билось об пол головой
худое крохотное тело,
и страшен был недетский вой.
«Ну дайте маленькой хоть каплю», –
сказала, не стерпев, одна.
«Нет, это Але, только Але, –
Марина – той, – она больна».
И плакала она всё пуще,
и улетела в никуда…
А может, там, в небесных кущах,
ждала её своя звезда!
Являлась в снах ли ей зловещих?
Всё поглотил стихов запой.
Уехав, ни единой вещи
Ирины не взяла с собой.
Я не сужу, но сердце ноет,
отказываясь понимать:
поэт, любимый всей страною,
была чудовищной женою,
была чудовищная мать.
7. В своё время Пушкин писал: «Гений и злодейство – две вещи несовместные». Но в тот же момент его герой, талантливый композитор Сальери, тайно сыплет смертельный яд в бокал Моцарту. Оказывается, вполне «совместные», вполне совместимые. И в истории человечества таких примеров множество. Испокон веку и до сегодня. Да и сам сатана (то есть архангел, бывший вначале при Боге, стал Люцифером, дьяволом, чёртом, бесом) – разве не пример этого? Так что, на мой взгляд, этот часто повторяемый постулат: «Гений и злодейство несовместны…» – неверен. В корне неверен. «Я не сужу, но сердце ноет, / отказываясь понимать: / поэт, любимый всей страною, / была чудовищной женою, / была чудовищная мать».
Я вздыхаю. Да-да. Всё так. Всё так. Но всё же, несмотря на её личные боли, на её сложную личную биографию, в душе каждого из нас давно волшебно существует своя собственная, и тоже волшебная, Марина.
Дом музыки им. М. Глинки. Я и скульптор В. Клыков. Концерт памяти певицы Н. Плевицкой
Шкатулка с секретом
I
В прошлом веке Герцен, скорбя по поводу пяти казнённых декабристов, сказал: «Сколько ума в обороте убавилось!».
Сколько же ума и талантов убавилось в обороте многострадальной России за двадцатое столетие. Были планомерно, целенаправленно убиты не просто миллионы людей, а миллионы лучших. Уничтожен был генофонд русской нации. Погибло едва ли не всё, что обреталось Россией веками. Жестоко разорялись семейные гнёзда, планомерно уничтожались исконная православная вера, традиции, культура Золотого и Серебряного веков. А деревню, как извечный и надёжный российский фундамент, буквально разорили и раздавили. Но главное – уничтожили само понятие свободы, достоинства и уважения личности. Новым, красным, режимом всё это вырывалось резко, с корнем. А потому остаться в живых при таком режиме могли только те, кто был глух и нем. Или беспамятные винтики, те, кто без роду без племени. Теперь родители не смели говорить с детьми о добром, достойном прошлом, об извечных русских традициях и семейных укладах, о предках – не пролетариях, будь то Пушкины или Толстые. Было опасно (под страхом ареста и смерти) вслух вспоминать родных: бабушку, деда. Особенно если они «раскулаченные» или же, не дай Бог, спаслись в эмиграции. Ведь малолетние дети могли где-нибудь проболтаться, а репрессии по доносам (тюрьмы и лагеря) за «чуждое» происхождение были тогда обыденны. При приёме на любую работу надо было заполнить анкету, где одним из основных пунктов, определяющих «благонадёжность» (пусть даже чернорабочего), был ответ на вопрос, есть ли родственники за границей. Мои родители всегда писали «нет». Хотя в интеллигентной среде родственники там были практически у всех. Но надо было как-то уметь исхитриться, удачно скрыть это. А потому почти в каждой семье существовали молчаливое табу, своя особая тайна. Была такая тайна и у нас. И связана она была с красивой полированной шкатулкой орехового дерева. Я называла её «шкатулка с секретом».
Стояла шкатулка за дверцей в глубине маминого изящного старинного туалетного столика, чудом уцелевшего в перипетиях военных и послевоенных лет. Она была заперта на ключик, и, сколько помню себя, отец запрещал к ней прикасаться. Это была старинная вещь дивной ручной работы, с инкрустацией. Перламутровый неброский узор волшебно поблёскивал среди убожества нашей тогдашней жизни в Останкине, на окраине Москвы, где я родилась в двухэтажном рабочем бараке на Третьей Останкинской улице (ныне проспект Королёва). Барак был одним из шести стоявших в ряд (подобных перед войной по окраинам Москвы выросло множество), и назывался он «временным жильём для специалистов ВСХВ» (Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, позже ВДНХ, теперь ВВЦ). Отец был специалистом. Они с мамой вместе окончили Тимирязевку, где студентами и поженились. А по окончании ТСХА папу назначили работать на ВСХВ директором павильона «Хлопок». Вот и дали семье временную жилплощадь рядом с выставкой. Но, как известно, временное – самое постоянное. И простояли эти бараки, битком набитые беднейшим людом, аж до самых восьмидесятых годов.
Наш битком набитый барак (корпус № 2) был как Ноев ковчег, плывущий сквозь толщу советских десятилетий. И было в нём, как и полагается, всякой твари по паре. Кто только у нас не поселялся в войну и после. В тесноте длинного коридора со множеством разнообразных дверей, обитых клеёнкой и рваными ватными одеялами, толкались мои чумазые сверстники. Дети и татарского старьёвщика дяди Ахмета (Лёнька, Саидка, Маршидка), и еврейки тёти Розы – маникюрши из блокадного Ленинграда (Фая и Миня), беженцев из спалённой войной Белоруссии – Бобровых (Томка и Венька), Зубаревых, и всевозможных московских специалистов ВСХВ (вселённых в барак тоже временно, до ввода новых жилищ, да так и оставшихся). Жил тут инвалид войны безногий лётчик дядя Вася – вчерашний герой, офицер, а ныне горький пьяница, мастер по керосинкам и примусам, которого жена Нюрка, слава Богу, приняла, не выгоняла.
Жил даже скрипач из оркестра Большого театра, высокий худой еврей Шебалдаев, вечно опаздывающий по вечерам со своей скрипочкой на трамвай, на спектакль.
Неведомо какими судьбами он попал в этот утлый ковчег Его чёрненькая шепелявая дочка Кира, надменная и способная девочка. Кстати, в девяностые, несмотря на дефект речи, стала даже телеведущей Кирой Григорьевой.
И вот все эти барачные «ноевы дети» бесились, с ором бегали и толкались по длинному коридору барака. После войны мальчишки играли по углам отцовскими медалями в «расшибалочку». Летом во дворе – в «ножички», в «штандер», в «биту». А в душной общей кухне, с помойными вёдрами, умывальником, корытами по стенам, чадом и копотью керосинок, то и дело ругались соседки и пьяные мужики. Иногда по углам причитали одинокие и обиженные, заброшенные старухи. Мою энергичную и красивую маму в бараке уважали, но за глаза называли «буржуйкой недорезанной», так как у нас было мамино «приданое» – старинное бабушкино пианино, привезённое с Таганки. Мама прекрасно играла, и через хлипкие перегородки из нашей комнаты то и дело плыли по всему дому волшебные звуки Шопена и Моцарта. Бабушка-москвичка (мамина мама) с дедом, профессором МАИ, преподававшим студентам даже в войну моторостроение самолётов, жили всю жизнь на Таганке, на Николоямской (тогда ул. Ульяновская), в своей старинной московской квартире. А юная мама, перед войной студентка ТСХА, выйдя замуж за деревенского сокурсника Женю Ракшу и родив ему дочку, переехала к мужу в Останкино, поскольку агроном Женя после защиты диплома стал специалистом ВСХВ и даже получил хоть и временную, но всё же свою жилплощадь. После войны, в голодовку 1945-1947 годов, чтобы как-то прокормиться, моя мама – интеллигентная «буржуйка» – стала преподавать музыку. Давала «обеспеченным» детям уроки «на выезд».
А я, в те годы малышка-школьница, постоянно простаивала в каких-нибудь длиннейших очередях. И в зимы, и в лета. Порой по ночам. За керосином и за мукой, за сахаром и за хлебом. Всё продавалось тогда по карточкам (не дай Бог их потерять!). Помню, всё детство с моих ладошек не исчезали цифры, написанные химическим карандашом прямо по коже – номер в какой-нибудь очереди.
Мой отец, капитан танковых войск, выжил, но вернулся с фронта с тяжёлым ранением. И после войны стал изобретателем замечательных сельхозмашин: комбайнов, сеялок, жаток.
Однажды, когда он был где-то в командировке, мама, присев на корточки у туалетного столика, достала заветную шкатулку и, отперев ключиком, бережно подняла крышку. Моего лица неожиданно коснулся нежный, чарующий аромат духов, аромат иной, незнакомой, жизни. А взгляду предстало нежно-розовое шёлковое нутро шкатулки, обитое мелко простёганным атласом. В крышке сверкнул квадратик зеркала на четырёх хрустальных винтах – как в сказке…
Кто смотрелся когда-то в это чудное зеркальце?.. Чьё лицо, вот так же склонённое, отражалось в нём?.. А теперь оно отражало убогую нашу комнату с белёной печкой, оранжевым абажуром над круглым столом, этажерку с книгами, на полочке семь беломраморных слоников и ещё – два склонённых лица: моей мамы, гладко причёсанной, в перелицованном твидовом жакете, и моё, тщедушной девочки с кудряшками на лбу, с двумя тугими косичками, уложенными «корзиночкой».
Красивыми, измученными работой пальцами мама, забыв про меня, заворожённо перебирала содержимое шкатулки: старинные лайковые перчатки, маникюрный набор в кожаном чехле, а внутри – специальный красный камешек для полировки ногтей (покрывать ногти лаком считалось в старину неприличным), щипцы для завивки волос с белыми костяными ручками, пачка писем и фотографий, перетянутая шёлковой розовой ленточкой, флакончик из-под духов матового стекла, деревянный «подорожный» образок Богоматери с Младенцем и ещё… ещё многое. И всё такое невиданное, волшебное. «Продолговатый и твёрдый овал, / Чёрного платья раструбы… / Юная бабушка! Кто целовал / Ваши надменные губы?..»
От всего этого сказочного, прекрасного у меня перехватывало дыхание. А мама, неожиданно заметив меня, почему-то тревожно, испуганно зашептала: «Это бабушкино. Мы всю жизнь храним эту реликвию». Я спросила, тоже шёпотом: «Какая бабушка? Наша, с Таганки?» Мама молча заперла шкатулку и стала совсем строгой: «Нет… Та бабушка умерла… Понятно? – и приложила палец к губам. – И запомни, об этом – ни слова. Никому никогда… Той бабушки давно уже нет».
Так впервые меня коснулся загадочный мир моих незнакомых предков. Мир жизни вроде бы близкой, родной, но в то же время такой далёкой, дореволюционной (тогда нас учили в школе, что вообще всё хорошее, всё правильное началось с революции, с 1917 года). А этот бабушкин мир был совсем иной. Вероятно, в нём по утрам с удовольствием пили ароматный кофе, делали красивые причёски и вечерами ездили на концерты. А разговаривая, как бы невзначай натягивали на длинные ухоженные пальцы лайковые перчатки. Спокойный мир, где любили, где горячо и искренне молились: и дома, и в храмах. А из поездок в Венецию или Ниццу посылали в Россию восторженные письма и красивые поздравительные открытки на русском или французском. С улыбкой фотографировались, придерживая рукой от ветра шляпу с пером. А потом, уже дома, зачем-то перевязывали пачку этих открыток шёлковой лентой… Этот мир, с экипажами и спокойной жизнью, где, как я слышала в войну, «ещё были печенье и яблоки», манил меня своей прелестью. Но над ним почему-то витали запрет и проклятие.
Навсегда остался в памяти мамин строгий, предупреждающий жест – палец, приложенный к губам. И ещё – чарующий запах минувшего, где отражалось в зеркальце лицо моей незнакомой бабушки: улыбчиво-белозубое и открытое. Возможно, чем-то похожее на моё.
II
Так кто же она, о которой писали: Надежда Васильевна Плевицкая, урождённая Винникова (1884-1940), великая русская певица, блиставшая на сценах России, Европы, Америки; основоположница русской песни как жанра, собравшая и впервые исполнившая с высоких подмостков более полутора тысяч народных песен: сибирских и курских, поволжских и воронежских, кубанских и терских казаков?
«За пятнадцать лет, в стужи, дожди и жару, изъездила я за песней великие просторы.
Не сосчитать, сколько десятков тысяч вёрст исколесила, а так и не объездила всей России, да разве её, матушку, измеришь?»
Это была воистину великая женщина, которую Господь Бог одарил с особой щедростью. Он дал ей мудрость, дар певческий и литературный, красоту внешнюю и, что ещё важнее, душевную. Дал горячее, страстное и доброе сердце. «Её любили все, – писал знаменитый Александр Бенуа, – начиная с Государя и до последнего его подданного». Действительно, государь называл её Курским Соловьём и, случалось, плакал, слушая её песни. А царица и дочки любили принимать Надежду Васильевну у себя в гостях. Она даже учила их расшивать полотенца красно-чёрным курским узорным крестиком.
«Государю и Государыне я пела много и с удовольствием. И в Москве, и в Питере, и в Ливадии, и в Царском Селе… Петь им было приятно и легко… Своей простотой и ласковостью Государь обвораживал так, что во время его бесед со мной я переставала волноваться и, порой нарушая этикет, к смущению придворных, начинала даже жестикулировать. Беседа затягивалась. Светские пожилые господа, утомясь ждать, начинали переминаться с ноги на ногу… Слушатель он был внимательный и чуткий. И так горячо любил всё русское!..» «Особенно запомнилась моя первая встреча с Государем… Меня привезли в придворной карете в Царское. Я волновалась безмерно. Добродушный командир полка В. А. Комаров, подавая мне при входе в собрание чудесный букет, заметил моё состояние. «Ну чего вы дрожите? Ну кого боитесь? Что прикажете подать для бодрости?» Я попросила чашку чёрного кофе, рюмку коньяку и следом выпила двадцать капель валерьянки. Но и это не помогло… Вот распахнулась дверь, и я оказалась перед Государем. Это была небольшая гостиная. Только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от Государя. Он сразу догадался о моём волнении и приветствовал тёплым взглядом. И чудо случилось, страх мой прошёл, я вдруг успокоилась… По наружности Государь не был величественным. Рядом сидящие генералы и сановники казались гораздо представительнее. Но я бы, и портретов не зная, не колеблясь, указала именно на скромную особу Его Величества. Из глаз его лучился прекрасный свет царской души, величественный своей простотой и покоряющей скромностью… Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. И про горькую долю крестьянскую, и про радости. Порою шутила в песнях, и Царь смеялся. Он очень понимал шутку крестьянскую, незатейную. Я пела много. Он рукоплескал первый и горячо. И последний хлопок был всегда его».
«По воскресеньям к Великой Княгине Ольге Александровне (сестра Государя) приезжали в гости племянницы – дочери Государя. Для маленьких развлечений.
Были там блестящая гвардейская молодёжь, кирасиры, конвойцы… Когда я приехала, Великие Княжны уже были там и пили с приглашёнными чай… Царевны были прелестны всей свежестью юности и простотой.
Ольга Николаевна вспыхивала как зорька, а у меньшей Царевны – Анастасии всё время шалили глаза… Во дворце царили простота и уют… Обаяние и скромность хозяйки были так же велики, как и у её царственного брата Николая… Они вели себя так, чтобы все забывали, что они Высочество…
Я пела, одарена была любовью и цветами, потом начались игры в жмурки, прятки, жгуты – эти милые, всем известные игры… В тот день я впервые встретила там того, чью петлицу украсил один из моих цветков, того, кто стал скоро моим женихом… 22 января 1915 года на полях сражений в Восточной Пруссии пал мой жених смертью храбрых» (воспоминания И. Шнейдера – Плевицкая на фронтах войны, гибель её жениха).
С «великими чудотворцами» (по её выражению) того времени она была не только знакома. С Шаляпиным у Надежды Васильевны сложились особо дружеские, глубокие отношения. И на долгие годы. На фотографии, ей впервые подаренной, он назвал её «мой родной жаворонок» и подписал: «Сердечно любящий Вас Шаляпин».
Её же портрет, как талисман, возил с собой на гастроли. И в России, и в эмиграции.
И прикреплял у зеркала в своей артистической уборной. «В ту зиму С. С. Мамонтов познакомил меня с Ф. И. Шаляпиным, – вспоминала Плевицкая в своих мемуарах. – Не забуду просторный светлый покой великого певца, светлую парчовую мебель, ослепительную скатерть на широком столе и рояль, покрытую светлым дорогим покрывалом. За той роялью он в первый же вечер разучил со мной песню «Помню, я ещё молодушкой была», слышанную им в детстве от матери. А я ему подарила «По Тверской-Ямской». Кроме меня у Шаляпиных в тот вечер были С. С. Мамонтов и знаменитый художник Коровин, который носил после тифа чёрную шёлковую ермолку. Коровин, как сейчас помню, уморительно рассказывал про станового пристава на рыбалке, а Фёдор Иванович в свой черёд рассыпался такими талантливыми пустяками, что я чуть не занемогла от хохота…
На прощание Фёдор Великий охватил меня своей богатырской рукой, да так, что я затерялась где-то у него под мышкой. Сверху, над моей головой, поплыл его незабываемый бархатистый голос, мощный, как соборный орган. «Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, у меня таких нет, я – слобожанин, не деревенский». И попросту, будто давно со мною дружен, поцеловал меня».
С ней вместе пел и горячо помогал ей в делах, в её становлении великий тенор Леонид Собинов. «…1913 год, помнится, я встречала у Л. В. Собинова.
В тот вечер был бенефис Коралли, и гостиная была наполнена цветами и запахом тубероз. Встреча Нового года прошла весело, среди гостей – все чародеи МХАТ…
За полночь Леонид Витальевич позвонил Шаляпину, поздравил с Новым годом и помирился с ним, до того у них была размолвка. Рядом со мной сидела маленькая, с горячими глазами поэтесса Татьяна Куперник, она писала мне тогда экспромтом стихи… А домой меня провожали И. М. Москвин и В. И. Качалов с женой. В наёмной карете было так весело, что мы, смеясь, долго колесили по улицам и чуть не заблудились в родной Москве…»
Судьба одарила Надежду Васильевну и дружбой с Рахманиновым. Он ей аккомпанировал, гастролировал по Америке, поклонялся её таланту. А её поясной портрет по заказу Рахманинова сделал великий скульптор Конёнков, живший тогда в Америке. Её наставлял и учил сценическому мастерству К. С. Станиславский, однако не раз говоривший актёрам-мхатовцам: «Учитесь жесту у Плевицкой!».
В эмиграции, написав две книги воспоминаний о своей жизни в России: «Дёжкин карагод» и «Мой путь с песней», – именно Плевицкая горько сказала: «Нет, мы не эмигранты, мы изгнанники». Обе эти книги, как и две последующие, написанные в форме дневника, – искренний, проникновенный рассказ.
Первая книга вышла в Берлине в 1925 году с предисловием писателя Алексея Михайловича Ремизова, высоко чтившего её песенный и литературный дар.
Предисловие это – философская притча о Христе и апостоле Петре, написанная в своеобразной манере тогдашних литературных исканий Ремизова. Вторая вышла в свет уже по переезде Плевицкой в Париж в 1930 году на деньги Марка Эйтингона, учёного-психиатра, и посвящена: «Нежно любимому другу М. Я. Эйтингону». Он был сыном знаменитого немецкого врача-миллионера, ученика Фрейда. Как и его брат, он много помогал бедствующей в эмиграции русской культуре (а спаслось, бежало тогда из красной России более трёх миллионов).
Жена Эйтингона, бывшая актриса МХАТа, сердечно дружила с Надеждой Васильевной ещё в России. До 1937 года евреи Эйтингоны жили в Берлине, но с наступлением фашизма были вынуждены бежать в Палестину. И не могли помочь Плевицкой в её последние страшные годы.
«На чужбине, в безмерной тоске по Родине, осталась у меня одна радость: мои тихие думы о прошлом. О том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка Русь и лелеяла нас в просторах своих…