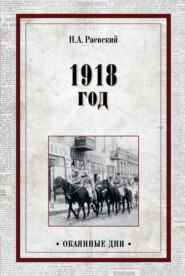
Полная версия:
1918 год_
Помощь русской эмиграции – так называемая «Русская акция» – была организована в Чехословакии чрезвычайно широко. Основной составляющей частью этой акции было принятие на полное государственное иждивение пяти тысяч русских и украинских студентов.
Николай Алексеевич с радостью воспользовался возможностью продолжить прерванное войной обучение. Он с легким сердцем покидает не слишком-то гостеприимную Болгарию и устремляется навстречу новым возможностям. В 1924 году он переезжает в Прагу: «…Распрощался я и с генералом Туркулом. Он похвалил меня за решение ехать в Прагу, но только сказал:
– Знаете, Раевский, я рассчитывал, что вы поступите на юридический факультет, а что вам делать на этом естественном? Не перемените решения?
– Нет, Ваше Превосходительство, нельзя.
– Ну, будьте счастливы.
И мы простились, как видно, навсегда. Туркул года на два меня моложе, человек здоровый, может он по-прежнему торгует бензином где-то во Франции, но увидеться мы, во всяком случае, не сможем»[17].
В Праге Николай Раевский снова становится студентом. Он поступает на естественный факультет Пражского Карлова Университета: «…Итак, я снова, если не с юношеским увлечением – юность уже прошла, то, быть может, с более глубоким интересом и серьезным отношением к делу занялся знакомой мне наукой, а технические навыки, приобретенные в великолепных лабораториях Петербургского-Петроградского университета, позволили мне в Праге приняться за разработку одной очень специальной и сложной биологической проблемы. Вскоре я снова почувствовал себя исследователем-биологом и работал с былым увлечением. Казалось, что на этот раз мой дальнейший путь определился вполне окончательно…»[18]
В Карловом Университете обучалось в ту пору очень много русских студентов. В коридорах, лекционных залах, лабораториях, библиотеке – всюду была слышна русская речь «в большой лаборатории больше половины мест было занято русскими докторантами и мне рассказывали, что известный зоолог профессор Мразек показывал однажды помещение своей кафедры кому-то из приехавших ученых иностранцев и, отворив двери большой лаборатории, он им заявил:
– А здесь у меня армия Врангеля»[19].
Бывших галлиполийцев в эмиграции объединяло своеобразное «братство», именовавшее себя на первых порах землячеством. «Галлиполийское землячество» было организацией неофициальной, но, по существу, в студенческих кругах весьма влиятельной. Члены организации были очень тесно связаны между собой внутренней, конечно добровольной, дисциплиной. После официального юридического оформления землячество было переименовано в «Галлиполийский союз». Нужно признать, что союз этот для Раевского в действительности был чем-то гораздо более важным, нежели просто объединение бывших боевых офицеров, бывших вольноопределяющихся армии генерала Врангеля, бывших российских подданных… Слово «бывшие» никак не согласовывалось с теми помыслами, устремлениями и чаяниями, которые владели тогда почти целиком умами студентов, с которыми Раевский был наиболее тесно связан. Проводилась колоссальная работа, направленная на то, чтобы сохранить боевой дух, поддержать белую идею и распространить ее впоследствии на младшее поколение русской эмиграции. Николай Алексеевич становится активным членом организации. Его уважают в среде студентов и преподавателей, с ним советуются, к его мнению прислушиваются, поэтому неудивительно, что Раевского избирают в правление Галлиполийского союза, и он с большим подъемом и вдохновением погружается в его деятельность: «…Дело в том, что в душе я, прежде всего, оставался белым офицером, участником кончившегося крахом белого движения. Но о том, что это был действительно крах, конец, а не временный перерыв в борьбе, я, как и большинство моих товарищей, догадался только много лет спустя. ‹…› Армия наша перешла на трудовое положение. По существу-то своему она была расформирована, рассредоточена, но для душевного своего успокоения мы считали, что это состояние временное. И вот, благодаря таким настроениям, я должен сказать, что в первые пражские годы, моим главным стимулом была именно душевная и материальная подготовка к воскрешению белого движения…»[20]
Уже упоминалось, что Союз галлиполийцев имел значительное влияние на студенческую жизнь внутри университета. Но было бы несправедливо не отметить, что роль союза и его политическое влияние, были гораздо шире и значительней. О том, какой политический вес имело галлиполийское объединение в Чехословакии (и не только). «…а сейчас упомяну только о том, что в 1937 году, когда советское правительство было уже признано чехословацким не только де факто, но и де юре, и в городе находилось не официозное, а вполне официальное дипломатическое представительство Советского Союза, на галлиполийский бал явились три министра чехословацкого правительства, генерал-инспектор армии – потенциальный главнокомандующий в случае, если бы разразилась война, во главе большой группы офицеров Генерального штаба в парадной форме и, наконец, что, пожалуй, наиболее знаменательно, ответственные дипломатические представители 16 великих и малых держав…»[21]
При всей загруженности деятельностью в Галлиполийском союзе Раевскому удавалось успешно совмещать ее с работой частного преподавателя русского и французского языков с работой в Русском Заграничном Историческом архиве в Праге. Занимаясь же на биологическом факультете Карлова университета, Николай Алексеевич почти ежедневно посещает курсы литературной секции Французского института имени Эрнеста Дени, куда поступил еще в 1924 году.
Первоначально в институте Николай Алексеевич предполагал лишь углубить свое знание французского языка, дабы иметь возможность впоследствии устроиться на работу в одну из французских африканских колоний в качестве энтомолога. Но позже он признается, что учеба в институте сыграла в его жизни гораздо более значимую роль: «Теперь, оглядываясь назад, я вижу, что именно там, в аудиториях литературной секции, начались мои первые писательские шаги, неуклонно уводившие меня в сторону от полюбившейся мне с детства биологической науки…»[22]
Талант будущего писателя по достоинству оценил преподаватель французского языка профессор Жан Паскье. О нем Николай Алексеевич не раз вспоминал с особой теплотой и искренней благодарностью. После окончания курсов Раевский получил наивысшую оценку за свое конкурсное экзаменационное сочинение по французскому классицизму и был премирован поездкой в Париж.
В Париже Николай Алексеевич пробыл всего месяц, но за этот короткий отрезок времени он успевает сделать ряд важных деловых визитов, один из которых был связан с поручением от председателя общества галлиполийцев Павла Михайловича Трофимова: «За несколько минут до начала посадки на перрон пришел председатель Союза Галлиполийцев Павел Михайлович Трофимов. Он, как это было условлено заранее, передал мне письмо, которое я должен был лично вручить командиру корпуса, генералу Кутепову. Павел Михайлович предупредил меня, что в случае опасности я должен постараться уничтожить это послание…»[23]
О свидании было договорено заранее: «Генерал Кутепов сам отворил дверь и принял меня в своей очень скромной квартире. Я вытянулся, как полагалось военному, и отрапортовал:
– Ваше Высокопревосходительство, Дроздовского артиллерийского дивизиона капитан Раевский представляется по случаю прибытия в город Париж.
Сейчас, пожалуй, и этот рапорт, отчетливо произнесенный на седьмой год нашего пребывания за границей, представляется смешноватым. Но у нас, галлиполийцев, так полагалось. В свое время я записал этот разговор с командиром корпуса, но запись моя не сохранилась. Никаких важных вопросов мы не обсуждали, а просто я по приказанию генерала, сидя с ним за столом, рассказал довольно подробно о житье-бытье пражских галлиполийцев и передал Кутепову их почтительный привет. В заключение Александр Павлович, пожимая мне руку, сказал:
– Теперь я всецело занят Россией, только Россией»[24].
В предместьях Парижа Раевский навещает своего бывшего командира Александра Якубова, в то время возглавлявшего охрану великого князя Николая Николаевича, жившего со своей супругой в скромном замке Шуаньи. После встречи Раевский напишет: «Поездка в Шуаньи была для меня поучительной. Я воочию убедился в том, что там никак не центр борьбы с русской советской революцией. Просто живет большой человек, когда-то блестяще руководивший великой галицейской битвой, которая, по существу, вывела сразу Австро-Венгрию из строя, большой человек, который достойно доживает свой век. Теперь он – историческое воспоминание и ничего больше…»[25]
Но все же одной из главных задач, которую поставил себе Раевский, отправляясь во Францию, была возможность пополнить свои материалы для диссертации. Несмотря на обширность фондов библиотек Праги, в них все же отсутствовали некоторые нужные научные журналы, в особенности итальянские (к тому времени Николай Алексеевич уже вполне прилично выучил итальянский язык). Он разыскал все необходимые ему материалы в Парижской Национальной библиотеке и в библиотеке Пастеровского института.
«Перед самым отъездом я последний раз побывал в русском Париже, – вспоминает Раевский прощание с друзьями – Меня пригласили поужинать наши бывшие офицеры дроздовцы. Председательствовал за столом милый наш полковник Шеин. Вспоминаю о нем с очень теплым чувством. Также тепло вспоминаю и тех, кто в этот вечер пришел пожелать мне счастливого пути – Александра Георгиевича Ягубова, поручика Гончарова, Пижоля, моего друга князя Володю Волконского и всех других. Мы чокались не бокалами шампанского, а рюмками с русской водкой. ‹…› А на следующий день, когда таксист француз вез меня по улицам великого города на Восточный вокзал, передо мной в последний раз промелькнули и Триумфальная арка, и площадь Согласия, и Лувр – все те места, которые я никогда не забуду. Казалось, не было у меня никаких оснований думать, что я никогда больше не увижу Парижа, ведь я молод, скоро кончу Пражский университет, передо мной как будто неплохое будущее и отчего мне снова не приехать на берег Сены? А я думал с грустью: «Все, последний раз, Парижа мне больше не видать». Думал и, к сожалению, оказался прав…»[26]
После Парижа пражская жизнь потекла своим чередом… Николай Алексеевич давал уроки, слушал лекции, активно работал над диссертацией. Общие ее контуры наметились уже достаточно ясно и казалось, что судьба молодого ученого после защиты была уже вполне определена… Но тут в его жизни произошло одно очень важное событие, которое в корне изменило весь дальнейший ее ход. В октябре 1928 года, по воле случая, Раевский знакомится с двумя только что вышедшими томами нового издания писем Пушкина под редакцией Модозолевского, и происходит прозрение – он понимает, что истинное его призвание вовсе не биология, которой он увлекался с детства, а литература, и главным образом изучение жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина.
«Возвратившись домой и поужинав, я зажег настольную лампу и принялся за чтение. И… читал до рассвета… Случай сам по себе, конечно, не столь примечателен. Но кто из нас не зачитывался хоть раз в своей жизни до рассвета. ‹…› Отправившись утром в университет, я уловил себя на том, что мои мысли всецело захвачены Пушкиным. Не его стихами, не музыкой его стихов, а впервые – им самим, Пушкиным-человеком, который творил эти прекрасные стихи. Жил. Любил. Страдал. Имел друзей. На протяжении всей сознательной жизни имел свободу. Чтил ее рыцарей, чуть ли не до конца жизни рвался на войну во имя интересов отчизны ‹…› Человек, рожденный не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, а для вдохновения, для звуков сладких и молитв – и вдруг эти неоднократные попытки стать военным. Пушкин, весь полный противоречий, а точнее само противоречие, но уже не мрамор, не бронзовая фигура, а живой человек, не до конца понятный, полный загадок, стал для меня таким близким, таким родным»[27].
Первым порывом было забросить все, даже диссертацию, и всецело посвятить себя новому увлечению. Однако диссертацию, после некоторых колебаний, Николай Алексеевич все же благополучно закончил (она, кстати, была признана выдающейся). Успешно сдал довольно сложные докторские экзамены и получил степень доктора естественных наук Карлова университета. Но затем долгое время к биологии не возвращался и вскоре научную работу в этой отрасли знаний уже окончательно оставил. Именно тогда, в октябре двадцать восьмого года, будущий писатель Раевский, по его собственному выражению, «остро заболел» Пушкиным и от этого заболевания не излечился до конца своей жизни…
«Наконец, 25 января 1930 года в Историческом зале Карлова университета, где некогда ораторствовал его ректор, впоследствии сожженный как еретик Ян Гус, в торжественной церемонии профессор промотор, приведя меня к академической присяге, вручил мне диплом доктора естественных наук с предоставлением надлежащих прав и преимуществ. Мне было сделано почетное и совсем необычное для студенческой диссертации предложение напечатать ее в трудах Чехословацкой академии наук и искусств.
Я не имел мужества отказаться, и в то же время у меня не хватило решимости снова засесть за микроскоп и доработать свой труд, как это было предложено профессорами. Примерно через год я убедился в том, что перестал быть биологом, и отказался от занимаемого мною места в лаборатории. Теперь я был душевно свободен и сказал себе: «Довольно зоологии, да здравствует Пушкин!..»[28]
Последующие события в жизни Николая Алексеевича, вплоть до ареста и вынужденного отъезда на родину, были так или иначе связаны уже с новой его страстью. Писатель погружается в исследовательскую работу, с необыкновенным подъемом исследуя миры Пушкинианы. Его всерьез увлекает тема «Пушкин и война». Проведя в богатейшей пражской библиотеке не один день, основательно и кропотливо изучив и обработав все доступные материалы, к началу 1937 года Раевский пишет серьезную работу, на основании которой он решается сделать двухчасовой доклад перед немногочисленной, но весьма квалифицированной аудиторией. Доклад был принят слушателями более чем благосклонно и вызвал весьма оживленный интерес. Раевского начинают приглашать в разные культурные общества, выступление пришлось повторить несколько раз. Николай Алексеевич с радостью понимает, что ему вполне удается заинтересовать слушателей и это вдохновляет его на дальнейшее творческое развитие темы.
Позже тематику пушкиноведческих исследований Николай Алексеевич значительно расширил, начав поиски частных архивов А. Н. Гончаровой-Фризенгоф и Д. Ф. Фикельмон. В результате ему удалось получить из закрытого частного архива копию неизвестного письма Пушкина и он стал первым и единственным из исследователей, кто побывал в замке Бродяны в то счастливое время, когда там еще сохранялась историческая обстановка и документальные свидетельства пушкинских времен. Позже, во время войны, замок был разграблен…
Об истории его изысканий в довоенной Чехословакии гораздо лучше расскажут его книги, вышедшие значительно позже, уже в Советском Союзе. В книге «Портреты заговорили» Николай Алексеевич повествует не только о Пушкине и его окружении, но и в увлекательнейшей форме рассказывает о своих приключениях, связанных с поисками материалов к этой книге. Хочется все же познакомить читателя с одним эпизодом, который не вошел в книгу, но который Николай Алексеевич описал в своих мемуарах:
«Ни в одной из своих публикаций я, однако, не коснулся забавного инцидента, происшедшего во время этого моего памятного визита. Представьте себе обстановку: вечер в уютной малой гостиной замка, освещенной керосиновыми лампами (электричества в то время в Бродянах еще не было). В старинных креслах, на которых когда-то сиживала вдова поэта, навестившая сестру, и сама Александра Николаевна, в этих креслах сидим и беседуем мы: теща владельца замка графиня Эрнфельд, вдова германского генерала, командовавшего кавалергардами Вильгельма II, правнук Александры Николаевны граф Георг Вельцбург, которому принадлежал теперь замок, его молодая тогда супруга и я. Беседуем по-французски. ‹…› Весьма немолодая уже, но бодрая на вид, очень представительная дама графиня Эрнфельд, наводит на меня свой золотой лорнет и говорит:
– Так у них была дуэль?
– Да, мадам.
– Это ужасно! А скажите, кто кого убил, Пушкин Дантеса или Дантес Пушкина?
Граф Вельцбург краснеет и растерянно произносит только одно слово:
– Maman!
Мне пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не рассмеяться, но я спокойно объясняю графине, что к несчастью на дуэли погиб не Дантес, а Пушкин. Перевожу после этого разговор на другую тему, чтобы снова не пришлось делать над собой усилие»[29].
К концу двадцатых годов жизнь Раевского складывается вполне благополучно. Он по-прежнему занимается Пушкиным для души. Зарабатывает вполне прилично благодаря работе в государственном Гигиеническом институте Чехословакии, для которого делает сложные научные переводы с французского. Ему также поступает заманчивое приглашение работать помощником библиотекаря во Французском институте, и он его с удовольствием принимает, к тому же частные уроки французского и русского приносят Раевскому неплохой доход. С улучшением материального положения Николай Алексеевич уже может оказывать значительную помощь семье – он шлет большие посылки с продуктами и вещами в Советский Союз (тогда это еще было возможно, чуть позже связь практически прекращается, так как это становится очень опасным для родных). У него даже появляется возможность принарядиться – он заказывает очень приличный дорогой фрак и все полагающиеся к нему аксессуары – фрак ему был необходим, поскольку он испытывал чрезвычайную любовь к танцам (как признается в своих дневниках Раевский) и старался не пропускать ни одного бала, которые устраивали русские заграничные общества. В то время Николай Алексеевич был, по существу, уже не молод, и, поскольку молодость пришлась на тяжелые годы войны и эмиграции, когда не приходилось думать о развлечениях, теперь он наверстывал упущенное и немало времени посвящал тому, что можно назвать светской жизнью:
«При всяком удобном случае охотно танцевал и на больших русских балах, и на маленьких домашних собраниях, и на вечерах, хотя и не домашних, но все же немноголюдных. Пройдя хорошую пражскую школу, я танцевал недурно. Во всяком случае, мои юные дамы, среди которых были и ученицы балетного училища и начинающие балерины, русские и чешки, принятые в труппу Народного театра, эти юные дамы на своего партнера не жаловались. Однажды я даже отважился танцевать танго с моей приятельницей, знаменитой заграничной балериной Елизаветой Николаевной Никольской»[30].
Невозможно не коснуться одной из самых главных тем писательского творчества Раевского, ведь к тому времени, как Николай Алексеевич увлекся пушкинистикой, он имел уже большой писательский опыт: «Ещё во время похода на Москву я решил, что если останусь жив, напишу книгу об учащихся-добровольцах. В Крыму, в перерывах между боями, я начал заносить свои впечатления на бумагу. Образовалась уже порядочная пачка листов, но во время исхода из Севастополя она пропала вместе со всеми моими вещами. В Галлиполи не было времени писать воспоминания. Я приступил к ним в феврале 1922 г. в Орхании (Болгария), где стоял в то время Дроздовский артиллерийский дивизион, и окончил обширную рукопись (1059 страниц) 24 июня 1923 г., в том же городе».[31]
И вот уже в Праге, едва сдав экзамены на докторскую степень и защитив диссертацию, Раевский, как он сам признается, «вновь почувствовал неудержимое желание писать. Писать не воспоминания, а что-то художественное или полухудожественное»[32]. И уже в 1924 году в издававшемся в Праге журнале «Студенческие годы», он печатает отрывок из задуманной им новой книги под названием «Новороссийск». В нем Раевский описал катастрофу добровольческой армии четырнадцатого марта двадцатого года, которую пережил сам… Отрывок, напечатанный в журнале, имел несомненный успех и был отмечен в целом ряде русских газет, выходивших в разных странах Европы и в Соединенных Штатах. Окрыленный хотя и небольшим, но все же успехом, Раевский продолжил работать над повестью, которую назвал: «Добровольцы. Повесть крымских дней». Закончив книгу к концу 1931 года, он попытался ее издать, но безуспешно. Никто тогда не знал Николая Раевского как писателя и издатели, возможно, не хотели рисковать. Но, скорее, дело было в другом. Сам Раевский, размышляя на эту тему пишет: «В самом деле, я чувствовал, что для красных моя повесть слишком белая, а вот белые друзья мои, которым я давал ее прочесть, находили ее, правда, не красной, но слишком, мол, объективной и потому красноватой, во всяком случае не снежно белой»[33]. Скорее всего, именно эта «красноватость» и была причиной отказов издать повесть. Очень жаль. В. В. Набоков (с писателем Раевский был очень близко знаком, их объединяла одна общая страсть – бабочки), которому Раевский отправил рукопись, весьма высоко оценил повесть, но у него была своя версия на счет того, почему ее не печатали: «Владимир Владимирович ответил мне очень подробным и лестным письмом, в котором он одобрил и содержание присланных ему отрывков, и мой стиль, но впоследствии в другом письме он мне сказал примерно так:
«– Николай Алексеевич, вы не огорчайтесь тем, что вас не печатают. Вас не печатают не потому, что вы пишите плохо, а как раз потому, что пишите хорошо и можете, чего доброго, стать кому-то конкурентом»[34].
В начале тридцатых годов мировой экономический кризис весьма негативно сказывается и на материальном положении Раевского – работа в Институте Гигиены резко сокращается, одно за другим закрываются научные организации, уходят многие ученики. Появляются серьезные долги и чтобы рассчитаться с кредиторами, он принимает трудное для себя решение – продать рукописи, в числе которых были «Дневник галлиполийца», а также повести «1918 год» и «Добровольцы», которые в Чехословакии так и не были напечатаны, в Русский зарубежный архив[35].
Конец тридцатых принес с собой еще более тяжелую ситуацию. В 1939 году Чехословакия временно перестала существовать как государство. Волею судеб Раевский живет теперь в протекторате Богемия и Моравия, в котором полновластными хозяевами стали немцы, оккупировавшие эти земли, остававшиеся тогда в составе Чехии. После расчленения страны Словакия стала практически марионеточным государством. Этому предшествовало событие, вошедшее в историю как «Мюнхенское соглашение», которое и послужило первым толчком к катастрофическому разделу Чехословакии и оккупации ее Германией.
Вот как Николай Алексеевич описывает в своем пражском дневнике всего несколько дней осени 1938 года. Всего несколько скупых абзацев, но как пронзительно и точно передает он настроение, царившее в стране:
«20/IX. По-моему, положение безнадежно. Правительство отвергло лондонский «план». Как гражданин не могу не сочувствовать мужеству чехов, как обыватель, конечно, горюю. Если будет война, оставленная всеми Чехословакия погибнет без остатка. Даже если уцелею, придётся все начинать сначала. Тоска зверская, невыносимая. Понимаю Марью Степановну с её мыслями о флаконе[36]. От этой самой тоски пошёл слушать «Женитьбу Фигаро». Не помогло. Чудная музыка только временами доходила до сознания. Теперь почти конец, аплодисменты, визави. Совсем почти как всегда. Но в антрактах лица у всех серьёзные и, чувствуется, пришли тоже разгонять тоску. У нас в «Огоньке» считают, что у чехов при отчаянной решимости есть процентов 10 вероятности все-таки вызвать европейскую войну. Даже самые большие ругатели присмирели и в своей среде. Слишком большая трагедия. Вчера Осусский вышел из кабинета в слезах и сказал журналистам:
– Предают целый народ, даже не спросив его мнения. Если тон немецких радио соответствует положению вещей, нападение Германии, поддержанной Польшей и Венгрией, неизбежно. Не вижу выхода, не вижу. Во всяком случае самого страшного – прихода сюда советских войск – не будет. Выступление Венгрии совершенно исключает эту возможность.
21/IX. Войны не будет. Бомб не будет. Жизнь понемножку покатится своим чередом. Капитуляция… Основное чувство – стыд, стыд, жуткий стыд… Чувствуешь себя без вины виноватым перед чехами. Бедные. Многие женщины плакали, когда спикер срывающимся голосом читал официальное сообщение. Да, говорят, плакали и некоторые офицеры на улице. Двадцатилетие республики. Никогда не забуду – теплый тихий вечер, слабо освещённые Вацлавские ночи; (рекламы потушены). Стою в толпе около «Каруны». Штепанок читает воззвание начальника пропаганды, великолепно написанное, трагическое… Только сравнение Чехословакии с Иисусом Христом безвкусно. Тихо, где-то звонят колокола. Передо мной плачет женщина, кажется проститутка… Независимость чешского государства фактически кончается. О манифестациях напишу завтра. Гнусно, гнусно… И нет даже подсознательной радости от того, что можно, кажется, выкинуть маску и ликвидировать ненужные больше «железные запасы»[37]. Жалкие все, жалкие…»[38]



