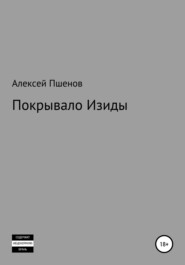скачать книгу бесплатно
Раджиб ничего не ответил. Башимкар принял его молчание за согласие и безапелляционно произнёс:
–Караван пойдёт через три дня. Послезавтра ты отправишь в рейд пятнадцать надёжных бойцов и выпишешь им маршрут патрулирования в сторону Лагата. Пусть сначала поднимутся в горы – мои люди их там встретят и всё объяснят.
–А если бойцы не согласятся или донесут на меня?
–У них точно такой же выбор как у тебя. Ты растолкуй своим солдатам, что быть богатым и живым гораздо лучше, чем нищим и мёртвым. И доллары – лучший аргумент в пользу нашего сотрудничества,– с этими словами полковник протянул капитану свёрнутые в трубочку зелёные купюры.– А на обратном пути наши караванщики купят у вас мак и коноплю.
Раджиб, понурив голову, забрал гонорар и, не попрощавшись, вышел из развалин караван-сарая.
–И не делай глупостей. Помни о своей семье!– крикнул ему вслед Башимкар.
Капитан и не собирался делать никаких новых глупостей. Свою главную глупость он совершил тогда, когда согласился возглавить местный Царандой. Служить новой власти было выгодно в крупных городах, находясь под надёжной защитой советских солдат, танков и вертушек. А в родном кишлаке Раджиб оказался между молотом и наковальней. Если он не станет проводить караваны, то его в ближайшее время убьют местные душманы, а если станет, то рано или поздно его убьют шурави. И как объяснить предполагаемую измену своим подчинённым? Капитан машинально закинул под язык пастилку чарза (сублимированный гашиш), но облегчения от этого не наступило и тягостные мысли не улетучились.
На следующий день он собрал в спортивном зале полтора десятка своих самых проверенных бойцов – выходцев из Фарума – и честно рассказал им о своей встрече с Башимкаром. К удивлению Раджиба ультимативное предложение душманов было принято едва ли не на ура. Никто из подавшихся в Царандой дехкан умирать не хотел, а заработать американскую валюту желали все. Через день, как и было оговорено, пятнадцать бойцов вышли на встречу с караванщиками и довели их до оговорённого кишлака. А на обратном пути тот же караван забрал подготовленные Раджибом мак и коноплю, и обоюдовыгодный бизнес был поставлен на поток. У капитана отлегло от сердца. Отводя от себя подозрения в измене, его отряд несколько в год со стрельбой и взрывами, чтобы было слышно на советском блок-посту, захватывал подставные караваны с отслужившим своё китайским оружейным хламом. Иногда Раджиб имитировал мнимые перестрелки с бандитами Башимкара. Но тот, чтобы не спалить прорубленное в горах надёжное окно, сам никогда не нападал ни расположенный в ущелье советский блок-пост, ни на Фарумский Царандой, а уходил в боевые рейды далеко в долину в сторону Кандагара. Официальная кабульская власть считала Фарум мирным и лояльным кишлаком, однако советская контрразведка сильно сомневалась в этой лояльности и воспринимала Фарум, как чёрную дыру, в которой творится неизвестно что. И только на пятый год Гражданской войны с внедрением в кишлак Осокина ситуация прояснилась. Тотальная замена местного Царандоя ничего не давала – новых бойцов могли также элементарно запугать или подкупить. А появление нового агента под псевдонимом Буратино позволяло помечать проходящие караваны радиомаячками.
В отличие от северных хребтов горы в районе Тоба-Какарского ущелья были невысокими и пологими, что позволяло караванам в любую погоду переходить их практически в любом месте, не пользуясь нахоженными тропами. Но это окно было всего около двадцати километров в ширину, и риск нарваться на советский спецназ был достаточно велик. С появлением проводников из Фарумского Царандоя опасность значительно уменьшилась, и караваны, ходившие раньше один-два раза в месяц пошли каждую неделю. Бойцы капитана Раджиба сопровождали своих подопечных до предгорий на расстоянии трёх дневных переходов, а оттуда караваны уже с новыми проводниками, – как правило, местными пастухами – расходились во все стороны: на юг в Гильменд, на запад в Герат и на север в сторону Кабула. Несколько лет схема работала как часы, а потом дала сбой. Почти добравшиеся до своих целей и расположившиеся на скрытную днёвку караваны сначала неожиданно расстреливали советские вертушки, а потом добивали высадившиеся из них десантники. До точек назначения не доходил едва ли не каждый второй груз, отправленный через Тоба-Какар. Было ясно, что среди проводников завёлся крот, но кто он и как передаёт информацию шурави? Все караваны уничтожались в одном-двух переходах от своей конечной цели – скрытной горной базы или хорошо укреплённого мятежного кишлака. За это время менялось несколько групп проводников, и вычислить, кто из них был предателем, было невозможно. Душманы на всякий случай для острастки расстреляли нескольких заподозренных в измене пастухов, но это не помогло. Караваны продолжали попадать в засады. Бойцы Раджиба находились в самом начале цепочки и были вне подозрений потому, что никогда не знали, куда конкретно направляется караван.
Незаметно подкинуть в сумку с боеприпасами рожок с патронами-маячками оказалось несложно, но в первый раз у Халида от волнения так дрожали руки, что он едва сумел засунуть его в перемётную сумку с новенькими китайскими автоматами. Потом молодой человек две недели с ужасом ожидал неминуемого возмездия за своё предательство, но когда капитан Раджиб вновь назначил его в проводники, с облегчением понял, что всё обошлось. А получив от Осокина две зелёные купюры с портретом Бенджамина Франклина – одну за первый уничтоженный караван, а другую в счёт аванса – и вовсе поверил в свою счастливую звезду. Вырученные деньги Халид ни на что не тратил, а аккуратно складывал в жестяную коробочку, которую прятал в родительском курятнике. Осокин обещал после войны забрать его с собой далёкую северную страну, в которой можно было, не таясь соотечественников пить советскую виноградную колу и сколько угодно смотреть на женщин с открытыми лицами и голыми ногами. Деньги должны были пойти на обустройство новой жизни на новом месте. После женитьбы Халид в медпункте дежурил нечасто – один-два раза в месяц и исключительно в дневное время. Заступив на смену, он получал от Осокина деньги и новые меченые рожки, выпивал стаканчик шампанского, выкуривал косяк конопли и до вечера дремал под навесом. Несмотря на перенесённые неприятности, кружащее голову игристое вино ему нравилось, а вот на Полухину Халид смотреть больше не мог. Женившись и начав регулярную половую жизнь, он понял, что его развели как несмышлёного ребёнка. Сильная и здоровая медсестра, даже согласившись на секс с нетрезвым и обкуренным Халидом, не позволила бы нанести себе какие-либо серьёзные травмы. Вероятно, у неё в это время были месячные, либо она перепачкала себя кровью заранее набранной из вены. Но как бы то ни было, дорога назад была окончательно отрезана. Откровенные фотографии, медицинский акт о совершённом насилии и соглашение о сотрудничестве навсегда связали Халида с коварными шурави.
Полухиной тоже было неудобно за свой поступок, и она старалась лишний раз не сталкиваться с ошельмованным ею Халидом. Когда молодой человек заступал на дежурство, медсестра уходила в свою комнату и весь день проводила там. Ей было уже тридцать, Осокину – двадцать девять, и их изначально легковесное увлечение друг другом очень быстро переросло в крепкую связь. Через год они вместе уехали в отпуск в Москву и там официально расписались. А ещё через полгода у них родилась дочь, и Полухина, навсегда покинув Афганистан, вернулась в Советский Союз. Осокин же служил до самого конца. Накануне нового одна тысяча девятьсот восемьдесят девятого года советские солдаты покинули Тоба-Какарское ущелье и передали свой блок-пост Фарумскому Царандою. Но изменникам не было суждено встретить Новый год на новом месте. Уже на следующую ночь советский спецназ, переодетый в пуштунские одежды, снял беспечно дремавшего единственного часового и под видом душманов Башимкара с криками “Аллах Акбар!” перебил весь состав двуличного Царандоя. Правда, среди погибших бойцов не оказалось старшего сержанта Халида Казара. Осокин сдержал своё слово, и настоял на том, чтобы агента по прозвищу Буратино вместе с женой и двумя детьми вывезли в Советский Союз.
Глава 6. Андрей Осокин, Иршикам.
За успешное выполнение сверхважной разведоперации, Осокин получил орден Боевого Красного Знамени, звание майора и долгосрочный отпуск, который провёл вместе с женой и дочкой в путешествии по Черноморскому побережью. Начав своё путешествие в апрельской Одессе, они, передвигаясь на катерах и теплоходах из порта в порт, окончили его в октябрьском Батуме. Это было самое счастливое время в жизни их семьи. А уже с ноября и Осокин, и Полухина и даже их трёхлетняя дочь стали готовиться к новому заданию.
С выводом Советских войск из Афганистана, Гражданская война не закончилась. Наоборот, она переметнулась на южные окраины Средней Азии – в Узбекистан и Таджикистан. Посланники моджахедов, преодолев Памирские горы, проповедовали в мечетях и молельных домах радикальный ислам и призывали к свержению власти проклятых кафиров. И если в крупных городах органы госбезопасности кое-как боролись с пришлыми и собственными джихадистами, то в провинции, а особенно в отдалённых горных районах, они чувствовали себя вполне вольготно.
Одним из таких неблагонадёжных районов было Иршикамское плато в Горном Бадахшане, издавна заселённое таджиками-ашмаилитами. Ашмаилизм – это одно течений в Исламе, адепты которого поклоняются непризнанному Назиратскому имаму Ашмаилу, якобы не умершему, а перешедшему по воле Аллаха в невидимое для простых смертных состояние “гаиб” – отсутствие. Гонимые как суннитами, так и шиитами ашмаилиты компактно поселялись в труднодоступных районах Памира, Гиндукуша, Тянь-Шаня и Гималаев. Но в какой бы стране они не проживали – в Пакистане, Афганистане, Советском Союзе, Китае или Индии – своим верховным правителем эти вечные изгнанники считали не местную власть, а своего духовного лидера – очередного Назиратского имама. В нагорье Иршикам бежавшие от монгольских завоевателей ашмаилиты появились ещё в XIII веке. Заложив своё поселение на берегу одноимённой реки, они принялись обживать этот суровый и неприветливый край. Прохладное засушливое лето и скудная каменистая почва не способствовали земледелию, а холодная снежная зима – скотоводству. Единственными крупными животными, способными выжить в таких неблагоприятных условиях были яки, дававшие шерсть, мясо и молоко. Зато окрестные горы оказались богаты природными ископаемыми: полиметаллическими рудами, драгоценными и поделочными камнями, серебром и даже золотом. Трудолюбивые ашмаилиты усердно плавили медь, свинец и олово, добывали чистейший лазурит, изумруды и рубины, а в верховьях реки Иршикам намывали золотой песок и самородки. Единственным недостатком их жизни было то, что когда-то привлекло их в эти края – оторванность от внешнего мира. Единственная Восточная дорога, связывавшая нагорье с долиной с ноября по апрель была непроходима из-за снежных заносов, а Южный перевал, ведущий в Афганистан и Пакистан, и вовсе был доступен только в летние месяцы. Такая изоляция способствовала развитию ремёсел. Всю зиму местные жители пряли шерсть, выделывали кошмы, изготовляли медную и оловянную посуду, так же ювелирные украшения. Летом они продавали свои изделия на базарах в Худжанте и других равнинных городах и кишлаках, а на вырученные деньги закупали недостающее продовольствие, чтобы пережить очередную суровую зиму. Такая однообразно-размеренная, но в общем-то безбедная жизнь продолжалась до середины девятнадцатого века, когда истощились казавшиеся бесконечными природные ресурсы окрестных гор. К тому времени небольшой посёлок на берегу реки Иршикам превратился в одноимённый город, а по краям нагорья появилось множество больших и малых кишлаков. Дававшие работу и приносившие стабильный доход рудники, копи, шахты и горные выработки опустели, а местная земля не могла прокормить многократно возросшее население. Чтобы выжить, надо было искать какой-то новый заработок на стороне. И ашмаилиты подались в батраки. Теперь весной вместо того, чтобы торговать на базарах они спускались в долину, чтобы наняться сезонными работниками к зажиточным дехканам. Отбатрачив полгода на хлопковых и рисовых плантациях, они, закупившись мукой и крупами, возвращались на зимовку на своё нагорье.
Вне зависимости от того кому официально принадлежал Горный Бадахшан – монголам, Шейбанидам, Аштарханидам или Дурранийской империи – Иршикамские ашмаилиты своими правителями считали потомков Назиратского имама и назначаемого ими наместника, которому добровольно платили регулярную дань. В конце девятнадцатого века политическая независимость оторванных от внешнего мира ашмаилитов закончилась. Согласно русско-английскому договору Бадахшан был разделён на две части: одна отошла к Афганистану, а другая к вассальной от России Бухаре. Иршикамское нагорье формально стало частью Бухарского эмирата. А в начале двадцатого века все западнопамирские территории “добровольно” вошли в состав Российской империи и были выделены в особый административный округ, непосредственно подчинявшийся начальнику Памирского отряда. В Иршикам вошли русские войска. На южном краю нагорья у перевала, ведущего в Афганистан, был разбит военный городок, а комендантом Иршикамского района был назначен майор Рогачёв. На окраине города возвели православную церковь, открыли постоялый двор, казённый магазин, почту, больницу и школу, в которой преподавали русский язык и арифметику. Местные жители назвали это компактное поселение “Руси кишлак”.
Летом одна тысяча девятьсот шестнадцатого года в равнинном Таджикистане вспыхнуло восстание против мобилизации мужчин на тыловые работы в прифронтовой полосе. Повстанцы громили здания местных администраций, жгли списки призывников, убивали русских чиновников и крестьян-переселенцев вместе с их семьями. Не остались в стороне от мятежа и Ирщикамские ашмаилиты. Их вождь – наместник Низаритского имама Рахим-Ходжа на пятничной проповеди публично обвинил Российскую империю в обнищании и угнетении своих подданных. В ту же ночь не желающие отбывать трудовую повинность местные мужчины, вооружившись саблями, кинжалами и старыми кремнёвыми ружьями напали на “Руси кишлак”. Они сожгли все постройки и вырезали всех обитателей, не сумевших убежать в военный городок. Там, из-за идущей уже третий год войны, вместо положенного батальона находилась всего одна рота солдат. Но и этого вполне хватило для усмирения мятежа. Несколько ружейных залпов обратили напавших на городок повстанцев в повальное бегство. Самые активные мятежники во главе с Рахим-Ходжой укрылись в окрестных горах, некоторые убежали в долину, а остальные сдались на милость победителей. Разъярённые их жестокостью солдаты убили нескольких пленников на месте, а остальных заперли в гарнизонной гауптвахте. Осенью после окончательного подавления мятежа военно-полевой суд приговорил два десятка иршикамких бунтовщиков к повешению, а остальных отправили на принудительные тыловые работы, которых они так хотели избежать. Церковь, почту, больницу и школу отстроили заново, но ни врачей, ни учителей, ни других служащих, желающих там работать, найти не удалось. В церковь прислали выпускника-семинариста с молодой женой, которые из соображений безопасности поселились в военном городке вместе со своей вооружённой паствой.
А весной следующего одна тысяча девятьсот семнадцатого года в Туркестанском военном округе наступил революционный разброд. Когда растаял снег, и открылась дорога в долину, Иршикамский гарнизон получил своё жалование не аккуратными стопками царских пятёрок и десяток, а холщовыми мешками похожих на почтовые марки керенок. А продуктовое довольствие и вовсе не доехало, затерявшись где-то в дороге. Летом, доев остатки прошлогодних припасов, оголодавшие солдаты вместе с майором Рогачёвым покинули военный городок и ушли в долину, а с гор вместе со своим небольшим отрядом спустился мятежный Рахим-Ходжа. К этому времени мужчин в Иршикаме почти не осталось: одни погибли во время восстания; другие, боясь наказания, сбежали в долину; а третьи были мобилизованы на трудовую повинность и затерялись где-то в бескрайней России. Весной почти никто не отправился батрачить в долину, и пред жителями нагорья нависла угроза невиданного доселе голода. В надежде исправить это бедственное положение Рахим-Ходжа со своими нукерами перешёл Южный перевал и через Афганистан направился в Британский Индостан к своему сюзерену Назиратскому имаму Али-Хану Второму. Иршикамские ашмаилиты столетиями исправно выплачивали своим духовным лидерам положенную десятину от своих доходов и теперь надеялись на помощь с их стороны. Али-Хан вошёл в бедственное положение своих подданных и закупил для них необходимое количество муки, крупы и бобов. А ещё он вооружил отряд Рахим-Ходжи новыми английскими винтовками и станковыми пулемётами. Вернувшись в Иршикам, бойцы установили пулемёты у ведущей в долину Восточной дороги, чтобы не допустить возможного возвращения царских солдат.
Но царские солдаты в Иршикам больше не вернулись. Вместо них следующей весной, когда на единственной дороге растаяли непроходимые снежные заносы, из Худжантской долины на плоскогорье поднялись посланцы Бухарского эмира, получившего от новой Советской власти декрет о независимости. Наглые и высокомерные эмиссары ультимативно заявили, что отныне Иршикам входит в состав нового эмирата, а ашмаилиты обязаны платить церковную десятину не своему Назиратскому имаму, а священному правителю Бухары. Рахим-Ходжа так же безапелляционно ответил, что не признаёт эту новую власть и создаёт в Иршикаме независимый ашмаилитский имамат. Посланцы эмира вернулись восвояси, не солоно хлебавши, но обещали скоро вернуться. И действительно через две недели на Восточной дороге появились бухарские солдаты. К тому времени бойцы Рахим-Ходжи основательно укрепили свои огневые точки, расположенные над горной дорогой и буквально в упор расстреляли незваных гостей из английских пулемётов. С этого момента дорога в долину для мятежных ашмаилитов была отрезана. Оттуда иногда поднимались вернувшиеся из России мужчины, но жители нагорья больше не рисковали спускаться вниз.
Рахим-Ходжа снова отправился в Пешавар на поклон к Али-Хану с просьбой официально возглавить новообразованный имамат. Тот внимательно выслушал своего наместника, пообещал всестороннюю протекцию, но официально руководить мятежным государством отказался и оставил все управленческие функции за своим назначенцем. На этот раз Рахим-Ходжа вернулся не только с караваном продовольствия и боеприпасов, но и с новыми людьми: двумя учителями, врачом, военным инструктором и тремя английскими горными инженерами. Учителя обосновались в заново отстроенной бывшей руской школе, врач в больнице, инструктор в военном городке, а инженеры, привезшие с собой целый караван всевозможных инструментов, отправились прямиком к горе Шайтан Хо.
Шайтан Хо – Чёртова Гора – пользовалась у местных жителей дурной славой. Считалось, что там обитали иблисы – злые духи, охранявшие свои несметные подземные сокровища. Многие пытались до них добраться, но ни у кого не получалось. Подножие и склоны Шайтан Хо были буквально изрыты брошенными горными выработками. Там действительно встречались золотые самородки, драгоценные и поделочные камни, но больше всего на горе было заколдованного олова. При попытке выплавить его из руды, металл превращался в чёрную шлаковую пену, издававшую едва уловимый кисловатый запах. Человек, надышавшийся этими испарениями никогда больше не возвращался на Шайтан Хо.. Разгневанные непрошенным вторжением иблисы насылали на него своё смертельное проклятие. Незадачливый горнодобытчик катастрофически слабел, тяготился затяжными головными болями, постоянной тошнотой, кашлем и насморком, у него выпадали волосы, а на теле появлялась непреходящая зудящая сыпь. В результате через год-два он тихо угасал, превратившись в иссохшую мумию. Тоже самое происходило с людьми, не плавившими олово, а просто кайлившими глубокие шурфы в поисках золота и драгоценных камней. Но многочисленные печальные примеры не останавливали новых безрассудных искателей скрытых сокровищ, надеявшихся, что с ними ничего не произойдёт. И, действительно, с человеком ничего не происходило, если он проводил на Шайтан Хо несколько недель и не врубался кайлом в её склоны. Но просто так найти что-нибудь ценное было практически невозможно, а если удачливый горняк и натыкался на лежащий на поверхности рубин, изумруд или золотой самородок, то уже не мог никуда уйти. Наплевав на голос разума, он день за днём вгрызался в горную породу, вдыхая невидимые подземные испарения. Горячечная жажда быстрого обогащения затмевала признаки надвигающейся болезни, и человек обращал внимание на своё самочувствие, только вернувшись с наступлением зимы в свой дом. Проклятие горных духов было неизлечимо – с ним не мог справиться даже почти всемогущие русские доктора.
Англичане провели на Шайтан Хо не больше двух недель, а потом, бросив на склонах свои инструменты и амуницию, едва успев до закрытия Южного перевала, вернулись восвояси. Вместо брошенной в горах экипировки они увезли с собой несколько тяжеленных ящиков, набитых неизвестно чем. Местные жители предположили, что у инженеров был с собой какой-то хитроумный прибор, позволявший видеть сквозь пустую породу золото и драгоценные камни. И что их ящики были набиты сокровищами, которые англичане всё же сумели отнять у злобных иблисов. Вспомнили и о том, что несколько лет назад при белом царе русские инженеры провели целое лето в окрестных горах в поисках полезных ископаемых, но вроде бы ничего интересного не обнаружили. Ашмаилиты посудачили об этом несколько зимних месяцев, да и забыли. С приходом весны пришли и новые заботы. Продовольствие, присланное Али-Ханом заканчивалось, и его надо было снова где-то добывать.
Обращаться в третий раз за помощью к своему духовному лидеру было неприлично, а идти батрачить в долину – смертельно опасно. Вряд ли Бухарский эмир простил самопровозглашённому имамату поражение и гибель своих воинов. Рахим-Ходжа видел только один выход из сложившейся ситуации – забрать необходимую провизию силой. Всё лето местные мужчины под руководством присланного Али-Ханом инструктора обучались военному делу, а осенью спустились со своего плоскогорья и совершили дерзкий налёт на долину. Новенькие английские винтовки были самым весомым аргументом в споре о том, кому принадлежит собранный дехканами урожай. Обчистив ближайшие кишлаки не хуже советских продотрядов, ащмаилиты с караваном гружёных богатой добычей ишаков вернулись в Иршикам. Присланный для их поимки и наказания отряд бухарских солдат, зная об установленных над дорогой пулемётах, подниматься на нагорье не стал, а в свою очередь обустроил в начале дороги пару таких же пулемётных гнёзд, чтобы мятежные горцы не могли больше беспрепятственно спускаться в долину. На следующий год ашмаилиты, используя горные козьи тропы и построив несколько оврингов (навесные балконы на отвесных скалах)
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: