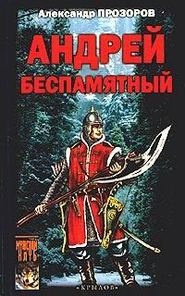скачать книгу бесплатно
– Дичь здесь непуганая, Илья Федотович, – азартно сверкнули серые глаза. – Чего не пошуметь? И с ужином хорошим останемся.
– Касьян! – не отрывая от холопа глаз, позвал Умильный.
– Слушаю, боярин, – немедленно отозвался старый, опытный воин, бывший наставником самого Ильи Федотовича еще в его первом походе. Этот возвышался в седле не просто в доспехе, но и в мисюрке[13 - Мисюрка – шлем в виде металлической тюбетейки, к которой обычно крепилась бармица или науши, наносник, назатыльник.], и со щитом на руке. Широкая седая борода спускалась на кольчугу панцирного плетения, купленную ему хозяином два года назад, а с пояса свисал тяжелый ребристый шестопер.
– Касьян, возьми Трифона, Ермилу, Прохора, Родиона и Ефрема. Поезжайте вперед с разъездом, выберите место для ночлега. Да, и еще. Трифон тут рвался зайца загнать. Путь ловит по дороге. А не принесет к ужину, так по возвращении десять плетей ему отмерь.
– Илья Федотович! – взмолился холоп. – Куда я с рогатиной на зайца…
– Ох, кмете, не блазись, – воин спрятал улыбку в бороду и хлопнул отрока тяжелой ладонью по спине. – День долгий. Ступай за справой воинской, да сулицы прихвати. Авось, кого и наколешь.
Ехавшие налегке холопы разобрали оружие, быстро превратившись из обычных оружных путников в отряд грозной кованой конницы, обогнали обоз, стелясь над серыми кисточками ковылей.
Боярин прищурился им вслед. Еще два года, и настанет время старшего сына, Дмитрия, в новики записывать. И тогда вот так, в дальние дозоры, станет уходить уже не старый Касьян, а подросший молодой воин. Хватит ли у старика сил еще одного боярина Умильного в седло поднять, или пора верного слугу при доме, на хозяйстве оставить? Крепок еще, вроде. Но и лет ему немало.
Над ковылями сверкнуло зеркальным бликом, и вскоре возле боярина осадил скакуна все тот же Трифон:
– Стреляют, Илья Федотович! – запыхавшись, вымолвил он. – Кажись, пищали бьют. Касьян доглядывать остался, а меня с вестью прислал.
– Вот тебе и разбежались татары, – зло сплюнул боярин, вскинул левую руку. Обоз остановился, на несколько мгновений в воздухе повисла напряженная тишина. Стало слышно, как, басовито гудя, промчался в сторону реки жирный майский жук, затрещала крыльями крупная стрекоза. Потом совсем рядом всхрапнула лошадь, звякнуло, смещаясь, железо на повозке с оружием, чихнул один из освобожденных полоняников. И опять – несколько мгновений тишины.
Степь, с вкрадчивым шелестом перебирая колосками, пахла медом, перепрелой соломой и пряным забродившим пивом, дышала жаром, играла красками множества цветов.
Где-то за горизонтом хлопнул приглушенный расстоянием выстрел, и почти сразу – еще один.
– Вот тебе и татары, прости господи, – широко перекрестился боярин Умильный и спрыгнул на землю.
– Может, то воевода Данила Чулков? – предположил Трифон. – Его князь с детьми боярскими и казаками отсылал куда-то…
– Его Юрий Иванович вперед, на Астрахань посылал, а не назад. Стало быть, иные людишки в здешних землях балуют.
– Так ведь из пищалей палят, Илья Федотович, – напомнил отрок. – Знамо, стрельцы это, московские. У ногайцев пищалей отродясь не случалось.
– У янычар османских они случаются, – хмуро вздохнул боярин. – Кто бы ни был, а на нашей земле против братьев наших кто-то меч поднял. Посему на заводных коней всем пересесть немедля. Рогатины разобрать, щиты в руки взять, колчаны раскрыть. Телеги вперед пускайте, до разъезда Касьяновского. Нагоним скоро.
Воины зашевелились, разнуздывая коней, отпуская подпруги, снимая седла, и перекидывая их на свежих скакунов, что с самого утра шли налегке позади повозок. Спустя четверть часа витязи снова поднялись в стремя. Теперь головы людей закрывали остроконечные шлемы, левые бока – круглые тополиные щиты, над всадниками холодно сверкали широкие наконечники рогатин. Разогревая лошадей, Илья Федотович поначалу повел свой отряд рысью, потом перешел на галоп. Вскоре они уже промчались мимо обоза, вскидывая высоко в воздух вывороченную копытами сырую землю, нагнали разъезд.
Боярин остановился рядом со старым воином, натянул поводья, заставляя замереть норовистую пегую кобылку.
– Все еще стреляют, Илья Федотович, – тихо сообщил Касьян. – Но редко. Видать, мало стрельцов осталось. А татары нападать пока страшатся, стрелами закидывают. Издалека добить желают.
– Думаешь, татары? Может, черемисы или вотяки опять взбунтовались?
– Нет, боярин, ногайцы. Мы дальше немного прошли, там трава низкая, до колена только тянется. Стало быть, стойбище неподалеку, улус малый. Давно стоят, с самой весны. Прибрежную степь ужо один раз протравили, и новая травка нарастает. Мыслю, больше двух сотен нукеров в этом роду не наберется. Табуны слишком маленькие, раз начисто степь не вытравливают. А у нас под рукой полсотни ратных людей. Коли при обозе никого оставлять не станем, справимся. Да и стрельцы помогут.
– Обоз без стражи оставить? – боярин вздохнул. – А вдруг разорят?
– А чего в нем брать, Илья Федотович? – пожал плечами старый воин. – Лошадей заводных с собой возьмем. Повозки пустые, полоняники старые. Их и вязать никто не станет, веревки пожалеют. А там души христианские гибнут.
– Стрельбы не слышно, – неожиданно отметил боярин Умильный. – Коли спасать их, Касьян, то сейчас. Бери всех, выступаем.
Однако, как не торопились воины на выручку своим сотоварищам, отряд пошел неширокой рысью – все прекрасно понимали, что перед возможной схваткой лошадей утомлять нельзя. На загнанном скакуне в бою долго не проживешь. Где-то через полверсты заросли высокого ковыля оборвались, сменившись невысокой сочно-зеленой порослью молодой травки, широкими листьями тюльпанов, низкими стебельками бессмертника, похожими на болотный мох. Лошади пошли ходче, быстро проскакивая пологие впадины и стремительно взметываясь на взгорки. Боярин Умильный, поначалу державший рогатину в руке, зацепил ратовище[14 - Ратовище – древко оружия.] за петлю и опер его о стремя. Никаких признаков близкого врага – темных полос у горизонта, звуков продолжающегося боя, вытоптанной земли на глаза всадников не попадалось. А уж очень далеко стычка случиться не могла – выстрелы не были бы слышны.
– Касьян, разверни холопов, – приказал Илья Федотович, переводя скакуна на шаг.
Компактный отряд кованой конницы вытянулся в широкую цепь отстоящих друг от друга на полсотни шагов всадников. Лошади двигались не торопясь, отдыхая и даже успевая пощипывать траву. Таким образом им удавалось прочесывать полосу почти в версту шириной. Люди внимательно вглядывались по сторонам, но ничего странного не замечали.
– Еще пару верст пройдем, и поворачиваем, – решил боярин. – Похоже, опоздали мы с подмогой.
– Нехорошо, Илья Федотович, коли стрельцы безвестно сгинут, – покачал головой старый воин. – Хоть тела надобно найти, земле по христианскому обычаю предать, весть печальную до родичей донести.
– Степь велика. Что иголку в ней искать, что людей, все едино. Бог все видит, он невинные души и примет.
– Илья Федотович, нашел! – самым глазастым оказался узкоглазый черноволосый Родион, явно доставшийся матери от какого-то заезжего татарина. Боярин дал коню шпоры, подскакал ближе, спрыгнул на траву. Здесь валялось трехперое[15 - Трехперое древко татарской стрелы – русские стрелы делались с двойным оперением. Татарские и османские – с тройным или четверным.] древко татарской стрелы, надломленное пополам. Причем слом был белым, совсем свежим. А сбоку имелась грязная полоска. Похоже, кто-то наступил на воткнувшуюся в землю стрелу и сломал ее. Татарин выдернул наконечник, а порченное древко бросил. Боярин прошел по траве в одну сторону, другую, заметил темное, поблескивающее влагой пятно, наклонился…
– Кровь! – Илья Федотович выпрямился, оглянулся на место, где нашлась сломанное древко. Вглубь степи стрелец идти не мог. Стало быть, двигался к Волге. И прямая линия, проходящая от стрелы до пятна, точно указывала его путь. Боярин молча поднялся в седло пустил скакуна широким шагом. И вскоре увидел то, что искал: распластанное среди травы, в луже крови, обнаженное тело, покрытое множеством порезов.
По своему извечному обычаю, степняки не оставили на покойнике ничего – ни украшений, ни нательного креста, ни даже исподней одежды. Татарам годилось все – сами не оденут, так невольникам отдадут. Стрелец уже не шевелился и, вроде как, не дышал.
– Последний, видать, из московитов, – пробормотал Касьян, спрыгнул к бедолаге, перекрестился, потом наклонился к телу, вглядываясь повнимательнее: – Никак, жив еще? Гляди, кровь струится у виска. Здоров бугай. Как такого бабе-то выносить удалось?
И действительно, росту в стрельце имелось никак не меньше косой сажени[16 - Косая сажень – расстояние от кончика ноги до самого длинного пальца поднятой руки. При этом и нога отставляется в сторону, и рука сдвигается так, чтобы расстояние побольше получилось.] – боярин Умильный подобных богатырей вообще ни разу в жизни не встречал. Разве в былинах слыхивал, как ездили средь далеких предков подобные богатыри, защищая слабых и карая посягавшую на четных людей нечисть. До Святогора стрельцу было, конечно, далеко, но на Илью Муромца или Никиту Кожемяку тянул вполне. Илья Федотович перекрестился, дивясь странному явлению, а Касьян тем временем вернулся к лошади, развязал узел чересседельной сумки.
– Думал, ужо и не понадобится, а вот гляди ж ты. Ладно, сейчас мы ему разрезы-то порошком ноготковым присыплем[17 - Имеется в виду, разумеется, не порошок из человеческих ногтей, а из сушеных цветков ноготка (календулы), обладающий кровоостанавливающим и бактерицидным эффектом.], дабы кровушка более не текла, да антонов огонь не разгорелся. А теперь мхом болотным зажмем, да и тряпицей чистой подвяжем…
Лекарь что-то негромко забормотал, и боярин тут же насторожился:
– Ты, Касьян, свои заговоры языческие брось! Молодцу, гляди, вот-вот пред Господом предстать придется, а на нем колдовство твое грехом несмываемым висеть станет.
– Не придется, батюшка Илья Федотыч, – поднялся воин. – С него крови, как с быка натекло, а он дышит еще. Теперича и подавно на поправку пойдет.
– Странный он какой-то, боярин, – встрял в разговор неугомонный Трифон. – Бритый, волосы короткие, как после траура[18 - В допетровской Руси мужчины волосы постоянно сбривали, отпуская их только в знак траура. С Бородой наоборот – считалось, что безбородый муж не сможет войти в царствие небесное.]. Может, и не русский вовсе?
– Молод еще, хоть и амбалист[19 - Амбал – портовый грузчик.], – покачал головой Касьян. – Брить пока нечего… Но не татарин, точно.
– Может, опричник? – предположил холоп. – Немец? Их у государя много служит.
– Откуда здесь кромешники? – покачал головой боярин. – Да и стрелять с пищалей немцы отродясь не умели. Сказывали, в Лифляндии нанимали для войны с литовцами кого-то из далекой неметчины с тамошними пищалями. Но и те по двое ходят и гуляй-городом биться не способны. Как он, Касьян, живой еще?
– Дышит, Илья Федотыч.
– Ну, коли так, придется с собой забирать. В разум придет, сам расскажет. Раз с ногайцами воевал – стало быть, свой, хоть поляк, хоть кромешник, хоть и немец. Слезай Трифон, с коня, скидывай седло.
– А почему сразу я, батюшка Илья Федотыч?
– А потому, как умный больно. Языком молоть горазд, теперь ногами поработай.
Недовольно бурча себе под нос, холоп расседлал коня, отдал справу Родиону, взял скакуна под уздцы. Воины подняли раненого на лошадиную спину, уложив прямо на потник, так, что затылок оказался на крупе, а ноги свисали по сторонам от шеи. Перекинули ремень под коленями и через холку; двумя другими, пропущенными под брюхом, привязали раненого, чтобы не упал. Двинулись в сторону обоза. Про татар более никто не поминал – может, их и набиралось в улусе не более двух сотен, но проливать кровь в жестокой сече смысла не имело. Стрельцов спасать поздно. Следовал подумать о своем обозе и освобожденных из неволи полонянах. Путь к родным очагам предстоял еще ох какой неблизкий.
Глава 5
Свияжск
Прежде чем уложить раненого на телегу, боярин Умильный приказал освобожденным невольникам нарвать травы. Поверх жалобно похрустывающего толстого и мягкого слоя пахнущего пряностью ковыля кинули чепрак[20 - Чепрак – суконная или ковровая подстилка под седло.], на который и уложили стрельца, прикрыв его бухарским ковром, обычно расстилаемом для боярина. Положили в рот немного меда, дали несколько глотков воды, да так и оставили, положившись на волю Господа. Почти три дня подобранный в степи бедолага никак не обращал на себя внимания – лежал, аки остывший мертвец, не издавая ни возгласа, ни стона. Касьян во время дневок и перед ночлегом понемногу отпаивал его водой, мясным отваром, пытался давать мед. Еду раненый не выплевывал, но и голода никак не проявлял. Однако старого воина интересовали больше не слова, а повязки на добром десятке поверхностных, но кровяных ран. Из-под тряпок по вечерам ничего не сочилось – ни сукровицы, ни гноя, и лекарь, удовлетворенно кивнув, возвращался к своему ложу. На четвертый день, вскоре после полудня, с трясущейся повозки послышался стон, и обоз, уже ступивший на земли бывшего Казанского ханства, немедленно остановился. Воины столпились возле ратника, впервые открывшего свои карие глаза.
– Ну-ка, – раздвинув холопов, протиснулся вперед Илья Федотович, – дайте на болезного взглянуть, словом добрым перемолвиться. Хоть узнаю, что за доброго человека выхаживаем. Слышишь меня, служивый[21 - Служивый – если верить судебникам 16 века, на Руси тогда существовало два сословия: «служивые» – те, кому государство платило (чиновники, военные) и «тягловое» – те, кто платил налоги (крестьяне, ремесленники, купцы). Впрочем, в большинстве случаев, человек легко мог перейти из одного в другое.]? Зовут тебя как?
***
Нынешнее пробуждение далось Андрею куда проще, нежели в прошлый раз. Никакой боли он не чувствовал – тело словно качалось в теплой ванне, расслабляющей и ласковой, а потому ни руки, ни ноги двигаться не желали, язык не шевелился и даже веки разомкнулись с огромным трудом. Но когда глаза его все-таки раскрылись, Андрюша Матях сразу пожалел, что остался жив: над ним склонился загорелый, бородатый, зеленоглазый, наголо бритый мужик в шитой серебряной нитью тюбетейке[22 - Тюбетейка – на самом деле этот головной убор назывался тафья, которую носили все уважающие себя бояре поверх бритой макушки. Тафья всегда считалась не только гордостью, но и настолько неотъемлемой частью человека, что ее не снимали даже в церкви.].
«Плен… – понял Матях. – Все это будущее, забросы в прошлое и прочая лабуда была всего лишь бредом, глюками после ранения. На самом деле абреки взяли меня в плен и сейчас начнут развлекаться».
– Зовут, зовут тебя как? – пробился до разума настойчивый бас, и Андрей попытался упрямо мотнуть головой:
– Ничего не скажу!
На деле с губ сорвался только тихий шепот: «Не… Скажу…»
– Не скажет? Чего не скажет? – но понял боярин. – Имя свое молви, имя. Кто ты? Православный, чи нет? Немец? Русский?
«Немец? – не смотря на всю тяжесть положения, Матях мысленно усмехнулся. – Откуда здесь немцы? Или чехи кого-то для выкупа украсть хотели, а я как-то по пути попался?»
– Русский, – выдохнул Андрей, ни при каких обстоятельствах не желая отказываться от высокого и почетного звания. – Русский я, слышите, русский!
– Русский! – наконец различил хоть что-то внятное Илья Федотович, и воины так же облегченно загалдели. – Русский он, понятно?! А вы – немец, немец. Откель будешь, служивый? Смоленский, вятский, рязанский, московит? Али из Новагорода приплыл?
Половина вопросов уплыла мимо сознания сержанта, но главное он понять смог: тому, что он русский, абреки почему-то обрадовались. Может, его вывезли в дружественный аул? Или он в Моздоке, в палате с кем-то из «наших» чехов? За бандитов ведь далеко не все дерутся…
– Где я? – прошептал он.
– Не бойся, – кивнул Илья Федотович. – Свои мы, православные…
И он размашисто перекрестился.
– Моздок? – предположил Матях, впервые увидевший перекрестившегося чеченца. – Санчасть ОМОНа? Или в аэропорт везете? Я тяжелый? Ничего не чувствую. Я на обезболивании?
Боярин Умильный, в свою очередь ничего не понявший из множества сорвавшихся с уст стрельца слов, растерянно закрутил головой:
– Чего это он, Касьян?
– Да опять в беспамятство впал, батюшка Илья Федотыч. Слаб больно. Почитай, вся кровушка из него вытекла. Не едина неделя пройдет, пока новую накопит.
– Ништо, – отмахнулся боярин. – Главное, не басурманина вороватого подобрали, православного. Как в разум окончательно придет, так и узнаем, кто таков. Пока подстилку травяную поменяйте в телеге, а и с Богом, дальше двинемся.
Еще на три дня ополченцы оставили Андрея в покое, лишь иногда по-дружески улыбаясь, ловя на себе взгляд карих глаз, да Касьян продолжал выкармливать, как малютку несмышленыша, по чуть-чуть наливая в рот теплого бульона и скармливая большими ложками приторно-сладкий цветочный мед. Матях приходи в себя все чаще и чаще, проваливаясь в забытье на считанные часы. Сил шевелиться у него не имелось, но трясущаяся телега постоянно перекидывала голову с боку на бок, и сержант смотрел во все глаза, никак не веря тому, что представало перед ним.
А видел Андрей лихих всадников, одетых в сверкающие, любовно начищенные кольчуги, с саблями у пояса и тугими колчанами на крупах коней. Воины выглядели не так, как он привык воспринимать их по историческим фильмам: суровыми, опытными мужами в шлемах, с топорами за поясом, щитом и копьем в руках. На самом деле шлемы у всех болтались на луках седла, круглые щиты свисали на боках коней с левой стороны, копья с длинными широкими наконечниками вообще ехали на телегах, а суровых, в смысле бородатых, воинов набиралось меньше половины. Большинство составляли веселые безусые юнцы, о чем-то со смехом болтающие между собой, а порой внезапно срывающиеся с места и уносящиеся в степь за появившейся вдалеке дичи. Да и те защитники земли русской, что успели войти в возраст, так же мало укладывались в «правильный» образ. Низкорослые, наголо бритые, бородатые, в цветастых тюбетейках они больше походили на красную тряпку для милиционеров конца двадцатого века – в будущем Питере или Москве у них проверяли бы документы каждые двадцать метров, но в любом случае отвозили бы в отделение для «уточнения».
Впрочем, теперь для Матяха странной и далекой фантастикой казались застава в горах, питерские улицы, проложенные между многоэтажных бетонных домов, школа и курсы программистов. Капитан как в воду глядел – не заниматься ему больше драйверами и Ассемблерами! Суровой реальностью вырастал шестнадцатый век, в который упекли его тощие длиннорослые умники из далекого будущего. А про шестнадцатый век программист по образованию, сержант российской армии Андрей Матях не знал ничего, кроме одного: это было очень давно. И как должны жить здесь люди, о чем разговаривать, чем заниматься, он совершенно не представлял.
Положение тяжелораненого оставляло много времени для размышления, и Андрей во всех деталях мог прикинуть свою дальнейшую судьбу. Прикладные математики в этом мире вряд ли представляют высокую ценность. Разумеется, его познания и умение производить сложные вычисления на два-три порядка превышали уровень самого великого из современных архитекторов или ученых. Но вот только не изучал Матях законов строительства. А столь популярное в двадцатом веке получение определителей сложных матриц и формулы неопределенной баллистики здесь не имели никакого прикладного значения.
Еще, как бывший сержант, Андрей «на отлично» стрелял из пулемета, автомата и снайперской винтовки, умел организовывать оборону подразделения, вести наступательный бой, проводить спецоперации против опытного и хорошо организованного противника. Но какой смысл в умении класть из СВД три пули из пяти в «десятку» на расстоянии восьмисот метров, если вокруг одни «гладкостволы»? Какой смысл в умении правильно окапываться, когда все бойцы передвигаются и сражаются только на лошадях?
«Знал бы, чем все кончится, на курсы верховой езды записался бы, а не математику зубрил, – мысленно вздохнул Матях. – Остается или вешаться, или учиться жизни опять с самого нуля».
Вешаться в свои немногим больше двадцати трех лет он не собирался. Оставалось учиться и приспосабливаться, благо все вокруг пока принимают его за своего. Вот только как бы не засветиться? Не ляпнуть лишнего, не выдать своего «темного» происхождения, незнания здешних реалий?..
– Как чуешь себя, служивый? – поравнялся с телегой зеленоглазый бритый бородач. – Живой?
– Лежать надоело, Илья Федотович, – еще негромко, но вполне внятно ответил Матях, – да ноги не слушаются. И траву поменять хотелось бы, коли до кустиков сбегать не могу.
– Никак, знакомы мы, служивый? – удивился боярин. – Откель имя мое знаешь?
– Так не глухой ведь, Илья Федотович, – усмехнулся раненый. – Слышу, как обращаются.
– А-а, то разумно, – кивнул воин. – Самого-то как кличут?
– Андреем.
– В честь апостола, значит, Первозванного. Гордое имя. А из чьего рода будешь?
– Не скажу, – Андрей бессильно уронил голову и пару раз тихонько постонал. – Не помню.
– Как не помнишь? – изумился боярин. – Имя отчее назвать не способен?
– Ничего не помню, – повторил Матях. – Ни дома, ни родичей. Как попал сюда не помню. Знаю только, Андреем зовут. Как на телеге очнулся, помню, и все. Откуда в степь попал, как, зачем – ничего вспомнить не могу. Как имя в голове уцелело, и то непонятно.
– Касьян! – зычно гаркнул боярин, приподнявшись на стременах. – Подь сюда! Слышишь, чего служивый молвит: запамятовал себя совсем. Окромя имени, ничего молвить не способен.
– То бывает, Илья Федотыч, – услышал Андрей знакомый голос своего лекаря откуда-то спереди. – Коли сильно по голове вдарят, палицей там, али кистенем, память зачастую отшибает начисто. Жонок родных иные бояре не узнают, детей кровных. Опосля привыкают снова, али вспоминают спустя время.
– Роду своего не помнить? Срамно это, Касьян.
– А молодцу красному под себя в траву ходить не срамно, боярин? Сеча, она жалости не ведает. Живот уцелел, то и ладно.
– Так ты и звания своего не ведаешь, служивый? – снова повернулся к раненому воин. – Княжыч знатный, али невольник беглый?
– Не знаю, – попытался пожать плечами Матях, но не получилось.
– Чудно… – усмехнулся в бороду боярин и отъехал в сторону.
***
Отряд из пятнадцати опытных нукеров, успевших не раз пройти через кровавые сечи, миновал очередную низинку, влажную из-за близкой к земле воды, поднялся на лысый из-за вытоптанной травы взгорок и остановился, грозно нависая над богатым кочевьем из семи юрт, окружающих широкий колодец и трех кибиток, стоящих поодаль.
Полтора десятка бойцов, большинство из которых были одеты в матовые, тускло отсвечивающие на солнце кольчуги. Зато все имели островерхие шлемы, отороченные по обычаю дорогим песцовым или собольим мехом, все придерживали стоящие на стремени острием вверх длинные тонкие копья с кисточками под самыми остриями, у всех на крупах коней болтались круглые щиты и саадаки с луками и сулицами. Такой плотный, умелый, закованный в сталь кулак мог разорить стойбище без особого труда: вихрем налететь на мирно разделывающих мясо татар, порубить всех, кто еще не успел схватиться за оружие, наколоть на копья тех, у кого под рукой оказалась сабля, кистень или нож, вырезать стариков и детей, надругаться над девками и удрать, пока воины рода, ушедшие в степь, сторожащие тысячные табуны, бесчисленные отары, огромные стада не успели прознать про упавшую на родной дом беду и кинуться в погоню. Разумеется, никакой добычи при этом нападающие взять бы не смогли: уж очень тяжелая и неповоротливая это штука – добыча. Но разорить – легко.