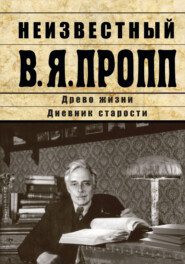скачать книгу бесплатно
– Нет-нет, этих мне не надо. Это поганки. Их очень любит Frau Янковская. Поди, снеси ей, она очень любит поганки.
Федя несколько удивлен, что она любит поганки. Раньше он слышал, что поганки ядовиты и что их нужно выбрасывать в ведро. Но, впрочем, если у нее астма, то, конечно, она может любить и поганки.
– Вот, нате, мама сказала, что вы их любите.
Frau Янковская пронзительно визжит: это она так смеется.
Так началась жизнь. Она началась с гриба, который одновременно был зонтиком, и продолжалась тысячью фантомов. Фантомы, нанизанные на нить дней и часов, приходили и уходили. Вот у моста купают лошадей: они выходят из воды черные и блестящие; эти лошади – не лошади, это – необыкновенные звери из лакированного железа, которые могут его, Федю, съесть.
Вот канава. Растет трава зелеными пучками. Если вырвать такой пучок и выполоскать корни в воде, то это уже не корни. Это – волосы. Шелковистые, белые волосы неземных существ.
Глаза пробуют посмотреть на солнце. Но солнце слепит. А если закрыть глаза, ослепленные солнцем, то перед взором прыгают тысячи круглых облаток: лиловых, зеленых, красных, желтых. Они пляшут, сходятся и расходятся. Если открыть глаза – то они пляшут уже на стене. Эти облатки потом продаются и служат для наклеивания картинок.
Он видит то, чего никто не видит, а то, что видят все, для него незримо.
Незримы мама и папа. Мама – это юбка, за которую можно держаться. Мама – это шершавая рука, которая водит по его лицу. Больше никакой мамы нет. Он не знает, что у нее – маленькие добрые глаза, серое платье, белый передник, которым накрыт толстый живот.
Папа – существо совсем необыкновенное. Он ест арбузы с солью, и если нет соли, то он не может есть арбузов. Вот кто такой папа. Но когда нет арбузов – нет и папы. Если папа не приезжает три-четыре дня, или даже неделю, Федя этого не замечает. Но он замечает капельки росы на траве, он замечает хвосты и уши у поросят, веревочку, он подбирает шишки в лесу, веревочки, соломинки, камушки. Все это – вестники каких-то тайн. И сам он – вовсе не Федя. Смотря по обстоятельствам он может быть паровозом, собакой и даже целой тройкой лошадей.
Кроме папы и мамы есть у него сестра Нелли[58 - Прототипом Нелли могла стать старшая сестра Проппа – Элла Яковлевна Пропп.] и брат Боба[59 - Прототипом Бобы скорее всего являлся старший брат Проппа – Роберт Яковлевич Пропп.]. Нелли – тоже не Нелли… Нелли уже шесть лет. Она катает по дорожкам колясочку с куклой. Она любит катать ее тихо, чинно. Нелли – сестра. У нее две косички с бантиками, и волосы смазаны репейным маслом.
Весь мир для него двоится. Он не умеет сказать, что есть два мира, что каждая вещь может обернуться. Он сам – оборотень, и Нелли – оборотень. Вдруг он замечает, что у Нелли сапоги на пуговках, а у него – на шнурках. Нелли – это пуговка, но и пуговка может быть Нелли.
Вот брусника. Рука тянется сорвать красную ягодку. Но с земли вылетает птичка. Федя тянется за птичкой.
Он непостоянен и перебегает от одной вещи к другой, вернее – вещи пробегают мимо него, приходят вдруг из ничто и уходят в ничто.
Это ничто есть здешнее. Мама – ничто, всегда – там, ее еле слышно, и никогда не видно. Там же папа, кроме его пальцев, которые похожи на маленькие колбаски, и кроме тех дней, когда он ест арбузы с солью. И там же – брат Боба, которому уже целых восемь лет, у которого свой стол и свои книжки. Боба начинает существовать только тогда, когда братья дерутся. У Бобы есть красные и синие карандаши, и Федя их уносит. Он не понимает, что карандаш есть принадлежность Бобы: увиденный карандаш уже есть сам Федя, и спрашивать «можно?» – Федя не умеет. Если есть карандаш – его надо взять. Поэтому Федя нетерпелив, неуступчив и зол, когда встречает препятствия. Когда он встречает препятствие, он кричит. Этот крик – не простой крик. Из чаши жизни Федя пьет вино – всегда пьянящее. Препятствий нет, не может быть, и маленькие кулачонки, зубы хотят разорвать Бобу. Потому что от препятствий Федя перестает быть: он нашел на полу стеклянную бусу и стучит по ней молотком – он весь в молотке; как не может быть препятствий, так не может быть меры. Весь мир – в молотке, и этот мир – он сам, он растворен в молотке без остатка. И вдруг отнимают молоток – и вдруг рушится весь мир. Он рушится вовсе не по-игрушечному. Он рушится по-настоящему, навсегда, безоговорочно и безмерно. Случилось страшное, непоправимое несчастье: только неистовый вопль может быть ответом на эту катастрофу.
Боба – мальчик разумный. Он говорит: «Ты сделаешь себе бо-бо. Дай сюда молоток!»
Но если бы Федя был большой, он бы ответил: «А ты слыхал про землетрясения? Так вот, со мной пятьдесят раз в день бывают землетрясения».
Кто сказал, что детство – самая счастливая пора жизни? Это – самая ужасная, самая несчастная пора жизни человека, потому что эта пора состоит из тысячи смертей.
К счастью, время, столь жестокое к большим, бывает милосердно к детям. На том же полу, где лежал молоток, оно открывает Феде щелку и дает ему в руку коробку спичек. Спички втыкаются в щелку и образуют забор. Нет, не забор. Они образуют волшебный сад, они образуют замок, они образуют мир. Глаза, полные слез, смеются, и щеки, на которых висят соленые капли, выражают блаженство.
Если посмотреть в Федины глаза – а глаза у него большие, коричневые, – то в этих глазах можно утонуть. В них – удивление, бесконечное удивление перед тем, что им является. И второе – в них вера, доверие, в них нет обмана. Обман явится попозже. Обман – заразителен. Зараза идет от больших, они первые начинают.
Есть в мире один предмет, который играет в жизни Феди огромную роль. Этот предмет – паровоз. Дача – у самой станции, и паровозы Федя видит ежедневно. Они, с дымом и свистками, воплощают самое большое счастье, какое только может быть. Но они же – ужасны, таинственны, если подойти к ним поближе. Их свист оглушает. Когда за обоями скребется мышь, то это уже шум, такой громкий, что ничего другого не слышно. Но когда свистит паровоз – то это уже не звук, не шум, это нож, разрезающий Федю пополам. От свистка можно взорваться и умереть. И потому, когда Федя бывает на станции, он при виде паровоза уже издали затыкает уши. Все смеются над маленьким трусом. Но разве они могут понять?
И вот он опять на досках платформы, где пахнет дегтем и маслом. Солнце печет. Он держится за мамину юбку.
– Вот поезд. Видишь? Он еще далеко. Но ты не затыкай ушей. Он сегодня не будет свистеть.
– Не будет?
Федя не умеет не верить. Но где-то копошится недоверие, Федины глаза уже не так ясны, как всегда.
Он со страхом смотрит на чудовище, которое все приближается и приближается. Это – скорый поезд, который не остановится. Вот он совсем близко. Вот загудели рельсы. Вот затряслась платформа. Вот уже слышен ужасный грохот. Пронзительный свист разрезает воздух. Федя, как сноп, падает на платформу. Глаза его закрыты, и лицо бледно, как снег.
Сбегаются люди. Мама испуганно трясет его за плечо.
– Это ничего. Просто очень чувствительный мальчик.
Федя открывает глаза и видит себя в объятиях мамы, а кругом стоят все чужие. Некоторые смеются, а один старый, в очках, недовольно качает головой.
– Ничего не случилось. Какой странный ребенок!
Чужие уходят, оглядываясь на странного ребенка.
– Что это случилось с тобой?
– А зачем ты сказала, что он не будет свистеть?
Свисток как разорвал Федю. Он встал, как будто целый, он уже не целый. Части не сходятся так, как прежде. В глазах появляется недоверие.
* * *
Бывает зима, бывает лето. Но Федя этого не знает. Бывает город и дача. Это уже более понятно. Город – это прежде всего коридор, широкий коридор, по которому можно бегать и по которому бегают все – он, Нелли, Боба, даже няня.
Город – это окна. На стеклах растут хрустальные папоротники, лилии.
Поэтому Федя скажет, что он был в лесу, а Боба ответит:
– А ты не ври.
Но он не врет. Он на дворе ловит снежные звездочки. Двор большой, и в нем растут деревья: каштаны, яблони, тополя. Каждое дерево обнесено зеленым забориком с белыми верхушками. Однажды вечером из-под пальто Бобы посыпались солдаты: он спилил верхушки с заборчиков; на каждой верхушке была острая белая шапочка.
Он и Нелли гуляют с няней. Они гуляют в церковном садике у самой Невы.
Но однажды прогулка началась странно. Как только захлопнулась дверь, няня вынула из кармана две хлопушки с конфетой. На каждой конфете была наклеена картинка.
– Вот вам. Сегодня мы не пойдем в садик. Мы поедем через Неву, только молчите, маме ничего не говорите. Если мама спросит: «Где вы были?» – то вы говорите: «Мы были в церковном саду».
Хлопушки не хлопали, а конфеты были невкусные, мучные.
Но через Неву поехали на санках. Кто-то большой и толстый пыхтел за санками. Санки скользили по синей ледяной дорожке, обсаженной елками. Навстречу неслись такие же санки. В них сидели дамы в шляпах, дети и мужчины с тросточками. Впереди тоже бежали санки, и кривоногий человек с зеленым шарфом коньками стучал о лед: от этого санки и двигались.
Эта дорога вела в другой мир. Этот другой мир назывался очень странным словом, он назывался: Охта.
Да, разве в этом мире бывают такие деревянные скрипучие лестницы? Такие двери, обитые лохмотьями? Такая вонь? Такие низкие и темные комнаты?
В комнатах сидят очень странные и страшные люди с большими усами, а один – с бородой и красным шарфом. Такие бывают извозчики или дворники. Только дома они – не страшные. А здесь они – страшные. Это и называется Охтой. Они сидят за столом и что-то очень страшно делают ножами. На стене висят бумажные веера. Лица сверкают сквозь дым. На столе – рюмки и бутылки. В рюмки наливают чистую, белую воду, отрезают хлеб такими толстыми кусками, что надо ужасно широко раскрывать рты, чтобы засунуть хлеб за зубы. Да, они все ужасно широко раскрывают рты и суют туда хлеб, огурцы и селедку. Они смеются сквозь дым и пар, и Феде кажется, что это – разбойники. Когда они пьют воду, они опрокидывают голову назад, рюмкой хлопают о стол и ужасно кряхтят.
– Няня, что они делают?
Но няня уже совсем не няня. Она тоже ужасно широко раскрывает рот, дергает плечами, вытирает рот рукавом, и она вся красная. И разбойники тоже все красные. Дома она никогда так не дергает плечами и не бывает такая красная.
Делается что-то странное. Феде кажется, что все начинают прыгать головами, а няня страшно визжит и хохочет.
Обратно уже не ехали на санках. Шли по мосткам; было темно, и далеко, очень далеко сверкали городские огни. Дома мама спрашивает:
– Где вы были?
Няня едва заметно мигает.
– Мы были в церковном саду.
– И что же вы там видели?
– Мы видели красных разбойников.
– Что?
– Мы видели Охту.
Постепенно обнаруживается все. Дети еще не умеют лгать, даже за конфетку. Они даже не понимают, отчего няня плачет. Ведь они сказали, что были в церковном саду, как она учила их говорить.
Так подрастал Федя…
* * *
Когда ему исполнилось 5 лет, мама решила, что его надо учить грамоте.
Мама сама была не очень грамотна, но Федю решила учить сама. Ему дали тетрадь и букварь, на обложке которого был нарисован петух.
Теперь надо было в тетради выводить палочки. На каждой строчке была напечатана палочка, и эту палочку надо было изображать. Были палочки прямые, косые, тонкие, толстые, круглые. Потом начались буквы.
Но до букв еще не дошло, когда произошло небольшое событие, которое, однако, составило в жизни Феди эпоху.
Писание палочек началось летом, на даче.
Можно ли выводить палочки, когда растет трава?
Утром тетрадь и книга как-то сами собой исчезли: они скользнули под скатерть в передней. Там лежали фуражки и шляпы, столик был накрыт небольшой скатертью, вышитой мамой. Вот под эту скатерть с голубыми звездочками как-то сама собой скользнула тетрадь, а за ней заодно и книга.
Федя, неестественно насвистывая (никогда раньше он не свистел), очень медленно, ступенька за ступенькой, спустился в сад и прошел в самый дальний угол, где у забора росли георгины. Георгины были красные и желтые. Они приходились как раз в уровень его лицу.
Вдруг на верхнем балконе раскрылось окно.
Мама, красная от кухонного жару, повязанная платком и с поднятыми по локоть рукавами, высунула голову в окно.
– Федя, komm lernen.
– Ich kann nicht.
– Warum?
– Das Heft verloren[60 - – Федя, пойдем учиться.– Я не могу.– Почему?– Тетрадь потерял (нем.).].
Голова исчезла. Мама была не очень строга, когда на кухне ждало тесто. Она позовет его еще раз минут через десять. Сейчас ей некогда.
Федя продолжает рассматривать георгину, большой, пышный цветок. Солнце печет, ветра нет, кругом такая тишина, что он слышит стук своего сердца. Солнце падает прямо на его короткие волосы. И вдруг с георгиной происходит странное превращение: она смотрит на него. Она знает, что он сказал ложь, что он солгал первый раз в жизни. Но она не только не укоряет его, она делается еще в тысячу раз красивее. Она становится невиданным, райским цветком, тяжелым от красоты. И еще: эта красота – потому что он солгал, она цветет его лжи.
Сколько времени длится наваждение, он не знает. Он тяжело вздыхает и подымает глаза. Он видит, что георгин много, и все они смотрят на него. Он подымает голову. Тонкая ветка березы свисает, и, как сквозь кружево, он видит сквозь силуэты листьев небо. Ни один лист не шевелится. В первый раз губы шепчут:
– Как красиво!
У Феди будто открылись глаза. Кажется, что он ходит в заколдованном саду. Еще минуту назад сад был очень обыкновенный, а теперь он совсем другой. Медленно, медленно он идет по дорожке к калитке, открывает ее и останавливается у забора. Он прикладывает голову к забору, один глаз он закрывает рукой, а другим смотрит вдоль ровных колышков ограды. Что это? Забор, который был совсем небольшим, вдруг делается длинным-предлинным. В глазах начинает рябить. Странная вещь: забор не кончается. Он чем дальше, тем делается все меньше и меньше, но конца нет. А что, если он взаправду никогда не кончится? Что, если Федя вечно, вечно так будет стоять и не сможет уйти? И вдруг сквозь все существо его проходит что-то вроде воспоминания. Все это когда-то уже было. Со страшной ясностью он вспоминает: да, и георгина, и книга с петухом, и балкон, на котором вдруг открывается окно, – все это ясно-преясно уже один раз было. Но когда?
Секунду – только секунду – длится страшная мука. Нет, не вспомнить.
Федя отходит.
В этот день он учиться не будет. Пусть его бьют, колют, режут, пусть делают с ним, что хотят, сегодня он учиться не будет.
II
Федя растет. Теперь ему уже лет восемь. Мама находит, что он мальчик хороший. Он спокойный, послушный, вообще – пай-мальчик. Только он глядит как-то странно и любит задавать странные во- вопросы:
– А что думает петух?
– Почему у лошадей нет рук?
Он боится темноты, боится грозы. Грозы он перестал бояться только тогда, когда ему сказали, что гром бывает оттого, что господин Янковский (который умер давно) на небе катает белье.
Но хотя он хороший мальчик, он не воспитан. Мама понимает, что она не умеет воспитывать. Поэтому Федя бывает иногда нетерпелив, он непоседа и как-то странно иногда врет.
Надо взять воспитательницу. Пусть она будет учить детей по-немецки и по-французски и играть на рояле, пусть она научит их хорошим манерам. Она будет учить Федю и Нелли и будет и Бобе помогать учить уроки.
Дети стали ожидать великого события.
* * *
Великое событие совершилось в теплый весенний день, когда со двора струился нежный запах расцветающей яблони.
Дети ждали звонка. И вот звонок раздался. В дверях показалась фигура. Иначе ее никак нельзя было назвать. Это было что-то очень длинное, высокое, с огромной соломенной шляпой, на которой колыхались две красные розы. В руках был чемодан, а сзади показалась бородатая рожа извозчика, который нес что-то огромное вроде сундука.
– Здравствуйте, детки. Надеюсь, мы не будем с вами ссориться.
Фигура подошла к зеркалу и стала вынимать из самой головы – как показалось Феде – длинные-предлинные булавки, одну за другой, и осторожно втыкать их в висящий под зеркалом прибор.
Потом осторожно была снята шляпа и положена на стол. Показалась голова, совершенно невероятная по своей огненности. Дети переглянулись и поняли друг друга.
Рыжая!
Потом была снята мантия, и из-под мантии показалось лимонно-желтое платье с васильками. Был брошен еще долгий взгляд в зеркало. Дети смотрели туда же и опять переглянулись.