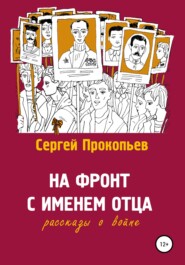скачать книгу бесплатно
Был в госпитале Витя Ястребов, земляк-сибиряк из-под Новосибирска. Шустрый паренёк, на месте не посидит, всё бегом-бегом. За что звали его Ястребком. Тоже по ранению в госпиталь попал. На три недели раньше Ивана. Ястребка можно было уже выписывать, да главврач придержал расторопного пехотинца, рук в госпитале не хватало – санитаров, помощников на кухне и в остальном хозяйстве. Ястребок говорил Ивану:
– Не ерепенься ты! Ну и отрежут ногу. Зато жив-живёхонек! Случись со мной, не раздумывая, согласился бы. У меня в самом первом бою контузия и ранение. Хорошо, в кармане портсигар стальной, в нём осколок застрял. Один в плечо, а этот прямиком в сердце шёл. Не хочу туда. Чувствую – убьют.
Иван твердил своё:
– Как я без ноги?
Да состояние всё хуже и хуже. Согласился на ампутацию.
– Вот и правильно, – похвалил Ястребок.
Он в тот день за санитара был, ну и поспособствовал земляку в первых рядах оказаться перед операционной. Госпиталь после наступления переполнен, хирурги работали на износ. Санитары только успевали подтаскивать раненых. Ивана должны были вот-вот положить на стол к хирургу, его очередь подошла, но вдруг медики забегали…
Ястребок потом рассказывал. Вышел он покурить, а тут подлетает «додж три четверти», из него полковник медицинской службы выпрыгивает.
– Где, – спрашивает, – генерал?
В отдельной палате в госпитале генерал-майор лежал. Его машина попала под артобстрел, ну и ранило. Командование оперировать генерала рядовым хирургам не доверило, прислали самолётом светило из Москвы. Мимо Ивана генерала на носилках пронесли в операционную. Иван как человек военный не стал возмущаться, что старший по званию вне живой очереди пошёл.
Минут сорок московский хирург потратил на генеральскую рану. Вышел из операционной довольный, всё прошло удачно. Не утомился.
В отличие от госпитальных медиков, он бессонными ночами не измучен, нескончаемым потоком раненых не утомлён, золотые руки только-только на генерале размялись, во вкус вошли. Автор повествования, понятное дело, слегка иронизирует, но к чести полковника не пошёл тот чай или спирт пить за здоровье генерала, сказал коллегам-медикам: до самолёта у него часа три-четыре, готов помочь, сделать несколько операций. Начал отбирать раненых. А Иван вот он – очереди ждёт. Полковник осмотрел рану, бросил:
– На стол.
Иван своё:
– Мне бы ногу сохранить.
– А кто тебе сказал: буду ампутацию проводить? Это и ваши хирурги сделают. Сохраним ногу.
Человек пять отобрал.
У хирурга свои инструменты, лекарства. Скорее всего, антибиотик был. Иван не спрашивал. Да он и не знал тогда про существование этого чудодейственного для полевой хирургии и редчайшего в те времена лекарства. У Ивана что получилось. Он в атаку пошёл в ватных штанах. Комфортно в таком обмундировании в окопе сидеть, а в бой, как показала практика, лучше лёгкие брюки надевать. Если расписать поэтапное движение пули, что нанесла рану Ивану, она поначалу штаны прошила, при этом увлекла за собой кусочек ваты, затем вонзилась с ним в ногу, сама пошла навылет, а посторонний предмет оставила в мякоти… Эта малость и стала причиной воспаления.
Госпитальным хирургам в такие тонкости некогда вдаваться – режь, пили да зашивай. Тогда как светило из Москвы пришёл к выводу: нога Ивану ещё послужит. Имевшиеся у него анестезирующие медпрепараты на генерала извёл, поэтому Ивана резал на живую. Тот был согласен любую боль терпеть ради спасения ноги. Полковник прочистил рану, укол Ивану вколол, возможно, антибиотик… Качественно операцию сделал. Вернул бойца в строй.
После полного выздоровления догнал Иван свою часть. Влился в боевой коллектив. Да вскоре с ним случилась досадная незадача. Проводили они разведку боем, и потерял он ложку. Выпала из-за голенища. А без ложки какой ты боец. Это, конечно, не личное оружие, которое по Уставу воин должен хранить как зеницу ока, да на войне не только бои, есть перерывы на завтрак, обед и ужин. Тут ложка, как автомат во время атаки. Неделю промучился Иван, то у одного арендует столь важный предмет солдатского быта, то у другого. Стыдно, а что делать? Вдруг вызывает его командир батальона. Рядом с ними стояла инженерно-сапёрная бригада, туда комбат отправил Ивана:
– Тебя зовёт какой-то полковник.
Вытянулся в струнку Иван перед полковником, доложил о прибытии «лейтенанта Ивана Левченко». А полковник в ответ улыбается:
– Здорово, племяш, не узнал?
Оказалось, не только полковник, но и дядя Федя, двоюродный брат отца. До революции он окончил Омский кадетский корпус, затем стал специалистом по фортификации. Попала ему в руки дивизионная газета, а там сибиряк Иван Левченко упомянут, получивший орден Красной Звезды. «Не племянник ли это?» – подумал полковник. Быстро выяснил, что так оно и есть.
Посадил Ивана за стол, угостил коньяком, доброй закуской, а потом спрашивает:
– Может, что-то надо, племянник?
– Ложку, – выпалил Иван, – потерял ложку.
Вернулся в расположение своей части с отличным приспособлением для приёма пищи. По сей день бережно хранит фронтовой подарок дяди.
Дядя Федя военный опыт начал приобретать ещё в Первую мировую войну. За коньяком поведал Ивану один занятный случай, приключившийся с ним на той германской. Рассказал к слову, а получилось в самую точку поучительно. Племяннику пригодился дядин опыт в критический момент. Победу Иван застал в Праге. Акт о безоговорочной капитуляции войск Германии на суше, на море и в воздухе был подписан 8 мая 1945-го. С немецкой стороны генерал-фельдмаршал Кейтель поставил подпись, да не все немцы согласились с ним и поспешили взять под козырёк, безропотно складывая оружие. Многие продолжались прятаться по чешским лесам. Не по причине, что жаждали воевать и дальше за фюрера, нет – мечтали выгодно сдаться. Пропаганда в последний год войны работала без устали, вбивая в немецкие мозги, что русские будут беспощадно мстить. Солдаты и офицеры вермахта прекрасно знали – есть за что мстить, хватает поводов. Зверствовали они, считая славян недочеловеками. Посему не торопились выходить с поднятыми руками к бойцам Красной Армии. Надеялись на американцев или англичан выйти с повинной головой.
Часть Ивана принимала участие в очистке лесов от хитромудрых фрицев. Однажды дали Ивану взвод и отправили на такую операцию. Немцам к тому времени самим надоело по чащам бродить, американцев с англичанами нет, и, похоже, не будет, жрать хочется, начали сдаваться. Взвод чуть углубился в лес, Иван, обращаясь по-немецки в сторону безлюдной с первого взгляда чащи, громко предложил сдаваться. Тут же с разных сторон появилось десятка два немцев с поднятыми руками. Будто сидели под кустами и ждали. Вывели красноармейцы первую партию пленных на дорогу, посадили, поставили охрану, за второй пошли.
Получилось как с тем грибником, которого жадность едва не сгубила: набрал столько даров леса, что без малого не надорвался, волоча ношу домой. Во взводе двадцать пять человек, а пленных наловили под триста. Иван, выйдя из леса, увидел эту прорву и не обрадовался… До части километров восемь по пустынной дороге, а если немцам в голову нехорошее взбредёт, взыграет ретивое: кучка русских ведёт как баранов на убой. Оружие, конечно, отобрали у пленных, да если навалятся разом – не совладать…
Тут-то Иван вспомнил рассказ дяди Феди, как на германской войне в пятнадцатом году они впятером взяли тридцать пленных. За что дядя был награждён Георгиевским крестом. Те пленные и не думали сдаваться. Взяли их дерзкой атакой. А чтобы не разбежались или, того хуже, не бросились на русских, прапорщик приказал ремни у пленных отобрать. Когда у тебя штаны на коленки сваливаются, какой ты воин? Руки всю дорогу прозаически заняты – портки подтягивают.
Аналогичную операцию с обмундированием Иван скомандовал провести со своими пленными: ремни отобрать, пуговицы срезать. Не сказать, что данное распоряжение русского офицера понравилось немцам, да под дулами автоматов куда денешься. Так и шли, держа штаны в руках. Не так быстро получалось, зато малочисленная охрана была спокойна. Ротный потом хохотал:
– Ну, Иван, ты голова – придумал, как немчуру спутать! Я сразу в толк не мог взять: такая орава движется, и все идут, как в штаны наложили.
После Чехословакии перебросили часть Ивана поначалу в Венгрию, а потом – в бандеровские края.
– Вова, – бывало, скажет Иван Яковлевич сыну после фронтовых ста граммов, – я в партию вступил в сорок третьем году, в Бога не верил, а за религию ой как пострадал!
Женился он на Гале. Как и положено, через девять месяцев родилось дитё – Ярына, а через год – Андрийко. Да такие славные дивчина и хлопчик получились у сибирского украинца и западной украинки. Иван, надо сказать, тоже парень ладный. Лицом приметный, даже шрамики, оставшиеся от первого ранения, не портили его, и плечи у офицера – косая сажень. Всё шло хорошо у молодой семьи, да вызывает Ивана замкомандира по политработе, майор Дуняк, и говорит:
– Капитан, как так получается, ты коммунист, а жена у тебя верующая, в церковь каждое воскресенье ходит.
Майор краски не сгущал, Галя была из верующей семьи, регулярно ходила в храм. Иван к этому снисходительно относился. У него бабушка верующая. Да и мама крестилась на иконы. А то, что Галя в церковь ходила, любви их нисколечко не мешало.
– Ты – советский офицер, коммунист, – напирал майор, – а живёшь в религиозном болоте. Да ещё и веры-то она не нашей!
Галя была униатка.
– Майор, – сказал ему Иван, еле сдерживая себя, не понравились ему эти нравоучительные интонации, – не знаю, когда ты в партию вступил, я – в сорок третьем! Не знаю, где ты воевал, – прекрасно знал Иван, что по тылам майор прокантовался всю войну, – я добровольцем пошёл в семнадцать лет и с февраля сорок второго на передке!
Прочитал отповедь комиссару. Разозлился не на шутку – его, боевого офицера, тыловая крыса пытается на повышенных тонах носом тыкать, учить жизни.
Майор тоже разозлился, поставил вопрос ребром: или жена прекратит в церковь ходить, или подавай на развод.
– У меня мама верующая, – бросил Иван, – что мне от неё прикажешь отказаться?
Однако дело повернулось так, что пришлось Ивану уходить из армии. Не больно он и расстроился. С лёгким сердцем подал рапорт: нет, так нет, жена дороже. В конце-то концов – хватит под ремнём ходить, без того девять лет в армии. В себе был уверен. Руки-ноги целы, голова на плечах имеется.
Всё оказалось серьёзнее. Жили они в Станиславе, начал Иван устраиваться на работу, куда ни обратится – не берут. Потом-то узнал, была негласная команда в отношении его – «политически неблагонадёжный». Майор постарался. Приятного мало, но и здесь Иван не стал отчаиваться: всё, что ни делается, – к лучшему.
– Значит, – сказал Гале, – поедем в Боголюбовку.
На что Галя категорически заявила:
– Ты шо, Иванку, сказывся, чи шо! Ни! У вас там холода и церквы нема!
Как ни уговаривал, как ни взывал к разуму, объясняя, что в их Боголюбовке полно украинцев, никто не замёрз, Галя стояла на своём.
Закручинился Иван. Как быть да поступить? Сидеть у бабской юбки побитой собакой? Ну, нет. Дошло дело до развода. Оформили расторжение брака, и поехал Иван в Боголюбовку. Уже затемно добрался до деревни. Стучит в окно, мать спрашивает:
– Кто?
А он ей, солдат, дескать, пусти, тётка, переночевать, домой иду. Она:
– А мой Ваня всё никак не едет.
– Да это же я, мама!
Сколько счастья было. Отец смеялся и плакал:
– Мало я тебя тогда выпорол, ой, мало, удрал-таки, поганец! – и, дурачась, добавил: – Ну-ка, скидавай штаны, должен я тебе за самовольство хоть сейчас проучить!
На следующий день родню собрали, вечер устроили. Гоша-друг, с которым на войну убежали, пришёл, пустой правый рукав под ремень брюк заправлен, руку в Польше потерял, но тоже бравый воин. Хорошо отметили возвращение Ивана.
А вскоре и свадьбу сыграли. Жила у родителей на квартире молодая специалистка Таня, после техникума прислали её из Омска в колхоз бухгалтером. Ну и приглянулась фронтовику.
Пятьдесят пять лет вместе прожили. Хорошо прожили. Сына и дочь вырастили. Да только Галю Иван долго не мог забыть. «Любовь никогда не перестаёт», – говорит апостол Павел в «Первом послании к Коринфянам». Мысль апостола, конечно, шире по значению, да прочитай её Иван, он бы согласился полностью в своём понимании: «Не перестаёт». Фото Гали долго хранил в укромном месте, пока не исчезло куда-то. Жену не стал спрашивать, да она бы и не призналась. Алименты Ирине и Андрею платил честно и сверх того, по возможности, тайком посылал. Трудно сказать, испытывала Галя к Ивану чувства, подобные тем, которые излагает героиня вышеупомянутой песни, когда зовёт: «Вернися, Иванку, буду шанувати». Во всяком случае, не прогнала Ивана, когда приехал в гости.
В пятьдесят девятом надумал он повидаться с бывшей семьёй. Как жена Татьяна ни ругалась, взял четырёхлетнего сына Вову и поехал в Черновцы, где тогда жила Галя. Замуж она так больше и не вышла.
– Что я детей своих не могу повидать? – говорил Иван Яковлевич жене. – Они не виноваты, что так жизнь сложилась.
– Будешь опять жизнь свою складываать-перекладывать с Галей ненаглядной? – не могла смириться Татьяна с намерением супруга, не лежала у неё душа отпускать благоверного в места его боевой молодости.
Вова всего-то и запомнил из той поездки: тётя вкусными варениками с вишней кормила. Тогда как брат с сестрой практически не отложились в памяти.
В последние годы Владимир собирался поискать их через Интернет, ведь родная кровь, да всё руки не доходили, а как майдан начал жечь спецназовцев из «Беркута», решил: ни к чему всё это.
Иван Яковлевич всякий раз выходил из себя, когда шли телерепортажи о бесчинствах фашиствующих молодчиков на Украине.
– Да что это за порода кровожадная? – сокрушался. – Никак не могут успокоиться! Отцы-деды жгли-вешали и этим неймётся!
И разглядывал лица этих самых молодчиков, марширующих по Киеву или Львову, вдруг увидит похожего на себя.
А зачем это было ему нужно – и сам не знал.
На фронт с именем отца
Лет двадцать последних не знал я, что такое митинги и демонстрации. В советское время в последний раз отправился на первомайскую демонстрацию ради сыновей, им было тогда лет по восемь-десять: «Папа, давай сходим!». В конце девяностых доводилось участвовать в массовых шествиях. Сейчас не верится, что такое было возможно – со всех предприятий стекались многотысячные колонны, ведомые профсоюзом, к центру города. Госзаказов не было, зарплату не платили по полгода и больше, заводы выживали, как могли. Трудовой народ надеялся, государство в ответ на его акцию одумается, как это не выпускать авиационные двигатели, самолёты, ракеты, спутники, стиральные машины, холодильники, трактора и комбайны. Хороший хозяин должен всё иметь своё, не зависеть от настроения соседа. Шли с заводскими знамёнами, плакатами-требованиями к правительству.
Но это было почти в прошлой жизни. И вот после долгого перерыва решил пойти на «Бессмертный полк». На какие ухищрения только не шли «прорабы перестройки», дабы умалить Великую Победу, оболгать, извратить, переписать историю… Казалось, это удалось… Даже гадкое словечко запустили в народ – победобесие. Дескать, носиться с давно случившимся это ни что иное как одержимость. Однако вдруг возникла гениальная идея «Бессмертного полка», и миллионы граждан, взрослых и детей, по всей стране вышли на улицы с портретами победителей… Помнит народ свою историю, помнит славную Победу…
В тот день с портретами ветеранов стояли на остановках, ехали в автобусах, несли их по улицам, стекающимся к Соборной площади. День разгорелся победно. Ослепительный диск солнца, тугой парус синего неба, белоснежные облачка, гонимые молодым ветром. Тысячи и тысячи праздничных людей…
Первый День Победы, который навсегда запомнился, – 9 Мая 1965 года. Наш сибирский городок Ачинск вот так же заполнило солнце, по-летнему жаркое, заставляющее снимать плащи и пальто… По центральной улице чеканило шаг военное авиационно-техническое училище, шли предприятия, техникумы, школы. Мы, детвора, держали в руках веточки тальника и тополя с нежными листочками (прутики несколько дней стояли на подоконнике в воде), украшенные бумажными цветочками. Они символизировали весну, обновление жизни. Доминировал в городе красный цвет – транспаранты, флаги, пионерские галстуки… А на школьницах – белоснежные фартуки… У всех праздничные, возбуждённые лица. Сверкая на солнце начищенной медью, шагал духовой оркестр, выдувая бравурный марш…
Недавно прочитал мнение мудрого аналитика, историка и политолога Андрея Фурсова, он считает шестидесятые годы самыми лучшими в Советском Союзе. Они были полны громких свершений, умных решений, радостных надежд. Ушли в прошлое сумрачные и лживые хрущёвские пятидесятые, ещё не наступили тормозные семидесятые… Не знаю, как для других, для меня шестидесятые особо солнечные – счастливое детство, устремлённые в светлое будущее школьные годы, хотя и студенческие семидесятые были летящими…
По роду журналистской и писательской деятельности десятки раз беседовал с теми, кто воевал, работал в тылу, обязательно спрашивал про День Победы. Для большинства это одно из самых памятных событий жизни. Сергею Сергеевичу Кекуху (с ним работали в одном секторе в КБ ПО «Полет») в 1945-м исполнилось семнадцать, о Победе узнал на телеграфном столбе. Ремонтировал порыв на линии, проверяя связь, подсоединил наушники и услышал радостную весть. Фронтовик Борис Анатольевич Силин 9 мая 1945-го лежал с ранением в Берлине в госпитале, и вдруг рано утром бешеная стрельба, сразу догадался: не бой – салют Победы. Ветеран трудового фронта шагал утром по Омску на завод, город был взбудоражен только что прозвучавшей по радио давно ожидаемой вестью – Победа! А одна женщина стояла и горько плакала – у неё погиб сын, накануне получила похоронку. Врезалась в память подростку эта картина – всеобщее ликование и неизбывное горе…
Трудно сказать, на сколько километров растянулась колонна «Бессмертного полка», двигался в ней порядка трёх часов. В советские времена носили на демонстрациях портреты небожителей – членов Политбюро ЦК КПСС, коммунистических вождей, а здесь множество портретов отцов, матерей, дедушек, бабушек, близких родственников. На одних фото изображены совсем молодые люди в солдатских гимнастёрках, пилотках, на других – пожилые ветераны в парадных костюмах с многочисленными рядами наград. Разные люди, разные судьбы, а вместе – «Бессмертный полк». Он шагал по солнечному городу мимо Успенского собора, Законодательного собрания, академического театра драмы… Любинский проспект, стекающий под гору к мосту через Омку, заполнила на всём протяжении людская река… Калейдоскоп красок – плащи, куртки, косынки, шляпки, кепи.
А над ними портреты, портреты, портреты, будто цветы на высоких стеблях, растущие из рук, сердец… Навряд ли среди идущих были пережившие военное лихолетье. Уже за семьдесят тем, кто родился сразу после войны. Шагали по яркому маю дети, внуки, правнуки тех, кто был запечатлён на фото, тех, кому было назначено судьбой остановить врага, вознамерившегося подмять под себя непокорный русский народ, уничтожить большую его часть, прибрать к загребущим рукам богатую русскую землю.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: