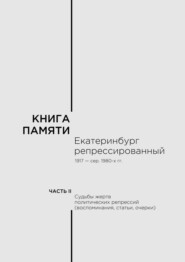
Полная версия:
Книга памяти: Екатеринбург репрессированный 1917 – сер. 1980-х гг. Часть II. Судьбы жертв политических репрессий (воспоминания, статьи, очерки)
Все смешалось в доме Никифоровых
Берсы жили вместе с родственниками Елизаветы Михайловны. Четверо незваных гостей, нагрянув вечером, перевернули его вверх дном. Александр Андреевич не выдержал этих вопросов, этого бесцеремонного рытья в книгах, письмах, любимых вещах. Старые вещи он любил любовью историка и коллекционера. Мог однажды вернуться домой без полушубка, но… в кольчуге, весьма довольный удачным обменом.
В разгар обыска он ударил антикварной тростью по антикварной «горке» с антикварной посудой. Усадив между охранниками, его увезли.
В тюрьме началась горячка, бред, кровохарканье. Полтора месяца не могли приступить к допросам.
Дом на улице Большакова замер тревожным ожиданием. Позднее арестовали мужей еще двух сестер Никифоровых.
Муж Софьи Михайловны, геолог, смеялся над ее тревогами:
– Да за что меня арестуют! Чем я могу навредить? Подменить синклиналь антиклиналью?
Когда-то он, молодой и любопытный, забрел к анархистам и на какое-то время у них задержался. «Кроткий наш анархист», – звала потом зятя Сонина мама.
Пришло время, когда ему припомнили, что однажды он вошел не в ту дверь… Арестовали и Софью. Пять лет она провела в Северном Казахстане, в лагере под Акмолинском, позднее Акмолой.
В саманных бараках, до блеска выскобленных женскими руками, было зверски холодно. Вопреки всем правилам, узниц выпускали с ночи до рассвета на озеро за тростником для печек. Триста женщин выбегали через распахнутые ворота.
Сегодня это все будто сон: освещенное луной белое пространство, молчаливый стремительный бег, ощущение простора и воли, шелест и треск камыша, бег назад, от свободы в неволю, с единственной панической мыслью: только бы успеть!
Сын за эти годы отвык от нее, стал чужим. Женщины в лагере жили мыслью о том, что выйдут на волю раньше своих любимых и успеют к их возвращению возродить разрушенный дом. А любимых уже не было в живых.
Муж старшей сестры, Надежды Михайловной, служил ветеринаром. В прошлом его угораздило побыть кандидатом в Учредительное собрание…
Его арестовали, ее отчислили из мединститута. Четверо репрессированных. Не слишком ли на одну семью…
Муж средней сестры, Елизаветы Михайловны, родился, как мы уже знаем, дворянином. Это, по логике следствия, и была главная его вина. Кроме родословного дерева обнаружилась весьма любопытная веточка.
Виноват от рождения
Матушка Александра Андреевича Берса Мария Константиновна была дочерью Константина Васильевича и внучкой Василия Васильевича Энгельгардтов. Если произнести это имя, Василий Васильевич, пять раз, в соответствии с «коленами» родовой истории, в которой сына звали как отца, а отца – как деда и прадеда, то у самого «древнего» Василия Васильевича обнаружится мать, графиня Екатерина Григорьевна фон Штрален. Фамилия, похоже, вымышленная, в переводе с немецкого означает Лучистая.
Отцом «Лучистой» Екатерины назван в родословной светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, а матерью – не менее лучезарная особа: Софья Фредерика Августа, принцесса Ангальт-Цербстская. То есть Екатерина II.
Вот какую глубочайшую крамолу обнаружили доблестные чекисты в столе научного руководителя Свердловского антирелигиозного музея. Почему же хранил он эту родословную, недостойную советского служащего? Почему копал ее все глубже и глубже?
Александр Андреевич пытался растолковать по пунктам, зачем ему нужна родословная таблица. Во-первых, его изыскания одобрили и просили продолжать сотрудники толстовского музея, Центрального архива и других уважаемых научных учреждений. Во-вторых, для него важно разобраться в вопросе о передаче биологических свойств, чтобы понять причины ранней смерти его детей.
На завершение он приберег неотразимый аргумент: «Для меня лично место в социалистическом строительстве, при наличии чуждого происхождения и воспитания, определялось сознанием необходимости использовать свои биогенетические особенности и перестроить их на новые рельсы».
Пожалуй, такому намерению мог бы поаплодировать сам Трофим Лысенко, если бы не запнулся на слове «генетика». Но чекисты бдительность не потеряли и подловили Берса на другой крамольной фразе. Оказывается, во время какой-то эпидемии в Ишимском районе нынешний подследственный рвался туда спасать людей и аргументировал свое намерение так: «Дворянство, кроме звания, налагает и определенные обязанности».
Вот уж тут они приперли этого толстовского родственничка прямо к стенке! «Вы мотивировали действия так? Признаете себя в этом виновным?» Не отвертелся, дворянское отродье!
А еще руководителя антирелигиозного музея пытались подловить на религиозных чувствах. Тщательно выведывали: а правда ли, что несколько лет назад, еще до работы в музее, он молился (!!!), когда дома, по настоянию тещи, отпевали по христианскому обряду его крохотную дочку. Его вынуждали оправдываться. А мог ли он помнить, как держался тогда, в страшном горе!
Попытки устроить на работу «бывших людей» и нелегально перейти границу, сомнительное отношение к колхозам и сравнение Сталина с Аракчеевым – это уж «довески» к главным необъятным прегрешениям. Еще из «дела» ясно: его пытались привлечь к секретному сотрудничеству с «органами», а он упорно характеризовал тех, кто считался его «объектами», как активных сторонников советской власти и потенциальных членов ВКП (б), чем «дезориентировал» органы ОГПУ-НКВД.
Итак, «гр-н Берс Александр Андреевич, 1902 г. р., русский, гражданин СССР, сын полковника царской армии – генерала белой армии, б. дворянин, родственник б. князьям Эристовым […] изобличен в том, что вел антисоветскую пропаганду, ведет подготовку к нелегальному переходу границы СССР, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. 58.10 и 84 УК РСФСР».
В ноябре 1930 г. его отправили в поселок Медвежья Гора, в распоряжение Белбалтлага НКВД. Родные надеялись, что через три года, отбыв срок, он вернется домой. Но мыслимо ли обрести свободу как раз тогда, когда волны репрессий вышли из берегов. За год до предполагаемого освобождения последовал новый приговор.
Из справки о реабилитации: «Берс А. А. был обвинен в том, что является членом контрреволюционной фашистской террористической группы, работая лекпомом, оказывал помощь членам группы, незаконно освобождая их от работы. Постановлением тройки НКВД Карельской АССР от 20.09.37 г. Берс был приговорен к расстрелу. Приговор исполнен 28.09.37 г.»
Лекпом, помощник лекаря, брат милосердия… Такова была его роль на земле. Ведь до увлечения археологией он успел закончить в Московском университете два курса медицинского факультета. Видимо, собирался пойти по стопам прадеда, придворного доктора. В приговоре есть два слова правды: оказывал помощь. Свою роль дворянина он понимал именно так.
«Граф, пахать подано!»
За два неполных года – от приговора до приговора – он послал в Свердловск несколько писем – с суровой прозой и возвышенными стихами. До Елизаветы Михайловны дошли не все. Поэма из рыцарской жизни, с явными намеками на современность, складывается не полностью. А стихи, посвященные сыну, вот они:
Привет тебе,мой маленький сынишка!Привет тебе,лучистый рыцарь мой.Меня ты знаешьтолько понаслышке,Как образ сказки,древней и чужой.Мне не дано ловитьтвой первый лепет,Значенье словугадывать с трудом.Твой профиль времяпроизвольно лепитИ тянет нитив наш разбитый дом.Большой медведьстоит на задних лапах,Твоей кроватиохраняя грань.Могучий дубсвоей зеленой шляпойНакроет солнцаогневую рань.Я пчел пошлю,чтоб мед тебе носили.И рыбы сделают,чего б ты ни хотел.Я прикажу,чтоб рыцаря хранилиВсе знаки,вписанные в гербовом щите.Но, строя мири мир воспринимая,Не забывайпро своего отца.Пусть в трепетнойи быстрокрылой стаеМелькнет эскизи моего лица.Привет тебе,мой маленький сынишка.Привет тебе,спокойно спи, дружок.Я принял на себяза годы передышкиТвой тяжкий крести сделал твой урок.Эту отцовскую колыбельную с описанием фамильного герба (дуб, медведь, пчелы, рыбы) Андрей впервые прочел в 14 лет.
– Мама тогда сочла, что в это замечательное время я уже могу держать язык за зубами, – говорит Андрей Александрович.
Так, горьким прозрением, кончилось его пионерское детство. Вступать в комсомол он не стал. Работал, учился. Жил без поблажек себе. Мать бы ему не позволила.
– Граф, пахать подано! – иронично напоминала она о житейских обязанностях.
Сегодня он крупный ученый, доктор технических наук, член Международной академии информатики. А для нас, газетчиков, как бы свой человек. Когда в стране внедрялся компьютерный набор, значительно убыстривший процесс прохождения материала от журналистского блокнота до газетной полосы, именно Берс стоял у истоков, то и дело летал в Москву с удостоверением, в котором была вписана такая интересная должность: главный конструктор «Правды».
А еще он – философ от информатики. Красочно, увлеченно рассуждает об информационной картине мира, ее будущем.
Несколько лет назад ему передали «вещдоки» из отцовского дела, в том числе родословное древо. Он отнесся к нему с любопытством ученого и ироничностью потомственного интеллигента. Особенно не любит всяких охов и ахов по поводу родства предков с великим писателем:
– Извините, но к Льву Николаевичу я отношусь… с трудом, как все Берсы, потому что он обижал Софью Андреевну, которая родила ему тринадцать детей и девятерых из них вырастила! И еще Лев Николаевич поговаривал: «Берсам всегда сидеть неудобно, потому что у них ж… худая». Все Толстые такие важные. Зато мы – Берсы!
Он произносит фамилию, доставшуюся от родителей, с очень большой буквы.
Печуркина Р. А.
Предателем не был и не буду (о комкоре С. А. Пугачеве, чья жизнь оборвалась в лагере на территории Таборинского района Свердловской области)
Впервые опубликовано: Областная
газета. 2009. 30 октября
Впалые, заросшие седой щетиной щеки, безнадежно усталый взгляд. Кто он? Неприкаянный человек без роду без племени? Нет, человек дворянских корней, элитной образованности, обладатель высокого воинского чина. Семен Андреевич Пугачев, недавний комкор (командир корпуса), начальник Военно-транспортной академии Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). А на служебных фотоснимках в фас и профиль – заключенный Тавдинского отделения Севураллага.
«Личное дело» С. Пугачева, хранящееся ныне в Информационном центре ГУВД по Свердловской области, оказалось внешне не слишком внушительным: видавшая виды, скорее, тонкая, чем толстая, папка из мягкого картона, подклеенная скотчем. Если пересчитать в ней листы, то бо́льшая часть из них придется на квитки величиной в пол-ладони – вызовы на допросы.
Его арестовали осенью 1938 г. в Ленинграде, где он жил в доме академии, которую возглавлял. Сочтя, что «Пугачев Семен Андреевич, 1889 года рождения, уроженец г. Рязани, из дворян, бывший член ВКП (б), исключенный в 1937 году за связь с врагами народа, достаточно изобличается в том, что является участником антисоветского контрреволюционного заговора, по заданию которого проводил вредительскую работу в Военно-Транспортной Академии РККА», ему избрали мерой пресечения содержание под стражей.
За год, проведенный в Ленинградской тюрьме №1, до перевода в московскую «Бутырку», его допрашивали множество раз, причем порой дважды и трижды в сутки. Например, 5 марта 1939 г. – утром, днем, ночью. Самым длинным, четырехчасовым, был в этот день ночной допрос. Но допрашивали и дольше – 17 апреля мучили вечером с пяти до одиннадцати, а ночью вызвали снова.
Видимо, доказать участие в контрреволюционном заговоре было не так-то просто. Но доблестные службисты сумели. По всей вероятности, Семен Андреевич «во всем сознался», а потом устно и письменно раскаивался за свое «постыдное поведение на следствии». Есть сведения, что на суде он отказался от показаний, выбитых из него на допросах. Но все равно приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 26 октября 1938 г. гласил: «Пугачева Семена Андреевича лишить военного звания „комкор“ и подвергнуть лишению свободы сроком на пятнадцать лет, с поражением в политических правах на пять лет с конфискацией лично ему при надлежащего имущества с отбытием наказания в ИТЛ. […] Возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о лишении Пугачева двух орденов „Красное Знамя“, четырех орденов Союзных Автономных Республик и юбилейной медали в ознаменование ХХ-летия РККА».
ИТЛ – это, как известно, исправительно-трудовые лагеря. Пугачеву достался Северо-Уральский лагерь НКВД СССР, его Тавдинское отделение. В январе 1940 г. с этапом он прибыл в Тавду. Этот край тайги и болот был на тот момент заселен не только коренным населением и осевшими в результате аграрной реформы крестьянами-«самоходами» из западных губерний. В середине 30-х гг. прошлого века эшелоны повезли сюда «врагов народа», которым пришлось с пилой и топором осваивать таежный край. Жили в наспех сколоченных бараках, шли на работу – куда прикажут.
И поехал Пугачев на уже знакомый ему Урал, где в 1918—1919 гг. работал в штабе военного округа. Еще в начале тяжкого крестного пути Семен Пугачев, по причине сердечного заболевания, был признан годным только к легкому труду. Но в его северном послужном списке названы отнюдь не легкие занятия: разделка и относка рудничной стойки, раскатка шпал. Специальности: мелиоратор, лесоруб, машинист пишущих машин.
Последняя специальность фигурирует в документах как основная. Видимо, тех, кто определял судьбу заключенного Пугачева, поразила его способность обращаться с этим клавишным достижением цивилизации. Но, судя по всему, пишмашинка в лагпунктах была предметом редким, имела постоянных хозяев (или хозяек), и приходилось Семену Андреевичу возвращаться к лому, пиле, топору.
Когда он окончательно потерял здоровье, когда медики признали за ним «старческую дряхлость» в 50 с небольшим лет, тогда ему нашлось редкое по нашим временам занятие – лаптеплёт.
Признаться, я за свои немалые года впервые встретила это слово. Но в интернете оно есть: в текстах, касающихся старой Руси и «новой цивилизации» – сталинского ГУЛАГа. Снова возникла тогда необходимость в лаптях и лаптеплётах.
Пришлось брать кочедык в руки выпускнику Николаевской академии Генерального штаба, бывшему командующему Туркестанским фронтом, бывшему заместителю начальника штаба РККА (начальником был Тухачевский), бывшему консультанту советской военной делегации на международных переговорах в Женеве (совершенное знание французского языка помогало ему в этом), бывшему начальнику академии…
ГУЛАГ был страшен не только скудной едой и тяжелой работой, но и тем, что унижал узников. Семен Андреевич боролся за свое достоинство как мог. Судя по документам, еще в Ленинградской тюрьме требовал, чтобы ему давали книги и предоставляли возможность бриться. Книги, как видно из служебной переписки, ему дали. Неясно, правда, сколько раз это было. Однажды почему-то побрили срочно, а потом постановили: брить «регулярно, раз в пять дней». Хватит с тебя и этого, дворянско-офицерское отродье!
Образцовым заключенным Пугачев не был. В общественной работе не участвовал, нормы не перевыполнял. Так ведь «букету» его болезней не позавидуешь: миокардит, тяжелое малокровие, грыжа, карбункулы… А вот в чем он был образцовым: промотов никогда не имел. Лагерное слово «промот», вошедшее в официальные характеристики, означало, видимо, вольное обращение з/к с выданным ему казенным имуществом. Ничего Семен Андреевич не продавал и не променивал ради собственной выгоды.
О том, что он оставался самим собой, говорят его письма. Написанные аккуратным почерком, безупречно грамотные и логичные. Конечно, не все они подшиты в деле. Те, что были адресованы в юридические инстанции, видимо, туда и уходили. На них даже поступали ответы.
«Прошу объявить осужденному Пугачеву Семену Андреевичу о том, что его жалоба, в которой он просит о пересмотре дела, мной рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Мера наказания определена ему приговором правильно, поэтому оснований к опротестованию приговора мной не найдено.
Зам. Председателя Верхсуда СССР В. Ульрих».
Именно такие отписки приходили на все запросы Семена Андреевича и его супруги Ларисы Дмитриевны о пересмотре дела. Но были и другие его обращения.
«Зам. председателя Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик товарищу Молотову.
Глубокоуважаемый и дорогой Вячеслав Михайлович!
Прошу о зачислении меня красноармейцем одной из действующих на фронте частей Красной Армии и тем дать мне возможность боевой работой, а если понадобится, то и ценой жизни, еще раз доказать мою преданность нашей большевистской партии и Родине и искупить единственную мою вину – постыдное поведение на следствии.
Уважающий Вас С. Пугачев. 22 июня 1941 года.
п. Верхняя Тавда Свердловской обл.».
Обратите внимание на дату. В день начала Великой Отечественной войны Семен Андреевич написал обращения с той же просьбой маршалам С. Тимошенко и К. Ворошилову. Письмо народному комиссару обороны С. Тимошенко завершается словами: «Заверяю партию и правительство трудящихся, что своей Родине я никогда не изменял и предателем не был и не буду».
Все эти искренние заверения не достигли адресатов и были подшиты в казенной лагерной папке. Здесь же – два многостраничных письма И. Сталину. Писал он их больше, судя по записям регистрации отправлений, – не менее пяти. Из Туринска, из Тавды, из Таборов, из деревни Куренево Таборинского района. Куда ушли остальные – неясно. Вряд ли к вождю «лично в руки», как просил о том Пугачев.
Эти обращения – не о себе, а о Родине и о войне. Вот некоторые из соображений опытного военачальника и настоящего патриота:
«1. Современная война в условиях Советского Союза должна вестись с сохранением максимальной крепости и целостности государства, давая возможность продолжать, хотя бы в сокращенном масштабе, плановое строительство народного хозяйства.
2. Война должна вестись малой кровью.
3. Эти возможности должна дать современная техника, которая в руках владеющих ей командиров и бойцов решает половину дела победы.
4. Победа СССР над фашизмом ни в коем случае не должна быть пирровой победой, так как в результате ее нужно будет не только заживлять свои раны, но и помогать строительству социализма в ряде государств, которые неминуемо должны стать на путь этого строительства».
О современной военной технике, необходимой для фронта, С. Пугачев рассуждает не с потолка, а со ссылкой на секретные проекты и полигонные испытания, известные, как он полагает, верховному главнокомандующему.
В адресованном ему же другом письме он, твердо веря в неизбежную победу Красной армии, предлагает уже сейчас, осенью 1942 г., начать работу по написанию истории Великой Отечественной войны, – разворачивает широкую программу, вплоть до издания «„Черной“ книги фашистских гнусностей».
Мудрый человек был комкор Пугачев, настоящий провидец. Жаль, что в те дни, когда «наверху» могли бы пригодиться его советы, он работал лаптеплётом в уральской таежной глуши. Впрочем, как знать. Пожалуй, мысль о войне малой кровью вряд ли понравилась бы окружению вождя. Ее вполне могли отнести к вредоносным проискам царского военспеца. От них, настоящих профессионалов, решительно избавляли рабоче-крестьянскую армию. Из комкоров 1935 г. (звание, равное генерал-лейтенанту) уцелели единицы. Почти 50 были расстреляны.
Жизнь комкора Пугачева тоже оказалась недолгой. В марте 1943 г. он попал в медпункт лагеря Комендантский в Таборах и 16 марта умер от паралича сердца. Из акта о погребении следует, что «тело заключенного Пугачева Семена Андреевича одето в нательное белье, на груди положена фамильная доска». Где она теперь, эта могила? Их, безымянных, в наших таежных местах множество.
Реабилитировали Семена Андреевича в 1956 г. Военная коллегия Верховного суда пересылала на Урал запросы о нем для публикации сведений в энциклопедиях. Такие биографические справки ныне опубликованы, но очень скупые и не во всем точные.
Печуркина Р. А.
Аверинские мужики (о массовых репрессиях крестьян села Аверино Сысертского района)
Впервые опубликовано: Уральский
рабочий. 1989. 27 октября
Идешь ли по сельской улице, листаешь ли пухлые тома судебного «дела», разговариваешь ли с потомками крестьян, не по своей воле покинувших родные избы, и главный вопрос не дает покоя и не находит ответа. Почему именно Аверинскому выпала эта горькая доля?
Да, по всей стране тридцать седьмой стал черным годом. Но чтобы из каждого четвертого дома увели хозяина! Чтобы средней руки село – не ярмарочное, не храмовое, не районный центр – попало в разряд главных «контрреволюционных гнезд» с филиалами в Сысерти и Щелкуне, в Полдневом и Мраморском, в Свердловске и Каменске! За что тебе такая честь, Аверинское?
В начале августа увезли восьмерых. Две недели спустя на раннем рассвете понаехало к сельсовету несколько машин. Каждый, к кому входили в дом незваные гости, терялся в догадках: куда? зачем?
– Собрать чего? – спросила жена у Александра Федоровича Евдокимова. – Вдруг долго продержат…
– Совсем с ума сошла, мать! – отмахнулся тот. – Уборочная на носу, а нас держать будут!
Нет, не отпустили их к уборочной и никогда после. В начале октября и остальных подмели, из других уральских сел и городов всех аверинских уроженцев собрали. Как ты выжило, Аверинское?
…Мы сидим в сельской библиотеке. Я листаю страницы блокнота с выписками из следственного «дела». А мои собеседники рассказывают об отцах, дедах, братьях, дядьях, соседях. Называют их давними деревенскими прозвищами: Сано Греба, Маня Баская, Иван Сорока, Гриша Цыган и Гриша Воробушек.
Так не вяжутся с этими бесхитростными рассказами зловещие образы «врагов народа», какими их натужно пытались представить органы следствия:.. «Являлись участниками контрреволюционной повстанческой организации, существовавшей на территории Свердловской области, и решением тройки УНКВД Свердловской области от 11 сентября 1937 года приговорены к высшей меры наказания».
Эта страшная черта была подведена разом под сорока восемью жизнями. Двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым сентября помечены справки о приведении приговора в исполнение.
Позднее приговорили к расстрелу еще двоих аверинцев, одного из них, как выяснилось, повторно. А всего, выходит, сорок девять. Да еще двадцать осудили на разные сроки, не потрудившись даже вписать в приговор статью уголовного кодекса.
Торопились, ох торопились работники следствия. Очень, видимо, хотели отрапортовать о ликвидации повстанческого гнезда, понимая при этом, что доказательства вины подследственных – абсурднее некуда. Каждое лыко – в строку. Полученный на воинской службе Георгиевский крест, бабья сплетня, мужичья ссора, воскресная чарка, непогода и недород.
Расхожий прием – «связь с кулаками». Несколько местных семей еще ранее были лишены всякого имущества, направлены в город Каменск и его окрестности – завод строить, землю пахать. Навестит кто из аверинцев собственного родственника – вот и уже «связной с контрреволюционным кулачеством».
У Александра Евдокимова жена съездила в Каменск к брату. Тот, плотник на стройке, был объявлен японским шпионом, за связь с которым поплатились Евдокимовы потерей кормильца.
«Изъято при обыске». Порывшись в кухонной утвари, милиционер протянул начальнику железный пестик:
– Вот, холодное оружие.
– Дурак ты, что ли? – усмехнулся начальник, но пестик взял.
В Аверино вспоминают не один подобный случай. Повстанческому гнезду полагается быть вооруженным до зубов. А тут то охотничья переломка, то дамский пистолетик «Монтекристо» с одним негодным патроном. Жидковато. Стало быть, сойдет и пестик. Не для протокола, а скорей для потрясения духа: ага, мол, попался разбойник.
Вот книги в протокол заносили непременно. У А. Евдокимова изъяли «Путь к социализму», у А. Пирожкова – «Беседы о ленинизме», у М. Меньшикова – «Историю ВКП (б)», у П. Костарева – «Что должен знать молодой чекист», у Н. Меньшикова – «Почему кулак против хлебозаготовок».
Работали мужики над собой, пытались разобраться в жизни, в политических сложностях.
Афанасий Иванович Деменьшин в политике и грамоте был не силен. Устроившись пожарным на стройке, он поселился на улице Луговой в Свердловске и еще не совсем освоился на новом месте, как пришли с обыском.
– Где вы достали совсекретное письмо №2985? А личное партийное дело на имя В. К. Молокова? Откуда взяли книги «В стране свободного труда» с портретом и описанием врага народа Рыкова и «Известия наркомтруда СССР» с декретами, подписанными врагом народа Каменевым?
Осененный наконец догадкой, сообщает гражданин Деменьшин, что всю вышеупомянутую литературу жена принесла из сарая для заверток. Но чекистов не проведешь! Они уже поняли, что ночами пожарный проникает в партийные сейфы, чтобы выкрасть и передать за границу совсекретные письма, личные дела и портреты с описаниями.



