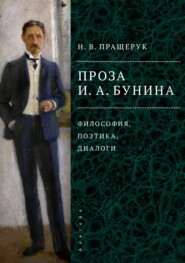
Полная версия:
Проза И. А. Бунина. Философия, поэтика, диалоги
Глава 1
Повесть И. А. Бунина «Увлечение»: формирование творческой индивидуальности
Полный текст ранней повести И. А. Бунина «Увлечение» впервые был напечатан в бунинском томе «Литературного наследства» в 2019 г.[25] Автор публикации, предисловия и примечаний С. Н. Морозов справедливо назвал повесть, напечатанную с подстрочником вариантов и исправлений, «творческой лабораторией начинающего писателя»[26]. Ученый обратил внимание на то, что здесь уже намечена сквозная для Бунина-художника тема сопряженности любви и смерти[27]. Он также усмотрел некоторые совпадения биографического характера, имея в виду знакомство и отношения Бунина с В. Пащенко: «Удивительным образом содержание повести “Увлечение” в недалеком будущем отчасти станет реальностью для самого автора. Летом 1889 г. Бунин познакомился с В. В. Пащенко, роман с которой длился несколько лет, прерываясь ссорами и разъездами. В конце концов, В. В. Пащенко выходит замуж за А. Н. Бибикова – товарища Бунина. К счастью, в жизни писателя развязка любовной драмы не была столь трагической, как в повести “Увлечение”»[28].
Думается, работа по возвращению бунинского наследия во всей его полноте, которая последовательно и системно ведется учеными из ИМЛИ, может быть продолжена литературоведческим осмыслением этой повести, написанной 17-летним автором в самом начале его творческого пути.
Первая глава создавалась с особенной тщательностью. Она представляет собой экспозицию в классическом варианте и показывает пример хорошо усвоенных уроков русской литературы. Очевидно, что начинающий автор серьезно продумывал композицию этой главы, стремился к тому, чтобы начало повести было выразительным и запоминающимся. Так, повесть открывается яркой пейзажной зарисовкой, в которой вполне угадывается дар живописания будущего Бунина-художника: «В открытые окна сыпались последние отблески низкого солнца. Оно садилось далеко на горизонте, около силуэтика мельницы, чернеющей на ярком фоне заката двумя крылами»[29]. Подобный же цветовой эффект достигается в позднем шедевре художника «Холодная осень» неточной цитатой из Фета: «Смотри – меж чернеющих сосен / Как будто пожар восстает <…> – Какой пожар? – Восход луны, конечно» (7, 20). И если помнить о символической подоплеке образа природного мира в рассказе (и в других произведениях), то можно предположить, имея в виду описанные события в повести, что мы присутствуем при начале формирующегося почерка будущего художника – нагружать символическими смыслами живописание внешнего мира. Композиционную завершенность главе придает финал, в котором повествователь от характеристики героя вновь переходит к тому, что его окружает: «Солнце уже село, вечерняя заря охватила половину неба и воздух похолоднел. Молодой месяц, еще днем поднявшийся на небо, начал уже испускать свой бледный свет» (48). И далее на протяжении всей повести главного героя «сопровождает» месяц, освещая своим блеском, светом, мерцанием происходящее: «Месяц уже разливал свой голубоватый свет» (50); «Туман затоплял всю луговую часть села, лозинник, избы и наполненный матовым светом месяца, неподвижно стоял над землею» (65); «Месяц стал уходить в тучу, стоявшую длинной полосой на горизонте» (66); «Месяц высоко <…> Месяц светит и кладет узорчатые тени» (69) и т. п. И если в первом случае напрашиваются параллели с «Холодной осенью», то повторяющиеся образы природного мира, и в частности образ месяца, становятся основой для выстраивания мифопоэтических и символических сюжетов в ранних рассказах Бунина лирического плана. Так, в рассказах «Туман», «Поздней ночью», «Новый год» месяц максимально приближен к человеческому миру. Стремясь подчеркнуть особое значение этого небесного светила в человеческой судьбе, Бунин прибегает даже к несвойственному для него как для художника приему антропоморфизации. Важным становится мотив «смотрения», известный в мифологической традиции своим сакральным смыслом[30]. Месяц и человек смотрят друг на друга – и это означает мистический момент их непосредственного контакта; «…И я долго смотрел в его лицо» (2, 176) и – «Он глядел мне прямо в глаза, светлый, немного на ущербе и оттого – печальный» и т. п. (2, 177). Образ месяца связан в этих рассказах с мотивами тишины-тайны и смерти. При всей сложности семантических нюансов Бунин предпочитает опираться на традиционный символизм подобных образов, принципиально и последовательно отказываясь от нарочитого мифотворчества. Позднее художник расширит смысловое поле излюбленного образа: в зрелых его произведениях, в частности в «Жизни Арсеньева», месяц уступит место луне, которая не только напоминает человеку о сопряженности любви и смерти, но и самым сокровенным образом связана с тайнами творчества[31]. Если говорить в целом о содержании первой главы, то, следуя традициям русской классической литературы, в ней компетентный и объективный повествователь знакомит читателей с главным героем. Лирика пейзажных впечатлений растворяется в стройном эпическом дискурсе. Идут описание внешности героя, история его семьи, даются сведения о его нынешнем состоянии, образе жизни и даже обозначается его характер. Все это достаточно компактно, емко, информативно. Портрет главного героя психологичен: «Лицо его нельзя было назвать красивым в строгом смысле, хотя оно и было очень симпатично. Кудрявые каштановые волосы молодого человека выглядывали из-под мягкой круглой шляпы, усики у него были маленькие, нос неправильный, немного даже большой, глаза серые, задумчивые и ясные, хотя и близоруки, отчего Агапов часто щурился, если старался что-либо разглядеть получше» (47). Близорукость в контексте повести – вполне читаемый намек на особый тип отношений героя с реальностью, на его мечтательность, романтичность, возвышенный склад души. Эта подсказка поддержана здесь же, в первой главе, комментарием повествователя: «Он сидел, предавшись созерцанью, потому что унаследовал от матери любовь к природе и страсть к стихотворству. Он писал стихи» (48). А, кроме того, возможно, именно с близорукостью героя связана трагическая развязка повести. Остается загадкой, намеренно или случайно Агапов убивает Александру.
В истории семьи и образе отца угадываются многие сюжеты русской классики. Все узнаваемо, и самый близкий контекст – проза Тургенева, его роман «Дворянское гнездо». С последним бунинскую повесть роднят многие перипетии и драмы семейства Агаповых, например, и то, что главный герой лишился матери в раннем возрасте. А в рассказе, как хозяйствовал на земле отец героя помещик Иван Федорович, можно увидеть эксперименты многих тургеневских и толстовских героев, приехавших в свои имения «пахать землю, и как можно лучше ее пахать». Экскурс в прошлое семьи Агаповых перебивается активным приближением героя к читателю, который должен не только его (героя) узнать и понять, но и увидеть: «И вот мы видим его уже приближающимся к Туле» (48). Позднее этот прием не рассказывания, а видения и показывания событий и персонажей будет блестяще реализован зрелым художником в «Жизни Арсеньева», когда уже не только настоящее, но и прошлое восстанавливается героем-повествователем как увиденное здесь и сейчас.
При анализе первой главы невозможно обойти вниманием сильный акцент в изображении героя, связанный с его именем (Виктор – победитель), и в особенности с фамилией. Позднее Бунин будет избегать таких прямых авторских подсказок читателю. Фамилия Агапов – происходит от агапе (греч. ἀγάπη – любовь). Известно, что в греческом языке можно найти четыре основных слова для обозначения любви (сторгия, филио, агапе, эрос), и агапе означает самый возвышенный тип любви, любви жертвенной, любви в высоком евангельском смысле[32]. Множество примеров именно такого толкования любви-агапе дает Евангелие: «Заповедь новую даю вам, да любите (αγαπατε) друг друга; как Я возлюбил (ηγαπησα) вас, так и вы да любите (αγαπατε) друг друга» (Ин. 13. 34); «Возлюби (αγαπησεις) ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22. 39); «Нет больше той любви (αγαπην), как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15. 13) и мн. др.
Безусловно, бунинский герой своим поведением, а главное – собственным роковым поступком, вряд ли оправдывает свою фамилию. Его чувство трудно считать агапической любовью, оно носит преимущественно эротический характер. Однако стремление автора подчеркнуть высоту и подлинность переживаний героя, выразившееся в таком именовании, налицо: «Он тесно подружился с Сашей и горячо любил ее; с ней-то ему и было отрадно. Жизнь его приняла какой-то идиллический характер. Он часто, почти каждый день виделся с Сашей, с дорогим для него человеком» (64). Агапов сомневается в серьезности отношений Александры к нему, подозревая, что она не испытывает глубокого чувства любви, а лишь на время им увлечена. Отсюда и название повести. С просьбой развеять или подтвердить его сомнения он обращается к Александре в письме, оставшемся без ответа. Искренность, глубина переживаний Агапова ярче понимаются при сопоставлении с другим героем – соперником Виктора, Виталием Алфеевым, также включенным в ситуацию любовного треугольника. Любопытна схожесть имен – известно, что и для Виктора, и для Виталия – уменьшительная форма имени идентична – Витя. Имя Виталий (в переводе с лат. vitalis – «жизненный») диалогом отзовется в позднем бунинском шедевре «Натали», однако там главный герой тоже, в общем, поначалу искатель легких любовных утешений, носит фамилию Мещерский, и в ней изначально актуализируется тема смерти, связанная с интертекстуальной отсылкой к оде Г. Р. Державина «На смерть Мещерского»[33]. Так на уровне именования героев в «Натали» обозначалась сокровенная авторская мысль. В обрисовке Виталия Алфеева задачи были иные. Происхождение фамилии Алфеев, как считают этимологи[34], связано с именем Елеферий (от греч. ἐλεύθερος – свободный). И если рассматривать фамилии главных героев в соотнесении как друг с другом, так и сюжетикой и проблематикой повести в целом, можно говорить об определенном семантическом/символическом подтексте в сфере именования, выводящем исследователя в область авторских интенций. На самом деле, расстановка и трактовка героев-мужчин осуществляется молодым автором по принципу яркого контраста, на первых страницах только едва проступающего, но по мере развития событий обретающего вполне четкую определенность. Поэт и мошенник, нравственно чистый человек и циник. Колоритная фигура Алфеева, ведущая свое начало от многих плутов и мошенников, представляет несомненный интерес для исследователя: было ли продолжение такого характера в последующем творчестве художника? Это могло бы стать самостоятельным литературоведческим сюжетом. Но уже при первом прочтении повести следует обратить внимание на тот факт, что подробнейший рассказ об аферах Алфеева уходит в подстрочник (глава VII), в тексте остаются по преимуществу, хоть и весьма определенные, но достаточно тонкие и органичные подсказки повествователя: «Он рассказывал очень ловко (здесь и далее курсив мой. – Н. П.), умело занимательно и остроумно. Видно было, что он ловкий человек во всех отношениях, отличный и ловкий собеседник среди дам и хороший и веселый товарищ» (50). Конечно, по мере движения сюжета характер Алфеева раскрывается, но стремление начинающего писателя избежать лобовых авторских объяснений свидетельствует о его психологическом и эстетическом чутье и придает герою психологическую объемность. Потому при всех его негативных человеческих качествах, при его недопустимом, с нравственной точки зрения, поведении в Алфееве каким-то таинственным образом уживаются цинизм, холодный расчет и энергия саморазрушения, пусть извращенная, но сохраняющая органику жизнь. Из краткого комментария повествователя в самом конце произведения мы узнаем о страшном финале этого погубившего себя человека: «А Алфеев, как я слышал недавно, пойманный в какой-то проделке, попался в тюрьму и удавился на брюках» (77).
Интересно, что в последнем абзаце, отделенном, как и предпоследний, от всего предшествующего рассказа чертой, мы наблюдаем оригинальную трансформацию безличного повествователя во вполне персонифицированного рассказчика, а затем и в лирического субъекта, прямо и эмоционально выражающего свою оценку происшедшего (точку зрения). Перед нами как будто совсем тургеневский эпилог, правда, значительно сокращенный. Он начинается с вопрошания «Что еще сказать?», обращенного к читателю, после которого тому же читателю кратко сообщается, как сложились судьбы действующих лиц этой истории. А если говорить об Алфееве, то сама по себе реплика «как я слышал недавно» выразительна и включает повествователя в круг, близкий героям рассказанной истории. Но этого оказывается недостаточно, и далее следует лирический пассаж об Агапове, открывающий перед читателем сферу собственно авторской субъективности: «Только еще, быть может, и доныне в темноте рудников томится и догорает жизнь бедного молодого человека. Не умело его сердце перенести и обойти первого встретившегося несчастья, не вынес он первую горькую обиду. Он не захотел, быть может, переносить и в будущем эти обиды и сразу покончил с собою. И много таких несчастных субъектов, не поборовших аномалий жизни человеческой, много скрыто в темноте рудников и в сырых могилах» (77). Вероятно, такой финал можно оценивать и как «тургеневский след», и как стилевую и повествовательную избыточность, столь понятную и закономерную, если иметь в виду возраст автора. Однако мне представляется более важным отметить ту самую точку отсчета, которой, по существу, обозначается начало движения от лиро-эпической манеры письма к таким формам организации повествования, которую теоретики назовут неклассической субъектностью. «Утверждается иное понимание автора – как “неопределенного” и вероятностно-множественного субъекта, который не предшествует повествованию, а порождается им, формируется в его процессе», – так характеризовал одну из форм неклассической субъектности С. Н. Бройтман[35].
Однако вернемся к системе персонажей. Показательно, что пара главных героев коррелирует с парой женских образов. Подружка главной героини, тихая Лиза, призвана оттенить своенравность и импульсивность поведения Александры, ее лидерские качества. Ролевой статус женских персонажей «закреплен» именованием: обладательница сильного мужского имени контрастирует с героиней, имя которой после карамзинской повести априори несет в себе семантику «бедной». Тихая сентиментальность Лизы, ее мечтательность проявляются с наибольшей полнотой в ночном разговоре с подругой. Лиза цитирует романтические стихи В. Немировича-Данченко и дает высокую оценку личности Агапова, намекая на собственные чувства к нему: «– Он поэт к тому же, – добавляет Лиза. – а какие поэты хорошие люди, <…> незаурядные, не холодные какие-нибудь. Ведь правда, Саша? Помнишь я у тебя видела записанное стихотворение. <…> И Лиза начинает: Теплой ночи звездный блеск… / Свет костра во тьме руины, / Под лагуной сонный плеск, / Тихо плачут мандолины… – Но это еще не так хорошо, – останавливаясь, говорит она, вот слушай: С нежных струн, едва струясь, / Звуки падают, как слезы; / К старой башне прислонясь, / Их заслушалися розы. Она даже встает и смотрит, взволнованная, на далекий край неба. – Не влюблена ли ты уж в него и взаправду? – спрашивала Саша. – А что ты думаешь? – оживленно переспрашивает Лиза. – Если бы он спросил теперь: люблю ли я его, я бы вместо ответа начала бы целовать его долго и страстно» (70).
Другими словами, в системе и расстановке персонажей угадывается как перекличка с традиционным любовным треугольником, так и стремление автора его осложнить изображением главного персонажа в окружении героинь-женщин, что наряду с «усадебным текстом» связывает эту повесть с рассказом «Натали».
Следует обратить внимание и на другие особенности этой повести, связанные с сюжетикой, хронотопом, характером повествования и интертекстуальными отсылками, позволяющими соотнести почерк начинающего и зрелого художника, уяснить механизмы и закономерности его эволюции.
Самое первое впечатление от чтения – радость узнаваемого, основательность и добротность традиционного, идущие от глубокого усвоения уроков и открытий русской литературы XIX в., что уже отмечалось мною ранее. Это и показательно, поскольку известна позиция Бунина, позиционирующего себя последним классиком русской литературы. Но и поразительно одновременно, ведь юный автор вполне мог по молодости лет увлекаться модным модернистским формотворчеством и мифотворчеством. Манифест нового символистского искусства уже был издан и широко известен[36], однако Бунин остался невосприимчив к идеям Д. С. Мережковского и других модернистов.
Повесть действительно живет в мощном литературном поле. Показательно, что автор не указал времени изображаемых событий, это могут быть и 1870-е, и 1890-е гг., они (события) соотнесены не с конкретным десятилетием русской жизни, а с правдой и реальностью русской литературы. Неслучайно любовная драма разворачивается в сопряжении с сюжетом возвращения героя в свою усадьбу, родное гнездо, подключающим целый корпус произведений, написанных, по меткому определению В. Львова-Рогачевского, писателями-усадебниками[37]. В «Увлечении» Бунин описывает достаточно подробно три усадьбы (такая мощная проработка «усадебного текста» в самом начале творческого пути!), находящиеся неподалеку друг от друга и – что тоже немаловажно – в Тульской губернии. Если в построении сюжета, в композиции всего произведения и отдельных сцен мы в первую очередь обнаруживаем переклички с романистикой И. С. Тургенева, и в особенности с «Дворянским гнездом», то точное указание на Тулу – знак особой любви и уважения к Л. Н. Толстому.
Повесть в своей интертекстуальной составляющей любопытна тем, что, с одной стороны, исследовательская интенция может быть развернута в контекст литературы прошлого, а с другой – в творчество самого писателя в будущем, Бунина, ставшего признанным мастером. Так, в «Увлечении» оживает (вплоть до текстовых совпадений) известный тургеневский сюжет возвращения домой, блестяще воплощенный в «Дворянском гнезде», чтобы продолжиться затем в «Деревне»: «Тарантас его быстро катился по проселочной мягкой дороге. <…> Вот я и дома, вот я и вернулся, – подумал Лаврецкий, входя в крошечную переднюю»[38]; «Пыль слеглась на дороге, и рожь еще сильнее распространяла свой одуряющий аромат. Тарантас катился между двумя стенами ее <…>. – Вот мы и дома, – говорил Агапов, осматривая комнату» (51); «А когда проехали гумно, прокатили по убитой дороге небольшого сада и повернули влево, на длинный двор, подсохший, золотившийся под солнцем, даже сердце заколотилось: вот он и дома, наконец» (3,94). При всей яркой специфичности приведенных фрагментов, они объединены чувством обретенного дома, переданным сходным образом. А ночной эпизод, когда Агапов восхищенно слушает пение Александры и внимает звукам фортепьяно, восходит к известному эпизоду в «Дворянском гнезде».
Но вернемся к образам усадеб и усадебной жизни в повести. Нетрудно заметить, что выстраиваются они настойчиво повторяющимся мотивом тишины: «Ночь была удивительно тихая и свежая» (50); «День был сероватый и тихий. Все проснулось и все молчало» (51); «А вечер был тихий, теплый и ясный. Небо расчистилось» (54); «Стояла тишина, от которой казалось, что заткнуты уши. Сад распустил листья и замер» (57). И здесь опять отсылка к знаменитой тургеневской тишине из «Дворянского гнезда», которая «обнимает <…> со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному синему небу, и облака тихо плывут по нем»[39]. Но не только. Достаточно вспомнить, например, пушкинское: «Воды глубокие / Плавно текут / Люди премудрые / Тихо живут»[40] и др. И вместе с тем тишина уже не спасает героя от рокового поступка. Она не та, что вытрезвит, успокоит и научит, «не спеша, делать дело», она обманчива. И в этой обманчивости – предчувствие будущих суходольских гроз, того усадебного мира, который тоже создается мотивом тишины, но тишины, всегда чреватой взрывом и катастрофой. Ведь именно в тихое послепраздничное утро Герваська убивает Петра Кирилловича (3, 63–164). Без сомнения, опыт проработки «усадебного текста» не прошел бесследно, оттачивалось мастерство для «Эпитафии», «Антоновских яблок», «Суходола», «Жизни Арсеньева», «Странствий», «Темных аллей».
Следует отметить вещественность и фактурность описаний, внимание молодого автора к деталям и подробностям. Здесь уже проявляются те качества, о которых Бунин напишет в «Жизни Арсеньева», – особая острота видения, особая чувствительность к «веществу» и плоти мира. Вот один из примеров описания, которое свидетельствует о том, что автор обладает и зорким взглядом, и чутким ухом: «“Родники” далеко тянулись по реке, верст чуть ли не на пять и все было в зелени. Под горою, по обеим сторонам реки, по ее луговым тонким берегам густо заросли высокие стройные лозины, кудрявые березы и наклоненные над водой ивы; такой лесок в половодье заполняли вешние воды и тогда вид был вполне прелестный и поэтичный; тысячи куликов с звонким, тонкоголосым криком вырывались из осоки и водяных трав, утки выводками плавали среди зарослей и вешними ночами слышат охотники их тихие кряканья, слышат непонятные шорохи и плеск воды в мертвой тишине, между тем, как в тусклой стали реки темными призраками рисуются деревья и звезды горят и вздрагивают в бездонной темно-синей глубине, и беловатый туман стоит в дальних лощинах» (50–51) (сохранен синтаксис публикации. – Н. П.). Усадебный мир не только полон подробностей, звуков и открывающихся живописных картин, но и запахов: «Рожь еще сильнее распространяла свой одуряющий аромат» (50); «Переехав через лощину, в которой сильно пахло травой, они въехали в село» (50).
Предлагая в «Увлечении» одну из вариаций на тему любви и смерти, автор главным образом выдерживает повествование в традиционном ключе, прибегая к форме прошедшего времени, отражающей последовательность описанных событий. Ему, конечно, далеко еще до экспериментов с пространственно-временной организацией, которые мы знаем по вершинным произведениям взрослого Бунина-художника. Однако в повести есть один временной «сбой», который вряд ли можно считать случайным. Речь идет о ночном разговоре двух подруг. Он предваряется репликой повествователя: «Лиза начинает расспрашивать» и сопровождается пояснениями преимущественно в глагольных формах настоящего времени (заметим в скобках, что другие диалоги организованы иначе): шепчет, перебивает, отвечает, слышится в ответ, продолжает, добавляет, начинает, смотрит, говорит (69–70) и т. д. Это, думается, было началом пути к тому «освобождению от времени», которого он достигнет во многих своих лучших вещах, начиная с «Тени птицы». Вероятно, поэтому при точном указании места происходящего автор обошел вниманием вопрос времени, как будто пытался «вынуть» это происходящее из потока истории и тем, возможно, сохранить для потомков в пространстве культуры. Безусловно, здесь нет той свободы обращения с прошлым как всегда пребывающим с нами настоящим, потому при всей фактурности и обилии деталей ощущается некая герметичность, а мир, нарисованный юным автором, кажется отчасти застывшим. Но и в этом тоже особое очарование повести. И, пожалуй, последнее, что хотелось бы отметить в первом приближении к ранее неизвестному бунинскому произведению, – это чужие цитаты, введенные в повествование. Здесь упоминается стихотворение В. Немировича-Данченко[41], в котором «изображалась поэтическая нега венецианской ночи»[42] и которое Александра просит прочесть Алфеева, потому что ей, как указывает повествователь, «оно ужасно понравилось» (57): «Алфеев прочел и закрыл книгу <…> – Стихотворение не дурненькое, – согласился и Валерий Александрович с видом знатока, – некоторые места разве только… – Да что некоторые, – перебила Александра, – поэтичное стихотворение, отличное. Надо дать прочесть Виктору Ивановичу, что он скажет» (57). В этом обмене впечатлений, обозначенных весьма показательными репликами, передаются внутренние состояния героев и показывается, что влюбленные отнюдь не на одной волне, их переживания и оценки очень разнятся, что, впрочем, будет позднее подтверждено всем ходом дальнейших событий и логикой развертывания характеров.
Позже две строфы этого стихотворения цитируются в ночном разговоре подруг, создавая эффект остранения и подчеркивая романтическое состояние души Лизы, о чем уже упоминалось.
Однако более показательными становятся трижды приведенные неточные цитаты из разных источников: романса на стихи А. В. Круглова, старинного русского романса «Что ж ты замолк и сидишь одинок…» и стихотворения И. С. Тургенева «Призвание». Сам факт повтора подобного цитирования весьма красноречив и вряд ли может быть случайным. Романс на стихи А. В. Круглова цитируется в одном из ключевых эпизодов, когда сильнейшее переживание любовного чувства соединяется у Агапова с предчувствием, что оно (чувство) безответно. В оригинале речь идет о том, что в сердце лирического героя нет прежней любви: «А из рощи, рощи темной / Песнь любви несется / И с какой-то болью тайной / В сердце отдается <…> Те же ночи… та же песня… / Тот же месяц светит… / Да по-старому на песню сердце не ответит…» (78). Цитируя романс, автор допускает не только лексические неточности (так вместо сердца, в котором нет любви, появляется она), но и ритмический сбой: «А-ах! Из рощи, рощи темной / Песнь любви несется. / Песня неги, песня страсти / Раздается… <…> Та же ночь и те же песни,/ Тот же месяц нам светит, / Но по-прежнему на песни / Она больше не ответит!..» (65, 66). Функциональное значение неточного цитирования вполне прочитывается, оно продиктовано стремлением начинающего писателя передать состояние героя, его напряженность, высокий эмоциональный градус. Подобным образом «работают» в тексте и две другие неточные цитаты. С Тургеневым, правда, автор обходится более осторожно:

