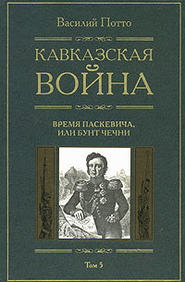 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 5. Время Паскевича, или Бунт Чечни
В марте 1797 года он прибыл в Москву, где тогда находился двор по случаю коронации императора Павла. Однажды, во время развода на Кремлевской площади, государь заметил видного и стройного молодого человека в венгерском мундире и послал узнать, кто он и зачем приехал в Москву? Эмануэль отвечал, что он был офицером венгерской гвардии, а теперь желает служить русскому императору. Ответ понравился Павлу, и государь послал Шувалова узнать, по какой причине Эмануэль оставил австрийскую службу. “Этого, – отвечал Эмануэль, – я не могу сообщить никому, кроме государя, если ему будет угодно меня выслушать”. После развода Эмануэля провели прямо в кабинет государя, где он с откровенностью юноши рассказал историю своей жизни. Рассказ его тронул Павла, и Эмануэль в этот же день был принят поручиком лейб-гвардии в гусарский полк. С этого же дня начинается его быстрое служебное повышение. Через три года, на двадцать пятом году своей жизни, он уже был полковником и шефом Киевского драгунского полка. Подобные случаи в царствование императора Павла никого не удивляли; но справедливость требует сказать, что Эмануэль, выдвинутый судьбой, заплатил своему новому отечеству целым рядом боевых заслуг.
В кампанию 1806 года в сражении под Пултуском он ранен был пулей в ногу, и потом при Гейльсберге пулей же в руку. Но раны только закаляли его энергию, и он так быстро оправлялся от них, что успел еще принять участие в кровопролитной фридландской битве. Из этого похода Эмануэль возвратился с анненским крестом на шее, с Владимиром в петлице и с золотой саблей “За храбрость”.
В отечественную войну Эмануэль оказывает особое отличие в бою при Шевардинском редуте, где предводимый им Киевский полк отбил французскую батарею. В этом бою под Эмануэлем были убиты две лошади и сам он ранен пулей в грудь навылет. По счету это была уже шестая рана.
Когда подвиг Эмануэля поступил в кавалерственную думу, то дума не сочла нужным даже обсуждать его и прямо назначила Эмануэля кавалером ордена св. Георгия 4-й степени. За отличия же в разновременных делах, от Москвы до Немана, он получил чин генерал-майора.
Кампания 1813 года дает ему новые случаи к отличиям: под Кацбахом он отбивает семь орудий и берет более тысячи пленных, потом уничтожает французскую дивизию генерала Пюто и, наконец, под Рейхенбахом, с двумя полками разбивает наголову шесть французских конных полков на глазах самого Наполеона. В день Лейпцигской битвы он не выходил из огня: подле него убиты любимый ординарец его поручик Бутлер и неразлучный с ним штаб-трубач Киевского полка, возивший за ним его зрительную трубу. Неприятельское ядро, сразившее трубача, разбило вдребезги и трубу Эмануэля.
На третий день битвы, когда союзные войска штурмовали Лейпциг, генерал со своим конвоем, состоявшим из восьми казаков и трех офицеров[16], отправился в город узнать, куда отступает неприятель. Только что он выехал на площадь, как увидел двенадцать французских кирасиров, ехавших рысью. Их остановили и объявили пленными; потом наткнулись на новую толпу бежавших французов, взяли в плен генерала Дювенана и, подвигаясь все дальше и дальше, выехали наконец к берегу Эльбы. Мост через нее уже был разрушен, и по уцелевшему бревну перебирались два какие-то офицера. Эмануэль повелительным тоном приказал им вернуться. Они вернулись, и один, распахнув шинель, показал свои ордена: это был граф Лористон, бывший посол при С.-Петербургском дворе. Эмануэль принял от него шпагу и приказал дать ему казачью лошадь. В эту минуту к мосту подошел французский батальон, и Эмануэль не заметил сам, как очутился среди неприятеля. В таком положении только присутствие духа могло спасти его самого от плена. Чувствуя, что здесь раздумывать нельзя, Эмануэль крикнул батальону: “Bas les armes!” (клади оружие.) Батальон заколебался. Не давая ему опомниться, Эмануэль выхватил саблю, оглянулся назад и громким голосом скомандовал: “Марш-марш!” Полагая, что в тылу у них появилась русская кавалерия, французы положили оружие. Майор Ожеро, брат известного маршала, и с ним пятнадцать офицеров подошли к Эмануэлю, чтобы вручить ему свои шпаги. Эмануэль возвратил их назад на честное слово. Во время странного шествия, когда Эмануэль ехал во главе четырехсот французов, положивших перед ним оружие, Лористон обратился к нему с вопросом: “Кому я имел честь отдать свою шпагу?”
“Русскому генерал-майору, – отвечал Эмануэль, – командиру трех офицеров и восьми казаков”.
Нельзя не прибавить, что громадная победа, одержанная в этот день, была ознаменована таким множеством трофеев, что прекрасный подвиг Эмануэля не был даже замечен. Напрасно Эмануэль выходил с представлением о награждении трех бывших с ним офицеров георгиевскими крестами. Блюхер отказал на том основании, что они, занесшись так далеко, сами должны были быть в плену, а не других брать в плен.
С переходом за Рейн, Эмануэль в корпусе графа Сен-При участвует первого марта в деле под Реймсом. Малочисленные русские войска, внезапно атакованные самим Наполеоном, понесли поражение; Сен-При получил смертельную рану, и Эмануэль, приняв от него начальство, успел задержать французов настолько, чтобы дать возможность отступить остаткам разбитого корпуса. Передавая подробности этого боя, Скобелев, в известной переписке русского Инвалида говорит: “Уныние овладело всеми, и только один Эмануэль, духом неустрашимости вознесшись превыше опасности, действовал как прямой герой и, подобно орлу с полета, блюл общую пользу. Много было в корпусе генералов старше его чином, но ни один из них и не подумал оспаривать у него старшинство в этом случае”.
Через несколько дней Эмануэль был уже под стенами Парижа и преследовал французские войска, очистившие столицу. Последняя стычка произошла двадцать пятого марта у города Ла-Ферте-Але, и последние выстрелы, закончившие собой эпоху наполеоновских войн, прогремели в отряде Эмануэля.
За обе кампании Эмануэль получил Георгия на шею, анненскую ленту, Владимира 2-го класса и чин генерал-лейтенанта. По возвращении в Россию, он командовал четвертой драгунской дивизией, и в этом звании его застает назначение на Кавказ.
Таково было прошлое нового начальника линии.
Эмануэль прибыл в Ставрополь 22 сентября 1826 года, в самый период затишья на Кубани. Но наступило это затишье не вдруг. “Кубань вечно с кровью течет”, – говорили старые люди, раздумчиво следя, как мутные, желтые воды ее, клубясь и пенясь, неслись к далекому лону Черного моря. И слово их было верным отражением действительности. Если и случалось на берегах Кубани затишье, то оно было только временным, и затем горячая кровь опять перемешивалась с холодной водой быстрой реки. Даже зима с ее суровыми морозами, в которые легко одетый горский витязь неохотно надевал холодную кольчугу, не всегда служила оплотом для наших станиц, потому что крепкий лед, сковывавший Кубань, представлял слишком заманчивый мост, чтобы не воспользоваться им для быстрого налета. Все это оправдывалось на верхней Кубани в самом начале 1826 года, когда 17 января, в районе кавказского линейного казачьего полка, появился темиргоевский вождь Джембулат с партией.
Джембулат перешел Кубань в трех верстах от станицы Тифлисской и потянулся на север к казачьим хуторам, раскинутым по верховьям речки Бейсуги. Секрет вовремя заметил неприятеля и выстрелил. Тревога подхвачена была соседними станицами. Казачьи офицеры Гречишников с тифлисской, Бабалыков с казанской и Чуйков с ладожской сотнями понеслись к хуторам наперерез Джембулату. Набег темиргоевцев не удался. Джембулат повернул назад, преследуемый казаками, которые не могли, однако, нанести ему вреда, так как густая цепь метким огнем своим держала их на почтительном расстоянии. Джембулат почти без потерь дошел до Кубани, но здесь ожидала его засада, – переправа была занята пешими казаками, подоспевшими из Тифлисской станицы. Партия смешалась. Пользуясь этой минутой, все три сотни, скакавшие по пятам Джембулата, врубились в толпу и сбросили ее с крутого берега в реку. Лед не выдержал и обломился. Многие всадники пошли ко дну; другие торопились уйти, но казаки, быстро обогнув обрыв, настигли и рубили бегущих. Пятьдесят тел, множество хороших лошадей и ценного оружия досталось казакам в добычу. Этой неудачи долго не могли забыть в горах, и Джембулат поклялся отомстить Тифлисской станице. Через три года он сдержал свое слово.
Набег Джембулата имел еще свое особое значение для казаков Кавказского полка, станицы которых не запомнят нападений со стороны горцев с тех пор, как полком начал командовать Дадымов. Но Дадымов погиб в минувшем году, и горцы в короткое время уже другой раз пытались проложить себе путь к полковым хуторам, рассчитывая, что вместе с Дадымовым исчезла и доблесть старых украинцев. Но заветы Дадымова свято хранились в полку, да и майор Васмунд, заменивший Дадымова, оказался достойным его преемником.
Весело возвращались казаки по своим станицам. И как только перед ладожской сотней показался церковный крест, горевший в утренних лучах восходившего солнца, казаки по обыкновению затянули песню про своего любимого, безвременно погибшего командира Дадымова. Эта песня, как и все почти народные русские песни, быть может, не имеет литературных достоинств, но в ней бездна поэзии; она согрета чувством и заменяет надгробный памятник, который не могло сокрушить даже само время, так как она и до сих пор поется потомками тех, которые ее сложили.
Во горах то было, во крутых горах —Как за речкою то было – за рекою Белою,Как сизые ли то орлы – со лесов орлы солеталися,Так князья горские из гор соезжалися.Собрались-то князья, они, на высок курган,Думали князья думушку единую;Передумавши, князья сделали сражение,Как ни малое оно было, ни великое – всего ровно пять часов,На шестом-то часу стали тела разбирать.Во сражении том убили майора Дадымова;Положили тело его на черную бурочку,Отнесли его во станицу Ладожскую.Здесь кстати сказать несколько слов о характеристике этого не забытого до нашего времени героя кавказского линейного войска.
Еким Макарович Дадымов был родом осетин православного вероисповедания и как представитель своего времени и сословия совмещал в себе много и светлых, и темных сторон. Рассказывают, что он дружил с нашими непокорными соседями, и даже был кунаком самого Джембулата. Грозный темиргоевский князь не раз приезжал на Кубань видеться с Дадымовым и проводил с ним по несколько часов в приятельских беседах или в пиршествах под открытым небом. Эти приятельские связи не остались без влияния и на самый ход военных событий. Джембулат, как говорят, обещал не тревожить станиц и хуторов кавказского полка, которым командовал Дадымов, а Дадымов со своей стороны должен был смотреть сквозь пальцы и даже вовсе не видеть проделок своего приятеля в районах других, соседних полков. К подобным договорам нельзя конечно относиться строго и обсуждать их с точки зрения абсолютного права, потому что в них отражался дух времени и нравы тогдашнего казачества; они существовали и до Дадымова, и после него; даже начальство знало о них и только делало вид, что ничего не знает. К тому же эти стороны выкупались действительными боевыми заслугами Дадымова. Джембулат и при таких договорах должен был вести дела в соседних районах весьма осторожно. Ему могли сходить только те похождения, о которых русский кунак его узнавал от лазутчиков. Но едва у соседей зажигался маяк и сигнальная пушка возвещала тревогу, Дадымов налетал как снег на голову, и горе было кунакам, не успевшим уклониться от его удара. А уклониться было трудно, потому что лошади в кавказском полку и день и ночь стояли оседланные. Расплоха там никогда не бывало. При первом ударе набатного колокола Дадымов выскакивал на площадь и стрелял из пистолета – это был условный сигнал, по которому казаки со всех сторон собирались на тревогу. Нередко бывало, что неловкая шайка его кунаков вся погибала под его же ударами. И черкесы никогда не относили подобных погромов к вероломству Дадымова, а обвиняли неловкость вожаков, не сумевших покончить дела без шума и тревоги.
Дадымов погиб, как известно, в деле под Тлямовым аулом 18 августа 1825 года. Дело было очень жаркое; орудия переходили из рук в руки. И вот в один из таких моментов, когда пример начальника решает участь битвы, Дадымов врезался в толпы неприятеля и был изрублен. Казаки бросились выручать его, но было уже поздно: он вынесен был из боя покрытый смертельными ранами и на руках своих казаков скончался. Красивое лицо его было так обезображено ударами шашек, что его не решились показать семейству, и жена видела только гроб, в котором проносили его на кладбище.
Набег Джембулата семнадцатого января был последним крупным военным происшествием на линии. Одиночное появление хищников в наших пределах продолжалось по-прежнему, но открытая вражда горцев ничем особенным о себе не заявляла; о ней можно бы было совершенно забыть, если бы в начале 1827 года спокойствие не нарушилось двумя событиями, о которых в летописях края сохранились воспоминания. Одно из них таинственное, загадочное, случилось в первых числах апреля, в те неустановившиеся дни, когда зима еще не решается покинуть землю, а весна приближается робко, медленными шагами. В такое-то непогодное время в окрестностях Бекешевской станицы появилась партия. Прекрасно вооруженная, одетая в кольчуги и шлемы, двигавшаяся медленно и стройно, она казалась видением средних веков. Кто ею предводительствовал, куда направлялась она, какая была у нее цель? – осталось неизвестным. Партия была открыта на правом берегу Кубани. Но пока казаки со всех окрестных постов и станиц скакали на тревогу, она так же таинственно исчезла, как неожиданно и появилась. Ногайцы, сидевшие аулами на том берегу реки, видели, однако же, как партия, перейдя обратно Кубань, потянулась в лес, начинавший одеваться свежей листвой. Казаки пустились в погоню. Ночь, и без того темная, в лесу казалась еще темнее; снег пополам с дождем слепил глаза и затруднял преследование. Иногда казакам казалось, что они окружали таинственного неприятеля, но когда пары сближались, в кругу никого не оказывалось. Так никому и не удалось даже увидеть загадочных всадников. И если бы присутствие их не обнаруживали ружейные выстрелы, от которых время от времени падали казаки, их действительно можно бы было принять за видение. Не только лазутчики, но даже сам известный ногайский батырь Генартук Лафишев, участвовавший в погоне вместе с казаками, не мог узнать, даже впоследствии, были ли то абадзехи, темиргоевцы или беглые кабардинцы.
Другое происшествие, также довольно загадочное, случилось три недели спустя, в окрестностях той же Бекешевской станицы. На поезд генеральши Корсаковой, направлявшейся в своем старомодном дормезе к Пятигорским минеральным водам, сделано было нападение. Повар и камердинер генеральши, ехавшие впереди в особом экипаже, были убиты; кучер, лошади и дорожные сундуки – исчезли бесследно. Генеральшу конвоировала целая сотня казаков, но замечательно, что ни в этой сотне, скакавшей за дормезом, ни на соседних постах – нигде не слыхали выстрелов; пикеты спокойно оставались на местах, точно на большой дороге не происходило ничего особенного; даже о самом происшествии узнали только тогда, когда передние казаки наткнулись на два трупа, брошенные поперек дороги. Тотчас дали знать в Бекешевскую станицу; оттуда выехала новая сотня, но и она никого и ничего не открыла.
Эта последняя тревога и несколько мелких предшествовавших ей случаев, бывших вдали от передовой линии и даже в окрестностях самого Ставрополя, побудили нового начальника линии генерала Эмануэля приступить к обозрению края. Результатом этой поездки явился проект о новом устройстве кордонной линии, сущность которого заключалась в следующем: Эмануэль предполагал оставить передовую линию по Кубани так, как она есть, а дальше вести ее через большую Кабарду до Минарета. Минарет соединить кратчайшим путем с Назраном, а оттуда по Сунже и Судаку выйти к Каспийскому морю. Таким образом все старо-казачьи поселения, раскинутые по Тереку, обращались уже во вторую, или резервную, линию.
Такую же вторую линию Эмануэль предполагал образовать и за Кубанью, где лежали обширные, никем не охраняемые пространства, представлявшие горцам свободный доступ к нашим мирным селениям. Страх вражеских нашествий отражался на жителях, лишенных даже права под карой суровых законов носить оружие, так сильно, что часто по одним ложным слухам о вторжении горцев, целые деревни разбегались, и край пустел на долгое время. Подобный случай был даже на глазах самого Эмануэля в 1827 году, отличавшимся еще сравнительной безопасностью. Поэтому вопросу об учреждении резервных линий Эмануэль придавал большое значение и на нем основывал даже дальнейшие успехи русской колонизации.
Другой замечательной стороной проекта Эмануэля была мысль о привлечении самих кавказских горцев к отбыванию на новых линиях кордонной службы наравне с казачьими войсками, – иначе, мысль о присоединении их в состав казачьих земель о разделении на полки и сотни. Это предложение, отвечавшее по своему внутреннему смыслу всему историческому быту горцев, заслуживало внимания, и, может быть, в искусных руках, благотворно отразилось бы на самом ходе кавказской войны – и, что еще важнее, на будущей судьбе кавказских народов.
Проект, грандиозный по своим размерам, требовал для осуществления своего таких же расходов, а потому и был отложен на неопределенное время. Только спустя двадцать лет начинают приводиться в исполнение некоторые из предначертаний Эмануэля, свидетельствуя во всяком случае о верном военно-политическом взгляде его и о его дальновидности.
Но между тем, как Эмануэль, увлекшись теорией, разрабатывал свой, проект, на практике дела начали усложняться. В соседстве с его районом между закубанскими народами происходило сильное брожение. С одной стороны анапский паша настаивал на выселении мирных аулов с левого берега Кубани внутрь страны, с другой – волновались сами черкесы, недовольные новым образом действий турецкого правительства. Эмануэль взглянул на это выселение горцев с точки зрения опытного администратора. В его глазах это был первый шаг к объединению закубанских племен и к образованию из них довольно сильного вассального государства Турции, которая могла бы найти в нем надежный оплот, в случае неприязненных столкновений с Россией. Не говоря уже о том, что всякая связь русских с черкесскими племенами была бы порвана, мы лишились бы возможности получать какие бы то ни было сведения о положении дел за Кубанью и вынуждены были бы, продолжая придерживаться пассивной обороны, действовать ощупью. Чтобы не дать развиться такому, не нормальному для нас порядку вещей, Эмануэль решился энергично противодействовать политике Порты. Он написал анапскому паше письмо, требуя приостановить распоряжения, клонившиеся в ущерб обоим правительствам, так как заселение левого берега Кубани мирными аулами, преграждая доступ непокорным горцам в наши пределы, устраняло тем самым всякие недоразумения между двумя соседними государствами. В то же время он предписал кордонным начальникам внимательно следить за поведением мирных, и, в случае попытки к переселению, преследовать их как изменников русскому правительству.
В наших правительственных сферах Тифлиса смотрели, однако, на это дело иначе. Распоряжения Эмануэля не только не были одобрены Паскевичем, но главнокомандующий, напротив, усмотрел в них то, чего совсем не было – угрозу представителю соседней державы. “Иное дело, – писал он Эмануэлю, – грозить мелким владельцам нескольких аулов; иное – начальнику, поставленному от дружественной державы. Первые много если разграбят несколько дворов, тогда как неудовольствие другого способно вызвать разрыв между двумя государствами. И как ни сильно российское оружие, а безвременный разрыв с Турцией при нынешней войне (персидской) может быть гибелен для здешнего края”.
Таким образом Эмануэль не нашел поддержки в высшей администрации. Но у него неожиданно нашлись союзники в лице самих закубанских народов: шапсуги, выведенные из терпения настойчивостью Чечен-Оглы, открыто восстали против турок и даже обложили Анапу. Паша очутился в блокаде. Поставленный в безвыходное положение, он – как это ни покажется странным – обратился за помощью к русскому главнокомандующему; прося его для усмирения черкесов закрыть на линии все меновые дворы и прекратить торговые сношения. Паскевич отвечал находчиво и даже остроумно. “Содержание вашего письма, – начинает он, – меня весьма удивило. В то время, как миллионы разных народов покорствуют блистательной Порте, доверенная от Порты особа, высших достоинств, встречает непокорность в горсти каких-то шапсугов – почти невероятное дело! Но если это в самом деле так, то вы, почтеннейший друг мой, верно найдете средства, приличные вашей власти, обуздать непокорных, не подавши им повода думать, что без посторонней помощи вы бессильны заставить их узнать в вас своего повелителя. Запрещать же им со своей стороны торговлю, мену и вообще сношения с русскими, я не имею власти, да это было бы не совместно с достоинством моего Государя. Другое дело, если бы Закубанские горцы, помимо вашей воли, вздумали напасть на наши границы, тогда, без сомнения, командующий войсками на линии генерал Эмануэль, по обязанности доброго союзника вашего, должен внушить им уважение к Турецкому правительству силой оружия”.
Этими-то запутанными обстоятельствами и объясняется то наружное затишье в 1825 году, о котором упоминалось выше. Вместо того, чтобы тревожить наши границы, закубанские народы устремили все свое внимание и силы на борьбу против Турции. Положение паши становится до того шатким, что он обращается к своему правительству с требованием: или прислать войска для усмирения горцев, или позволения оставить свой пост. Порта откликнулась на заявление своего наместника, и в мае в Анапу прибыли турецкие войска, которые и разместились по аулам непокорных нам закубанских обществ. На линии прошел даже слух, что турки будут строить на Кубани крепости, под благовидным предлогом удерживать в повиновении горцев, а в сущности – чтобы на случай войны иметь опорные пункты для вторжения в наши пределы.
Почти одновременно с усилением турок в Анапе, русские войска на Кубани были ослаблены, так как три полка, Тенгинский, Навагинский и Кабардинский, охранявшие линию, были отозваны в Персию. На место их прибыли из России резервные батальоны двенадцатой пехотной дивизии, под начальством генерал-майора Антропова, и хотя численный состав войск остался тот же, что был прежде, но старые, закаленные в боях полки заменились – неопытными и необстрелянными. С ними то и пришлось Эмануэлю встретить на Кубани, стоявшую уже у порога, турецкую войну.
ХХIII. ПЕРВЫЕ ШАГИ ЭМАНУЭЛЯ НА КАВКАЗЕ
В то время, как отношения между Россией и Турцией заметно обострялись и дипломатические переговоры клонились к окончательному разрыву, – на линии, и даже далеко за ее пределами, тревоги стали повторяться чаще. В марте 1828 года, еще до объявления войны, на большом почтовом тракте, верстах в восьми от Павловской станции, сделано было нападение даже на почту. Почтальон с эстафетой, ямщик и тройка почтовых лошадей были уведены в горы, почта разграблена. Из четырех конвойных казаков двое прибыли на место происшествия уже после развязки, а из двух остальных – один был убит, другой ускакал на ближайший пост дать знать о случившемся. Следствие выяснило, что партия состояла из восьми человек, преимущественно беглых кабардинцев, но что между ними находились и кабардинцы наших мирных аулов. Последнее обстоятельство, по крайней мере в глазах современников, являлось прямым последствием тех послаблений, которые допущены были генералом Эмануэлем. При Ермолове кабардинцы, ввиду известной наклонности их давать у себя приют закубанским хищникам, могли жить только на плоскости, под строгим надзором наших войск. Но как только Эмануэль отменил это право и кабардинцы стали селиться в горах, – измена и набеги за Кубань кабардинских князей стали явлениями почти обыденными.
В числе мирных кабардинцев, участвовавших в последнем нападении, был молодой князь Магомет Атажукин, – сын известного Темир-Булата, оказавшего в начале нынешнего столетия большие услуги русскому правительству. По смерти отца молодой Атажукин бежал за Кубань вместе с отошедшими от нас кабардинцами, но скоро, раскаявшись, вернулся на родину, был прощен и даже назначен членом народного кабардинского суда. Беспокойный и тщеславный характер юноши не мог мириться, однако, с такой прозаической деятельностью, – и в результате явились сношения с закубанскими князьями, а затем и участие в разграблении почты. Атажукина арестовали. Некоторое время он даже содержался в тюрьме, но потом, когда ему возвратили свободу за круговой порукой всех кабардинских князей, он снова бежал за Кубань и, предводительствуя уже большими партиями горцев, сделался грозой линии. В тридцатых и сороковых годах печальная, но громкая известность Атажукина достигла своего апогея. Его история и романтическая смерть – впереди.



