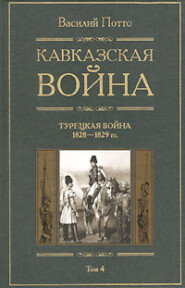 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 4. Турецкая война 1828-1829гг.
Войска и остановились ночевать возле деревни. Несколько армянских старшин явились в лагерь просить о выдаче им охранных листов и добивались позволения видеть Паскевича. Они сообщили ему, что приближение русских войск вызвало в Гассан-Кале совершенную панику. Гарнизон бежал, и сераскир, желая спасти хоть что-нибудь из огромных запасов, находившихся в крепости, приказал собрать арбы со всех окрестных деревень и на них перевозить эти запасы в Арзерум. Паскевич спросил их, откуда они это знают. “Наши армяне вчера поехали с арбами и еще не возвратились”,– отвечали они откровенно.
До Гассан-Кале было всего пятнадцать верст, а потому главнокомандующий, не теряя времени, двинулся со всей кавалерией к покинутой крепости, рассчитывая захватить по крайней мере то, что не успели вывезти. Пошли налегке и форсированным маршем. Вечер был чудный. Солнце уже склонялось за горы, играя причудливыми цветами радуги на каменных скалах, когда кавалерия поднялась на высокий гребень, и перед ней открылась широкая долина, в конце которой рельефно вырисовывались белые стены Гассан-Кале. С гор было видно, как турецкие войска, обозы и жители, спешившие уходить к Арзеруму, двигались по двум дорогам и следы их обозначились густыми облаками пыли, в которые ударяли последние косые лучи заходящего солнца. Часть кавалерии тотчас пустилась в преследование и, проскакав за ночь верст двадцать пять, отбила пятьдесят армянских семейств и до двух тысяч голов скота. Паскевич между тем занял покинутую крепость без боя и нашел в ней двадцать девять орудий, порох, снаряды и несколько хлебных магазинов. Восемьдесят армянских семейств, оставшихся в городе и составлявших теперь все его население, встретили русских с крестами и иконами.
Гассан-Кале – одна из древнейших крепостей турецкой Армении. Ее основание приводят в тесную связь с Арзерумом и относят к началу V века, когда Армения переживала один из самых тяжелых кризисов. Раздираемая внутренними смутами, опустошаемая персами, успевшими отторгнуть от нее многие земли, погибавшая страна вынуждена была, наконец, искать покровительства сильной Византии. И вот, каталикос ее, Нерсес Великий, скорбя о горькой участи своего народа, отправил посольство к императору Феодосию с просьбой принять Армению под свою защиту. Во главе посольства стоял св. Мисроп, знаменитый изобретатель армянской письменности. Он развернул перед императором картину страдания родной земли в таких живых и мрачных красках, что император не мог отказать в покровительстве и тотчас отправил в Армению своего полководца Анатолия, поручив ему построить крепкий город, способный охранять народ от внешних врагов. Жизненным центром Армении был в то время город Арзен, лежавший в богатой Коринской провинции, и его-то захотел Анатолий прежде других обезопасить от нападения персов. С этой целью на единственно доступном пути к нему, на крутой и высокой скале, он воздвиг свою первую крепость и назвал ее в честь императора, своего повелителя, Феодосиополисом. Чуждое армянскому языку название это не могло легко привиться к народу, и жители, в отличие от своего Арзена, стали называть его Арзен-ер-Рум, то есть “Арзен, построенный римлянами”; это название вскоре получило такую популярность, что и вся провинция Корин стала называться Арзен-ер-Румской.
Впоследствии, когда турки завоевали край и истребили в нем все христианские названия, древний Феодосиополис променял свое имя на турецкое Гассан-Кале. Но армянское название его не умерло для населения: народ перенес его на главный город провинции, который с той поры стал называться Арзерумом. Гассан-Кале продолжал еще долгое время играть видную роль в обороне края, нося почетное название “стража Арзерумской долины”. Но турецкое правительство с каждым годом обращало на него все меньшее и меньшее внимания; когда русские в 1829 году заняли Гассан-Кале, стены его были полуразрушены, внутренняя площадь заросла травой и бурьяном, а некогда искусные подземные ходы к воде давно обвалились и о самом существовании их можно было только догадываться. Пушки, большей частью негодные, валялись в величайшем беспорядке, и только шесть из них были поставлены на кое-какие лафеты.
Самый город или, вернее, предместье Гассан-Кале поднимается амфитеатром по западному склону горы и обнесено стеной с бойницами. Дома каменные, двухэтажные, такие же, как в Карее, с плоскими крышами, балконами и деревянными террасами вроде мезонинов. Небольшой городок этот приятно поражал своей чистотой – качеством столь редким в азиатской Турции. Гассан-Кале служил резиденцией бека Верхне-Пассинского санджака, дом которого отличался от других только обширностью, да красным карнизом, которым обведены были чисто выбеленные стены. Бежавший бек покинул его на произвол победителей, и в комнатах, украшенных каминами, уставленных широкими и низкими диванами, на которых ага, окруженный своими одалисками, с трубкой и шербетом предавался восточной лени, теперь поместился Паскевич.
Против южных стен города, за каменным мостом, по ту сторону речки Гассан-Су, с давних времен существуют источники горячей минеральной воды. Они посреди местных развалин невольно останавливают на себе внимание. Кроме нескольких небольших открытых купален, здесь замечателен обширный каменный бассейн, над которым руками византийцев воздвигнуто большое здание с куполом. “Когда я туда вошел,– рассказывает Радожицкий,– бассейн был наполнен купающимися солдатами. “То-то раздолье, готовая баня! Ай да турка, спасибо ему! – кричали солдаты, ныряя в горячей воде и отдуваясь. Недалеко от бассейна есть другой источник холодной кислой воды, которую русские люди, ложась ничком, пили с большим наслаждением, как готовый квасок”. Много есть данных предполагать, что эти минеральные источники были известны с давних времен и что некогда греки имели здесь свою колонию. Позднее, когда на прилежащей скале возникла византийская крепость, городок, под ее покровительством, стал быстро расти, шириться и развиваться. Но на свете всему бывает конец. Пришли турки-сельджуки, и благосостояние городка, населенного христианами, было разрушено. Политические бури смяли его, и ныне Гассан-Кала представляет лишь жалкие остатки прошлого величия. Обширное кладбище, дошедшее до наших дней, только одно и свидетельствует о древней населенности этого города.
Паскевич, лично осмотревший крепость, сделал распоряжение о немедленном исправлении поврежденных стен и об установке на них новых орудий. Он уже решил перевести сюда из Зивина все транспорты, чтобы сблизить их с действующим корпусом, и Гассан-Кале получал таким образом для нас значение важного опорного и складочного пункта на самом соединении дорог из Карса и Баязета.
Обстоятельства слагались так благоприятно, что к занятию Арзерума, казалось, уже не могло возникнуть серьезных препятствий. Но главнокомандующий медлил походом. Он осмотрительно готовился к этому важному шагу и принимал все меры, чтобы покорить многолюдный городок моральной, а не физической силой. Мысль эта, как надо думать, давно уже занимала Паскевича; по крайней мере, отправляя из Ардоста пленных, он оставил из них тех, которые были уроженцами Арзерума, и теперь отпустил их домой, щедро одарив на дорогу деньгами. Эти люди и должны были первые расположить умы народа в пользу победителей.
В числе этих пленных находился некто Мамиш-ага, человек умный и пользовавшийся большим влиянием на жителей. Он то и вызвался добровольно распространить по городу русские прокламации. “Что вас побуждает к такому рискованному шагу?” – спросил его один из офицеров. “Я был свидетелем высокого военного искусства русских,– отвечал он,– и потому желаю спасти своих соотечественников от неминуемой гибели”. В три часа пополудни пленные тронулись в путь, и Мамиш-ага повез с собой прокламации. В этих воззваниях, обращенных к жителям, выражалось полное миролюбие Паскевича по отношению к покорным и сулилась гроза неповинующимся.
“Под державою русских монархов,– говорилось в ней,– целые миллионы мусульман пользуются полной свободой вероисповедания, законов и обычаев. Эти мусульмане, довольные справедливым правлением, молят Бога о продолжении славы и могущества России; они добровольно спешат под знамена ее и с мужеством сражаются против врагов своего государя. Обещаю, что в случае добровольной сдачи вам сохранятся вполне обряды вашей религии, честь ваших семейств и ваша собственность, если же станете упорствовать – то напрасное пролитие крови падет на вас самих. Истреблю всех, кто поднимет против меня оружие, пощажу тех, которые изъявят покорность и мирно останутся в домах своих. Ожидаю ответа, который не замедлите доставить”.
Вот в ожидании этого-то ответа и результата своих прокламаций Паскевич и медлил походом.
Между тем, в полдень 24 июня, к Гассан-Кале подошел и весь действующий корпус. Полуденный зной давал себя чувствовать так сильно, что в войсках во время перехода было несколько случаев солнечного удара. Каменистая, покрытая илом земля горела под ногами, и слои серой пыли с головы до ног покрывал и людей и животных.
В Гассан-Кале не обошлось и без происшествий, показавших русским, насколько могут грозить им на каждом шагу измена и месть со стороны турецких патриотов. Ночью в городе вспыхнул пожар, грозивший страшными бедствиями, так как из горевшего здания солдаты успели выкинуть большое количество пороха. Если бы огонь успел дойти до него,– взрыв стоил бы жизни не одному десятку русских солдат, работавших на пожарище. Ветер между тем дул прямо на соседний дом, где ночевал главнокомандующий. Бросились будить Паскевича, и, к общему ужасу, в самих дверях его кабинета наткнулись на два большие бочонка пороха, которых с вечера никто не видел. Тотчас осмотрели соседние дома, но там ничего не оказалось. Злой умысел был очевиден – порох оказался турецкий. Но кто мог затеять это адское дело, когда в городе не было ни одного мусульманина? Пришлось предположить, что шайка злодеев скрывалась где-нибудь в подвалах и пользовалась потайными ходами, которых в Гассан-Кале было немало. Только благодаря Промыслу здесь, как и в Зивине, Паскевич избежал явной опасности.
Еще не утихла ночная тревога, как на рассвете поднялась другая: с аванпостов дали знать, что впереди слышна сильная ружейная перестрелка. Послали разведочные партии, а между тем вся кавалерия села на коней. Но скоро дело разъяснилось, приехал войсковой старшина Калмыков, делавший ночью разъезд в соседние горы и доложил, что это он имел стычку с курдами и отбил у них с тысячу голов рогатого скота, потеряв при этом трех казаков – одного убитым и двух ранеными. Главнокомандующий потребовал его к себе. “А сколько их было?” – спросил Паскевич о курдах. “Да тысячи четыре было”,– отвечал войсковой старшина, разумея быков. Все ахнули: никто не ожидал, чтобы после двух поражений, испытанных турками, могла явиться четырехтысячная конница. Паскевич задумался. “Как! – воскликнул он наконец.– Их было четыре тысячи, и ты атаковал их одной сотней?”. Войсковой старшина окончательно растерялся. “Курдовс-то было всего сотни две,– отвечал он простодушно,– они ограбили жителей, а я ударил в пики, отбил с тысячу голов и пошел назад… А еще много-много скота осталось в руках у них”,– добавил он с сожалением. “Ну, спасибо, Калмыков, и за это,– весело сказал главнокомандующий,– на первый раз не мешало попугать разбойников”.
Случай этот, ничтожный сам по себе, показал, однако, с какой осторожностью нужно было нам высылать небольшие отряды, так как неприятель держался возле самого лагеря.
Ночная сумятица, пожар и тревога не помешали, однако, торжеству, назначенному еще с вечера на двадцать пятое число июня. Это был день рождения императора Николая Павловича, и войска в десять часов утра уже стояли под ружьем в красивой долине, над которой уединенно и угрюмо возвышала Гассан-Кале свои ветхие стены. Посреди долины, в зеленом шатре с приподнятыми полами установлена была походная церковь, и старший иерей в сослужении всего военного духовенства совершал литургию. Мусульманские полки стояли отдельно, вокруг аналоя, где был мулла и лежал священный Коран. В чужой земле, столько веков оглашавшейся с высоких минаретов лишь возгласами одних муэдзинов, шестнадцать тысяч русских воинов с сердечным умилением благодарили Бога за дарованные им победы и молились о здравии и благоденствии своего монарха. “Молебствие служилось уже вне палатки, под открытым небом, под сенью победных знамен. Когда при пении “Тебе, Бога, хвалим”, грянул пушечный залп,– он, казалось, будил тени римлян, первых обладателей Гассан-Кале,– и старая крепость, давно уже не дымившаяся порохом, отвечала на него дружным салютом. Зрителей было немного – два-три десятка местных жителей,– но как знаменательно было для них все то, что они видели, в чем так рельефно сказывалось торжество креста над турецким полумесяцем. По окончании молебствия перед войсками прочитан был приказ главнокомандующего:
“Снова обращаю к вам благодарный голос мой, войска закавказские, храбрые товарищи мои, едва переступили вы предел прошлогодних завоеваний, как многочисленный враг уже истреблен вами…
Трофеи двух достопамятных битв, славно исполненных в продолжении двадцати пяти часов, свидетельствуют о вашем мужестве неодолимом. Вы отняли у неприятеля всю его артиллерию, все снаряды, и запасы боевые, и продовольственные, девятнадцать знамен, до тысячи пятисот пленных, и самого военачальника турецкого Гагки-пашу, первого сановника после сераскира, славного в Азии и личной храбростью и военными способностями, взяли в плен. Столь полной победой обязан я вам, и на мне лежит священный долг повергнуть всемилостивейшему государю ваши труды и мужество. Вы истребили врага совершенно; для вас открыт теперь путь в недра тех стран Азии, где две тысячи лет живет слава побед великого Рима. Идите тогда с радостью, достойные воины! Она, услышав гром вашего оружия, станет вам во сретение и позднейшее потомство с воспоминанием римских побед в Азии соединит и ваше доблестное имя”.
Войска слушали приказ с безмолвным благоговейным чувством; все знали достоверность событий и внутренне сознавали, что не случайности, а лишь неистребимому мужеству обязаны они своими необычайными успехами. Чтение приказа закончилось громким ура, пронесшимся по рядам торжествующего войска. Полки прошли церемониальным маршем и затем разошлись по своим палаткам. Военное торжество окончилось. После полудня весь русский лагерь предавался живому веселью и отдыху. Генералы и все штаб-офицеры обедали в этот день у главнокомандующего. Похода никто не предвидел, никто не ожидал, но он был близок. В самом начале обеда Паскевичу подали какую-то записку; он прочитал ее и положил в карман, не сказав никому ни слова, как будто бы полученное им известие не заключало в себе ничего значительного. Главнокомандующий был весел и словоохотлив. При громе пушек провозгласил он тост за здоровье государя, потом за храбрую русскую армию и наконец за будущие надежды. Но едва смолкли обычные звуки музыки, как главнокомандующий встал и объявил, что через час корпус идет к Арзеруму. В лагерь послали приказание бить сбор и выступать, оставив обозы и парки на месте. “Это по-цезарски” – замечает в своих записках Радожицкий.
Поводом к столь быстрому походу послужила записка, доставленная Паскевичу во время обеда; она была из Арзерума, от Мамиш-аги, который писал: “Муллы и почетные жители принимают ваше предложение, граждане готовы покориться, но сераскир и войска возбуждают в народе волнение. Идите и не давайте разгораться мятежным страстям, с которыми после трудно будет управиться”.
Паскевич решил немедленно идти к Арзеруму. В пять часов пополудни войска стояли уже в совершенной готовности к движению. Приехал Паскевич– и колонны тронулись с надеждой назавтра стать у ворот Арзерума.
XXV. ПОКОРЕНИЕ АРЗЕРУМА
Весть о поражении турецких армий быстро долетела до Арзерума, поразив все мусульманское население его страхом неожиданной и близкой опасности.
В городе поднялось невероятное смятение. Сераскир пытался было поддержать дух населения, разглашая повсюду весть о совершенном поражении русских, но скоро все иллюзии горожан были разрушены. По следам быстрой молвы появились бегущие из Гассан-Кала: турецкие войска, и преследующая их русская конница остановилась всего лишь в пятнадцати верстах от города. Тогда сераскир, не скрывая более горькой истины, обратился к народу с горячим воззванием. Призывая жителей на защиту веры, семейств и домашних очагов, указывая им на сильные подкрепления, спешившие со всех сторон к Арзеруму, он старался возбудить мужество населения, обещая, что Аллах благословит их усилия. Национальная гордость и религиозное чувство были затронуты. Восточные жители легко переходят от одних впечатлений к другим, и горожане теперь толпами ходили по улицам, призывая гибель на головы гяуров. А между тем в городе уже появились прокламации Паскевича, они призывали народ к порядку и к повиновению русскому вождю, который один располагал судьбами Анатолии.
Мамиш-ага, посланный Паскевичем, прибыл в город в сумерках 24 июня, но то, что он узнал здесь от людей к нему близких, обещало мало хорошего. Большая часть народа уже стояла за упорную защиту города, и Мамиш-аге предстояло действовать с крайней осторожностью в отношении черни, всегда буйной и движимой первыми впечатлениями. Сообразив всю опасность и трудность принятой на себя задачи, он прежде всего обратился к Аян-аге, губернатору Арзерума. Тот обсудил все доводы, приведенные Паскевичем, все шансы к защите, которые были в распоряжении турок, и невольно согласился, что одна покорность может спасти и город и жителей. Тогда он созвал городских старшин и прочитал перед ними воззвание русского главнокомандующего, причем Мамиш-ага со всей убедительностью очевидца разъяснил, что средства русских велики, войска непобедимы, искусство полководца неимоверно. Живой рассказ соплеменника, уважаемого всеми за ум, прямодушие и твердость, не мог не произвести впечатления, и старшины единодушно положили склонять народ к добровольной покорности.
Однако же к буйным толпам, ходившим по улицам с криком: “Умрем за веру и пророка!” – было безрассудно явиться с категорическим предложением сдачи. Решено было прибегнуть к хитрости. Далеко за городом, на обширной поляне, стоял целый ряд палаток, занятых, как уверял сераскир, подходившими войсками, но Аян-ага знал отлично, что палатки были пустые и никаких войск в них не было. Ночью он приказал потихоньку снять их, а наутро, когда проснувшиеся жители не увидели на обычном месте военных шатров,– им объявили, что войска разбежались, и сам сераскир намеревается покинуть город, оставив жителей на произвол судьбы и победителей. Молва быстро разнеслась по всем концам города и опять вызвала общее смятение. Военный караул, стоявший на городском валу, бросил свои места; толпы запрудили площадь, наполнили все улицы и, видимо, не знали, что делать. Тогда арзерумские старшины явились среди них с воззванием русского вождя, убеждая народ пощадить кровь своих собратьев и народ, отуманенный страхом, с восточным фатализмом покорился этому решению.
Несколько почетных старшин вместе с губернатором города тотчас отправились к сераскиру объявить, что граждане желают сдать город. Пораженный неожиданным поворотом дела, сераскир долго старался отклонить их от этого решения то убеждениями, то угрозами и, наконец, сказал: “Делайте, что хотите, но я и мои паши не будем видеть этого несчастья: мы оставим город” – “Ты и твои паши в дни мира и спокойствия были нашими правителями, и теперь в дни бедствия должны разделить наш жребий,– отвечали старшины и объявили, что никого не выпустят из Арзерума. У сераскирских ворот тотчас поставлен был караул из жителей, а Мамиш-ага тайно отправил в русский лагерь гонца с известием о том, что происходит в городе. Это и была та самая записка, которую Паскевич получил двадцать пятого июня во время торжественного обеда.
Между тем русский корпус, ночевавший в этот день на реке Наби-Чай в двадцати верстах от Арзерума, с рассветом уже готовился двинуться дальше, но вдруг дали знать о прибытии двух турецких чиновников. В одном тотчас узнали Мамиш-агу, другой был Капиджи-баша, то есть начальник городских ворот. Они привезли от сераскира просьбу прислать уполномоченное лицо для заключения капитуляции, а Мамиш-ага кроме того вручил главнокомандующему письмо от арзерумских жителей.
“Мы совершенно поняли смысл присланной нам прокламации,– сказано было в этом письме.– Чувства великодушия и человеколюбия, вас отличающие, внушают вам намерение сохранить мусульман и невинные семейства, живущие в Арзеруме. Поэтому просим прислать к нам уполномоченного, дабы сераскир, паши, улемы и вельможи арзерумские могли вступить с ним в переговоры”.
Капиджи-баша словесно подтвердил всеобщую готовность арзерумских граждан к добровольной покорности, но заметил, что никак не ожидал найти наши войска так близко от Арзерума. “Сераскир и народ,– говорил он,– полагают, что вы еще далеко, под стенами Гассан-Кала, теперь, увидя русских у ворот Арзерума, буйная чернь легко может воспламениться фанатизмом, и тогда трудно будет ручаться за последствия”. К этим словам Капиджи-баша прибавил, что около Арзерума войска не найдут даже воды для лагеря, так как все родники находятся под выстрелами городской обороны и советовал Паскевичу вести переговоры отсюда.
Такая забота о русских интересах показалась главнокомандующему подозрительной. “Турки, кажется, желают задержать нас, но это им не удастся,– сказал он начальнику штаба и, обратясь к Капиджи-баши, прибавил: – именно только у ворот Арзерума я и предложу вам свои условия”.
Тотчас ударили подъем и войска тронулись. По пути Мамиш-ага нашел удобный случай сказать Паскевичу: “Вы хорошо делаете, что идете вперед. Сераскир с намерением отдаляет сдачу города под разными предлогами; он ожидает подкреплений – Кягьи уже идет из Аджарии. Мне нельзя было сказать вам это при товарище. Но вы сами поняли дело”.
За речкой Наби-Чай кончается Гассанкалинская равнина и начинается подъем на хребет Деве-Бойне, где дорога пролегает по узким горным ущельям. Порывистый, чрезвычайно сильный ветер и движение войск по известковому грунту подняли такую страшную пыль, что затемнили солнце, в двадцати шагах ничего нельзя было видеть.
В четырех верстах к востоку от города корпус остановился и занял позицию на берегу ручья с холодной ключевой водой. Далее воды действительно не было до самого фонтана, устроенного под выстрелами крепости.
Как только в Арзеруме заметили появление русских войск, часть турецкой конницы тотчас вышла из города и, рассыпавшись в поле, завязала перестрелку с казаками; войска между тем разбивали лагерь, а главнокомандующий готовил в это время ответ на письмо арзерумских граждан, которое Мамиш-ага и Капиджи-баши должны были доставить по принадлежности. Вместе с ними поехал и генерал-майор князь Бекович-Черкасский, уполномоченный вести переговоры и заключить капитуляцию.
Проводив посольство, Паскевич лег на бурку и устремил внимательный взор на окрестности. Резкий, холодный ветер, вырываясь из ущелья, порывисто проносился над его головой, но, казалось, не мог вывести его из задумчивости – он весь ушел в созерцание лежавшей перед ним столицы, и только по временам быстрый взгляд его, перебегая высокие минареты, углублялся в синеющую даль, будто желая проникнуть в самую глубь Анатолии. Прямо перед ним выдвигалась укрепленная высота Топ-Даг, пологим скатом подходившая к обширному предместью, за которым стояла крепость. Возвышенность эта командовала городом и могла считаться главным оплотом и ключом Арзерума. На вершине ее протянулись земляные шанцы, вооруженные пушками, и стояла часть неприятельской пехоты. К северу шла гряда гор, удаленная от предместий более нежели на два пушечные выстрела, а по другую сторону, на юго-запад, в тесной связи с городским кладбищем, возвышался отдельный продолговатый холм, также увенчанный целым рядом укреплений. Далее шли городские валы, крепость и наконец цитадель. И Паскевичу невольно должна была представляться мысль, что при единодушии жителей нелегко будет преодолеть стотысячное, на половину вооруженное население, стоявшее под защитой полутораста пушек, которыми были унизаны оборонительные верки Арзерума.
А тем временем русский парламентер князь Бекович-Черкасский на глазах у всех уже приближался к городу. Его сопровождали оба турецкие чиновника, переводчик, два офицера – поручик Миницкий и сотник Медведев, пятнадцать линейных казаков и пять узденей большой Кабарды, служивших при князе телохранителями. Едва эта небольшая кучка всадников выехала за русскую передовую цепь, как с городского вала по ней открыли пушечный огонь. Не обращая внимания на выстрелы, Бекович продолжал ехать шагом. Но когда ядра стали чаще проноситься над головами казаков, то Каниджи-баша вместе с Мамиш-агой просили позволения отправиться вперед, чтобы остановить пальбу. Князь согласился. Через полчаса выстрелы смолкли, а вслед за тем вернулся Мамиш-ага, приглашая князя следовать далее. Причину вероломного поступка он объяснил своеволием нескольких праздношатающихся негодяев, которые, пользуясь удалением с батареей артиллеристов, захватили орудия.



