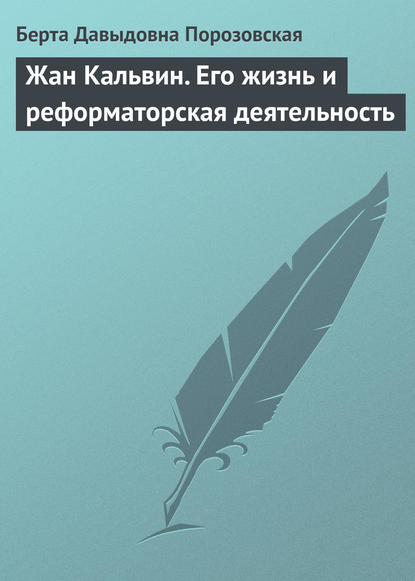 Полная версия
Полная версияЖан Кальвин. Его жизнь и реформаторская деятельность
Пять лет тому назад такое послание, может быть, оторвало бы Женеву от реформации. Теперь оно только оказало ей услугу. Тем не менее, воззвание Садолета произвело впечатление. Совет принял его и отвечал в очень любезных выражениях, обещая впоследствии заняться рассмотрением этого вопроса. Католики ободрились, в самой Женеве многие стали громко обнаруживать свои католические симпатии. Некоторые из изгнанных католиков осмелились даже вернуться на родину.
Соблазн мог оказаться слишком сильным, необходимо было возразить Садолету. Но, увы! Чтобы ответить такому красноречивому защитнику, необходимо было талантливое перо, а женевские проповедники были людьми более чем заурядными. И тогда – сначала тихо, потом все громче – стало раздаваться имя Кальвина. Даже враги его должны были признать, что только он один сумел бы дать этот ответ. Кальвин в Страсбурге знал, чего от него ожидают. Он не мог оставить свою прежнюю паству в таком беспомощном положении, и ответ Садолету не замедлил появиться (1 сентября 1539 года).
Этот ответ был действительно мастерским произведением, одной из самых блестящих полемических работ реформатора. Он написал его в шесть дней, но, несмотря на эту спешность работы, а может быть, и благодаря ей письмо к Садолету отличается тем огнем и той образностью речи, свойственными импровизации, которые совершенно чужды большинству его более обдуманных произведений. Садолет особенно идеализировал единство и старшинство католической церкви. Кальвин отвечает изображением испорченности этой единой церкви и сразу уничтожает все впечатление картины, нарисованной его противником. Последний только слегка коснулся догматических вопросов, Кальвин выставляет их на первый план и с необыкновенным жаром и убедительностью защищает свою религиозную систему. Но самым блестящим пунктом этого ответа является его собственная защита. Садолет обвинял Кальвина в честолюбии; но что же дала ему, что ему могла дать реформа такого, чего бы он не мог добиться, и с гораздо меньшим трудом, на службе католической церкви? Он сам стремился к одному: жить в мире и работе. Не собственное желание, а ход событий, воля Божества вывели его на арену борьбы. От этой общей защиты он переходит потом к защите своей деятельности в Женеве: что он делал такого в этом городе, чего не одобрил бы всякий друг порядка и нравственности, хотя бы даже католик? Садолет упрекал его в том, что, проповедуя об оправдании верой, он проповедовал ненужность добрых дел – странный упрек человеку, который подвергся изгнанию именно за свою требовательность в этом отношении. “Если бы ты обратил внимание на мой катехизис и те инструкции, которые я написал для Женевы, то замолчал бы на первом слове”. Шаг за шагом следует Кальвин за своим противником и разбивает его во всех пунктах. Садолет, как мы видели, закончил свое послание изображением суда Божия. Кальвин пользуется тем же приемом, чтобы оправдать себя от обвинения в новшествах. “Я видел, что Евангелие заглушено суеверием, что Слово Божие намеренно утаивается от сынов церкви – что же мне оставалось делать?.. Если нельзя назвать изменником того, кто, видя расстройство воинов, поднимает знамя полководца и снова строит их в ряды, то неужели я заслуживаю этого названия, я, который, видя расстройство церкви, поднял старое знамя Иисуса Христа?”
На этот ответ со стороны католиков не последовало более возражений. Вся протестантская Европа читала его с восторгом. Даже Лютер, вообще не симпатизировавший швейцарскому реформатору, отозвался о нем с большой похвалой. В самой же Женеве впечатление, произведенное этим ответным посланием, было громадным. Приверженцы Кальвина ликовали. Они с гордостью повторяли, что только он один способен был дать отпор католикам, что, несмотря на все случившееся, он продолжает любить этот неблагодарный город. И с этим, конечно, нельзя было не согласиться.
Таким образом, последняя попытка католицизма вернуть утраченную власть дала совершенно противоположные результаты. Она оказала услугу одному Кальвину. Письмо к Садолету было шагом к его примирению с женевским народом.
Политические дела также стали благоприятствовать Кальвину. Враждебная ему партия с синдиком Иоганном Филиппом во главе, сильно скомпрометировала себя договором с Берном, которому она уступила часть владений Женевы. За такую государственную измену Иоганн Филипп был осужден на казнь (в июне 1540 года), а скоро после того погибли и другие три синдика, содействовавшие свержению Кальвина. С тех пор призвание последнего стало делом решенным.
21 сентября 1540 года совет поручает одному из своих членов, Ами Перрену, “изыскать средства, чтобы убедить господина Кальвина вернуться в Женеву”. Перрен пишет Кальвину, Фарель также уговаривает его принять приглашение. Но Кальвин и слышать об этом не хочет. “Я содрогаюсь, когда вспоминаю о своей жизни в Женеве, – отвечает он Фарелю. – После Бога, тебе одному известно, что я только потому оставался там, что не смел уклоняться от обязанностей своего звания, указанного мне самим Богом. Поэтому я готов был выносить все, лишь бы не покидать своего поста. Но теперь, когда я, по милости Бога, стал свободен, неужели я добровольно окунусь опять в эту пучину? И если бы меня даже не пугала опасность для себя, то неужели я могу серьезно надеяться, что сумею там действовать с пользой? Кто образует большинство в Женеве? Ни я, ни они не сумеем ужиться друг с другом… И к тому же, говоря правду, здесь, в Страсбурге, благодаря мирной, спокойной жизни я совершенно разучился управлять массами”.
Так писал он Фарелю. В таком же тоне он отвечал другим друзьям, хлопотавшим о том же. Кальвин действительно не мог забыть всех вынесенных унижений и боялся их повторения в будущем. Но в основе этих отказов, несомненно, лежал и расчет. Он чувствовал, что победа от него не уйдет. Он не желал возвратиться только на правах помилованного изгнанника; ему надо было, чтобы гордость женевцев была сломлена, чтоб право помилования принадлежало ему, чтоб он мог вернуться победителем и предписывать законы тем, которые не сумели без него обойтись. Расчет был верный, и он добился своего.
Мысль о возвращении Кальвина овладевает гражданами Женевы с упорством настоящей idee fixe. He только его приверженцы, весь народ этого желает. Все чувствуют, что только его твердая рука может положить конец всем беспорядкам – забыты его строгости, его “тирания”. Об этом возвращении только и говорят, только и думают. Протоколы совета наглядно рисуют нам, как вопрос о возвращении изгнанного проповедника мало-помалу заслонил собою все заботы дня.
13 октября в совете было решено: “Написать письмо господину Кальвину и просить его оказать нам свое содействие”. Податель письма, друг реформатора, должен был посетить и других проповедников в Страсбурге и просить их действовать на Кальвина в том же смысле.
19 октября в “совете двухсот” постановлено: “Ради величия и славы Божией, употреблять все средства, чтобы иметь Кальвина проповедником”.
20 октября генеральный совет постановляет: “Послать в Страсбург просить maitre Жана Кальвина, этого ученого мужа, быть проповедником в этом городе”.
21 октября повелено, чтоб Ами Перрен отправился, в сопровождении герольда, с письмом к Кальвину. Решено также просить страсбургцев не противиться отъезду реформатора.
22 октября составляется самое письмо к Кальвину. От имени малого, большого и генерального совета последний в самых почтительных выражениях приглашается вернуться к прежней деятельности, “так как народ этого очень желает, и мы будем стараться, чтобы Вы были нами довольны”.
Кальвин в то время был на сейме в Вормсе. Не застав его в Страсбурге, женевские посланные отправляются за ним в Вормс. Кальвин отвечает на переданное ими письмо в довольно неопределенных выражениях. Он охотно исполнил бы их желание, но связан разными обязательствами: из Вормса он еще должен отправиться в Регенсбург, да и отпустят ли его страсбургцы. При этом он, однако, не забывает ставить свои условия – он хочет быть не простым проповедником, а восстановителем церкви, требует, чтобы бернские и страсбургские власти дали открыто свое согласие, и во всяком случае он согласен приехать в Женеву только на время.
С тех пор между Кальвином и женевцами завязывается оживленная переписка. Последние согласны на все условия, письма летят за письмами, посольства следуют за посольствами. Но Кальвин то готов уже согласиться, то снова отступает в ужасе перед грозящими ему опасностями. “Вернуться в Женеву? – пишет он Вире, – отчего лучше не идти на крест?” Но Вире, приглашенный на время в Женеву из соседней Лозанны, и Фарель, и Бусер, и многочисленные друзья во всех евангелических кружках не перестают его уговаривать. Страсбургцы соглашаются его отпустить. Фарель снова стращает его гневом Божьим, и наконец Кальвин уступает.
Женева победила, Женева ликует. С тех пор, во все продолжение лета 1541 года, совет поглощен заботами о том, как бы торжественнее обставить его возвращение. Старательно придумывают, чем бы можно было ему угодить, восстановляют его прежние законы церковной и гражданской дисциплины, призывают назад его изгнанного друга, Матюрина Кордье. Несколько заседаний совета посвящено лишь вопросу об отыскании для него удобной квартиры “с садом”. С лихорадочным нетерпением женевцы ждут его, “нашего дорогого брата, который нам безусловно необходим, которого народ так страстно требует”. И наконец, под 13 сентября, мы читаем в протоколах: “Maitre Жан Кальвин прибыл из Страсбурга и очень извинялся в своем долгом промедлении”.
Возвращение изгнанного проповедника было настоящим триумфальным шествием. Еще раньше, чем он выехал из Страсбурга, навстречу ему был выслан герольд; Фарель был приглашен участвовать в торжественной встрече. Народ приветствовал его восторженными криками. Кальвин вернулся в Женеву настоящим победителем. В тот же день было решено за счет города перевезти семейство Кальвина из Страсбурга и просить страсбургцев уступить его Женеве навсегда. Ему назначили годовое жалованье в 500 флоринов (1200 руб.), 12 мер пшеницы и два ведра вина. Магистрат поднес ему даже сюртук, за который уплачено было из городских сумм восемь талеров (десять рублей). Заботливость властей о его удобствах порой доходила до смешного.
Глава VII. Реформы Кальвина
Влияние Страсбурга на развитие реформатора. – Кальвин осуществляет свою программу. – Церковные ордонансы. – Роль проповедника. – Конгрегация и консистория. – Протестантские инквизиторы. – Кальвин – диктатор Женевы
Три года, проведенных в Страсбурге, имели большое влияние на характер и развитие реформатора. В сущности Кальвин всю жизнь оставался таким же, каким мы его видели молодым студентом в Париже – это все тот же неутомимый труженик, равнодушный ко всему, что не имело прямого отношения к его деятельности, аскет, презирающий все радости жизни, все тот же accusativus, нетерпимый к слабостям других, педантичный, болезненный, раздражительный. Но годы тревожной жизни, непрерывной борьбы закалили его, сделали еще недоступнее мягким человеческим чувствам. Вся его сухая фигура, несколько надменная аристократическая манера, длинное, бледное лицо со впалыми щеками и тонкими губами, холодный блеск его черных глаз – все в нем говорило о несокрушимой воле, которая не потерпит никакого противодействия, внушала в одно и то же время и уважение и страх. Прежняя робость, неуверенность в себе давно исчезли. Со времени выхода “Христианской институции” религиозные убеждения Кальвина оставались неизменными. Но благодаря пребыванию в Страсбурге, знакомству с немецкими теологами, его умственный горизонт расширился, идеи выиграли в ясности и систематичности. Теперь перед нами вполне сформировавшийся реформатор и законодатель с ясной и твердо намеченной программой действий, не знающий никаких сомнений и с неуклонной энергией идущий по тому пути, который он считает единственно правильным, указанным ему самим Богом.
Действительно, если в душе у Кальвина когда-нибудь зарождалось сомнение в правильности его образа действий, сомнение в том, имеет ли он право огнем и мечом заставлять других верить в то, во что он сам верит, то теперь эти сомнения должны были рассеяться окончательно. Для такого фаталиста, как он, последние события должны были служить самым убедительным доказательством его непогрешимости. Этот самый народ, который так позорно изгнал его, так покорно лежит у его ног, умоляет его вернуться. Разве это не перст Божий? Ведь он сам не добивался этого возвращения… И самое его первое появление в Женеве – ведь и тогда он был лишь орудием высшей воли. Нет сомнения, – сам Бог привел его сюда, чтобы провести на деле то учение, которое Он его устами возвестил миру в “Христианской институции”. И потому горе тем, кто пойдет теперь против Кальвина – как в большом, так и в малом. Они уже противники не его, а Бога, а таким не может, не должно быть пощады.
Впрочем, первое время после своего возвращения Кальвин обнаруживал необыкновенную умеренность. С великодушием победителя он пощадил прежних проповедников, хотя ему стоило сказать лишь слово, чтобы они были немедленно смещены. Всеобщая покорность и подобострастие, очевидно, тронули его. В своей первой публичной проповеди он ни словом не напомнил о прежних событиях, “против ожидания всех”, как он сам рассказывает. Но эта кротость и умеренность, в сущности, так мало согласовались с его натурой, что он сам не может надивиться своей сдержанности. Ему кажется, что никто на его месте не поступил бы так, как он, не пощадил бы своих противников. “Ты вряд ли поверишь этому, – пишет он одному другу, – а все-таки это так: я так дорожу сохранением мира и согласия, что сам насилую себя. Я даже словами не мщу своим врагам. Господь да поддержит меня в этом настроении”.
Действительно, Кальвин только насиловал себя, поступая таким образом. По его убеждению, быть кротким, умеренным – значило потворствовать злу. Ему надо было только расположить к себе народ, не вспугнуть его слишком резким переходом к новым порядкам. Но эти порядки были, по его мнению, необходимы, и он, не теряя времени, принимается за дело.
Уже в первом заседании совета, после извинений за долгое промедление, он предложил приступить немедленно к водворению порядка в церкви. В тот же день была назначена комиссия из шести членов совета, которые должны были помогать Кальвину в выработке нового церковного устава. Все они принадлежали к числу безусловных поклонников реформатора и, понятно, во всем соглашались с ним. Благодаря этому проект устава был готов уже через несколько недель и 28 сентября представлен совету. Надо полагать, что чтение проекта вызвало во многих членах тревожные предчувствия будущего. Некоторые из них даже предпочли не явиться на следующее заседание. Им было сделано строгое внушение, и проект, хотя и с некоторыми изменениями, прошел; 9 ноября он был одобрен и “советом двухсот”, а 20 ноября, в окончательной своей редакции, утвержден генеральным собранием граждан.
Таким образом, Кальвин добился того, чего ему не удалось достигнуть в первое свое пребывание в Женеве. Изданные ордонансы представляли полный церковный кодекс, составленный в духе “Христианской институции”. Кальвин мог быть довольным. Уступки, которые ему пришлось сделать, снизойдя к “слабости времени”, были довольно ничтожны. В главном и существенном все его требования были удовлетворены, остальное представлялось только делом времени. И Кальвин не бездействовал. Целым рядом отдельных мер и постановлений, принятых после более или менее сильного сопротивления, он дал Женеве то образцовое церковное и гражданское устройство, которое превратило свободную демократическую республику в теократическое государство, управляемое деспотизмом “женевского папы”, а веселую шумную Женеву – в мрачный город с суровыми, почти монастырскими нравами.
Рассмотрим прежде всего его церковную реформу.
Кальвин разделяет людей, призванных к заведованию церковными делами на четыре категории: проповедники, учителя, старейшины и дьяконы. Последние заведовали благотворительной частью. Но первенствующая роль в церковном управлении принадлежит проповедникам. Это – “слуги божественного слова”; они должны “возвещать слово Божие, учить, увещевать народ, раздавать причастие и вместе со старейшинами налагать церковные наказания”. Всякий кандидат на это звание должен подвергнуться предварительно испытанию в коллегии проповедников. Испытание это касается: 1) его правоверности, 2) его умения проповедовать, 3) безупречности его поведения. Если результат испытания оказался удовлетворительным, то на него, по апостольскому обычаю, возлагают руки, и он считается избранным. После этого он представляется совету, который имеет право одобрить выбор духовенства или отвергнуть его; совет, в свою очередь, велит возвестить об этом выборе во всех церквах гражданам, которые также могут сделать возражение, если у них имеются для этого серьезные основания. Но, в сущности, все это – одни формальности. Кальвин счел бы непростительной дерзостью со стороны мирян, если бы они стали отвергать того, кто был найден достойным со стороны всего духовенства. Как мы уже говорили, то участие, которое автор “Христианской институции” предоставлял общине в церковном управлении, на деле сводилось к простому одобрению.
Принятый таким образом проповедник должен был принести совету присягу в ревностном исполнении своих духовных обязанностей и в соблюдении гражданских законов, “насколько последние не будут противоречить его обязанностям перед Богом”. После этого он считался связанным со своей общиной теснейшими узами. Он не имеет права уезжать без разрешения, даже добиваться другого места. В свою очередь ни община, ни власти не могут его лишать этого звания без достаточно веских причин, какими считаются только очевидная ересь или преступность поведения. Как слуга и наместник Бога во вверенной ему общине проповедник имеет право на уважение и доверие своих прихожан. Оскорбивший его навлекает на себя не только гнев Божий, но и кару гражданских законов. Община должна заботиться о приличном содержании для проповедника. Кальвин вовсе не требует от духовенства евангелической бедности. Он даже не запрещает духовным заботиться об умножении своего имущества, лишь бы это не противоречило строгой нравственности. Кальвин видел в этой материальной обеспеченности средство для большей независимости духовного сословия и очень часто, и в проповедях, и в заседаниях совета, настаивал на возвращении духовенству церковных имуществ, отнятых у католиков. В сущности, кальвинистское духовенство по степени своего влияния нисколько не уступает католическому. Оно не должно ограничиваться одной только проповедью, но обязано руководить всей религиозно-нравственной жизнью общества, – влияние его простирается на все сферы жизни. Увещаниями, предостережениями и наказаниями оно должно содействовать прославлению Бога и воспитанию богобоязненного поколения. Снисходительность к грешнику не подобает проповеднику, ибо он не только провозвестник истины, но и ее защитник, он – “мститель” за обиды, наносимые имени Божию. Его проповедь не должна отличаться мягкостью, он должен стараться подражать той “страстности, с которой Павел обрушивался на ложных пророков”.
Из совокупности всех духовных составляется конгрегация, или коллегия, проповедников, задачу которой составляет охранение чистоты и единства учения. Она собиралась еженедельно, под председательством самого реформатора. Здесь обсуждались различные богословские вопросы, совещались о мерах для улучшения нравственности; здесь уполномоченные конгрегации, отправлявшиеся ежегодно ревизовать деятельность проповедников, представляли свои отчеты, обвиняемые духовные являлись для объяснений; здесь же, наконец, часто обсуждались и подготавливались многие важные политические меры, так что мало-помалу значение конгрегации даже превысило значение совета. Душою этих собраний был, конечно, реформатор, которому принадлежал решительный голос и который, таким образом, являлся фактическим главою государства.
Но самое замечательное из учреждений Кальвина – консистория, или коллегия старейшин. Это было в высшей степени своеобразное учреждение – в одно и то же время и светское, и духовное, нечто среднее между инквизиторским трибуналом и судебной инстанцией, ярко воплотившее в себе теорию Кальвина о тесной связи между церковью и государством.
Членами консистории состояли все городские проповедники – числом обыкновенно шесть – и 12 мирян – “старейшин” (anciens), которые избирались из среды членов малого совета по соглашению с проповедниками. Они давали присягу в том, что будут преследовать богохульство, идолопоклонство, безнравственность, все, что противоречит учению реформации, и немедленно докладывать консистории о всяком преступном действии.
Таким образом, в этом чисто аристократическом учреждении, состоявшем из лиц, в выборе которых народ совершенно не участвовал, сосредоточивалась громадная власть – деятельность его была одновременно и контролирующая и судебная.
“Обязанности старейшины, – гласят ордонансы, – заключаются в том, чтобы надзирать за жизнью каждого члена общины”. Понятно, что на первом плане стоит вопрос о правоверности граждан. Не только открыто высказываемые мнения, даже самые помыслы подлежат контролю старейшин. Они должны наблюдать, посещает ли каждый гражданин проповедь, является ли аккуратно к причастию, воспитывает ли хорошо детей, ведет ли нравственную жизнь и т. д. Чтобы облегчить им этот контроль, каждый член консистории имеет право беспрепятственно входить в дом гражданина – и не только право, но и обязанность. По крайней мере раз в год члены консистории должны обходить все дома в городе, чтобы лично удостовериться в том, исполняются ли предписания церкви. Но и помимо этого открытого контроля, члены консистории постоянно и неусыпно следят за всем, что происходит во вверенном каждому из них городском квартале. Заметив какое-нибудь упущение, они должны стараться подействовать на виновных отеческим увещанием. Если же это средство окажется недействительным или проступок слишком значителен, то они сообщают об этом в консисторию, которая тогда обращается в судебный трибунал.
Таким образом, каждый член консистории совмещал в себе три различные функции. Он являлся и обвинителем виновного, докладывая о его поступке, и свидетелем против него, и он же наконец подавал свой голос как судья. В какой степени подобное соединение различных функций в одних руках могло содействовать интересам правосудия и беспристрастию приговоров – об этом, конечно, лишнее говорить. При этом необходимо иметь в виду, что члены консисторий получали жалованье из штрафных денег, и сама консистория представляла первую и последнюю инстанцию (за исключением брачных дел, на которые можно было апеллировать).
Деятельность Кальвина не ограничивалась, однако, реформою церковного устройства. Одновременно он работает и над проектом гражданских реформ. Беспорядки предыдущей эпохи привели управление Женевы в большое расстройство. Кальвин и тут вносит порядок и систему. Уже в начале 1543 года комиссия, работавшая под его руководством, исполнила большую часть своей программы: установлены были определенные рамки для деятельности различных государственных органов, обязанности должностных лиц обозначены в ясных и точных выражениях. Все государственное устройство Женевы получило тот аристократический и в то же время строго религиозный характер, который он защищал в своем капитальном труде.
Подверглось коренному преобразованию и устройство судебной части, которую он разработал до мельчайших подробностей. Недаром он в свое время изучал право. Кальвин вообще вникал во все. Ни одна мелочь городского управления не ускользала от его внимания. Наряду с самыми важными церковными и гражданскими вопросами реформатор занимается и самыми мелкими деталями городского благоустройства. Он пишет подробные инструкции для смотрителей за постройками, для пожарной команды, даже правила для ночных сторожей и т. д. И на всех его учреждениях лежит та печать суровой неумолимой законности, педантичного порядка, которые составляют основу его личного характера.
Но еще важнее, чем все эти постановления, было то влияние, которое реформатор оказывал своим личным вмешательством во все сферы общественной жизни. Это влияние было неограниченным. De jure в Женеве существовали и независимые гражданские власти, в виде различных советов, и коллегии духовных. Фактически же над всеми этими учреждениями возвышалась властная фигура самого “женевского папы”. Генеральное собрание граждан созывается все реже и реже: по мнению Кальвина, оно представляет собою “злоупотребление, которое должно быть уничтожено”. “Совет двухсот” также оттесняется на задний план, все дела решаются в малом совете, а на это собрание двадцати пяти олигархов, состоящих почти исключительно из его приверженцев, Кальвин имеет такое же почти неограниченное влияние, как и на коллегию духовных. И здесь, и там, и с высоты кафедры он произносит свое авторитетное слово, и это слово имеет всегда решающее значение. Выслушивалось ли оно покорно или со слабыми возражениями, как в первые годы после его возвращения, или оно вызывало взрыв неудовольствия и даже возмущения, – голос реформатора продолжал раздаваться так же решительно и непоколебимо, и в конце концов победа оставалась на его стороне. Результаты были поразительными.



