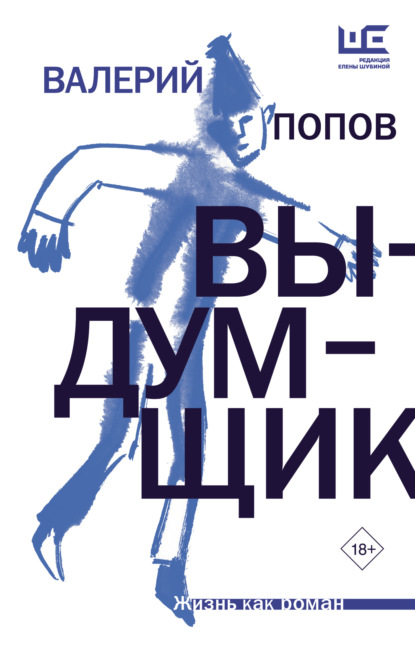
Полная версия:
Выдумщик
Воспоминания уржумской соседки. К ней вошел вдруг молодой симпатичный мужчина, волосы гладко зачесаны назад – сразу и не узнала. «Сережа, ты?» – «Я. Можно я оставлю пока у вас мой портфель? Спрячьте куда-нибудь до вечера». Зная уже «своих» ссыльных, которые жили у нее, соседка понимала, что в портфеле. Запрещенка! Могут и посадить. И Сергей понимал, что она это понимает, и тем не менее – «вежливо попросил»! Вот тебе и «деликатный Сережа»! Раньше, когда она приносила им, голодным детям, хлеб, – ужасно смущался, переживал: «Не хотите ли квасу – у нас квас очень вкусный!» А теперь – подставляет соседку с доброй улыбкой и безо всякого смущения! То, что нормальным людям нельзя, революционер делать обязан! С этого и началась трагедия, считаю я.
Вот этой фразой я и закончил политинформацию. И добавил еще: «Так что учитесь, ребята! Это самое лучшее!»
– Так, а Киров учился или нет? – донесся из зала простодушный, а на самом деле – коварный вопрос.
Только что мы говорили о его прилежании. Пришлось уточнить…
Закончив Казанское низшее техническое училище – и снова с отличием, – Сережа приехал в Томск. Только там были курсы, готовящие к поступлению в высшие учебные заведения выпускников низших заведений… как Казанское техническое. Но оказался Сережа не в высшем заведении – а в тюрьме! Сергей подружился с рабочими-печатниками, изготовлявшими прокламации. Вышли на «вооруженную демонстрацию», стреляли в полицейских и казаков, разгоняющих демонстрацию, и были жертвы с обеих сторон… «В тюрьме он тоже, конечно, занимался! – добавил я. – Но уже исключительно марксизмом-ленинизмом!»
Это был как раз наш нелюбимый предмет. В зале послышались смешки.
– Прекратить! – звонко выкрикнул Рувим. – Так какой пример подает нам великий Киров? – он повернулся ко мне.
– Пример, я считаю, опасный! – произнес я. Раз уж разжег тему, надо отвечать самому. – Сам Киров с восторгом вспоминает в своих мемуарах, как он вытащил через окно училища печатный станок – собственность училища, который, впрочем, сделал он сам, проявив больше технические и организационные способности. И он имел на это право! И даже был обязан как революционер! И на станке стали печатать листовки, призывающие к свержению строя через… поражение России в Русско-японской войне! Вы бы сейчас такое сделали? – обратился я к залу.
– Да нет… Зачем? – послышались возгласы.
– Вот и не делайте! – сказал я.
Но чего-то не хватало мне как начинающему литератору. И я добавил:
– В подвале нашего вуза тоже стоят станки – токарный и фрезерный, на которых мы проходили практику. Но мы не будем их красть. Сейчас эпоха другая. Так что будем учиться на хорошо и отлично. А станки использовать в мирных целях!.. А в вуз Киров так и не поступил!
– А в тюрьме заочного отделения разве не было? – выкрикнул кто-то.
Зал захохотал.
– Прекратить! – рявкнул Тойбин. – Переходим к комсомольскому собранию. Кто за?
Вразнобой, но подняли руки.
– Я предлагаю первым такой вопрос повестки дня: об иск-лю-чении, – повернулся к ведущей протокол и диктовал по слогам, – По-пова Ва-ле-рия из комсомола… за антисоветские и антистуденческие выступления! Все, впрочем, протоколировалось. Катюша, вы вели протокол?
– Да! – пискнула Катюша.
– Поэтому я предлагаю – решением нашего комсомольского собрания единогласно (так и сказал – и как в воду глядел) исключить Попова из рядов ВЛКСМ… За антисоветское… и антистуденческое выступление! Кто за?
– Подождите… надо же обсудить! – поднялся Миша, мой друг.
– Вы что-то хотите сказать? – Рувим повернулся к нему.
– …Нет, – Миша сел.
– Кто-то еще хочет что-то обсудить? – Рувим бреющим взглядом обвел зал. Тишина. Никто не был готов. Если бы я еще кого подготовил! Так нет. «Увлёкси!»
Встал неожиданно в президиуме пятикурсник Коля Окунев, член парткома.
– Я предлагаю все-таки… не калечить парню жизнь! И исключить его из комсомола с формулировкой «за отрыв от коллектива»! Возражений нет?
Оживление в зале! Облегчение! Все сразу заговорили по-доброму: «Ну, за „отрыв“ – можно!» «Отрывами» он и верно страдает!.. Как-то игнорировали тот факт, что из комсомола – значит, и из института. Свободы захотел? Покрасовался? Так получи! Зачем же еще увиливать? Ждали, что я чего-то еще скажу. Но я все сказал… что к этому дню подготовил.
Подняли руки. Правда, некоторые при этом опустили глаза… что, несомненно, было фактом проявления гражданского мужества. Все, переговариваясь, выходили из зала. В основном доносилось: «А что он думал? Все ему сойдет? Заигрался!» Тут я, пожалуй, согласен. Подошла ко мне только Катюша из комитета комсомола, которая вела протокол:
– Не расстраивайтесь так сразу! Еще райком должен утвердить! Посмотрим.
Как мы мрачно шутили у нас во дворе: «Посмотрим, сказал слепой!»
Райком комсомола Петроградского района находился в улочке, наискосок от Музея Кирова, и я на ходу поглядывал туда. Если что – принесу документы, подтверждающие мой доклад. Там еще много неопубликованного!.. Так что неприятностей мне хватит надолго. Тут я усмехнулся. Бодрил себя. Вон мой друг Тойбин шпарит по другой стороне. Наверное, по моей шел, но перешел. О! Мороженое! Может, съесть стаканчик… пока я еще студент. Возможно, через какой-то час я буду уже не студент. И оно покажется горьким… Восхитительно оно. С сожалением с ним расстался при входе в райком.
Роскошное здание. Типичный для Петроградки купеческий модерн. В последний раз заходишь туда. Полюбуйся! Прошел внутрь… никто не остановил, не спросил. А я уже вопрос подготовил вежливый: «Скажите, пожалуйста, а где здесь исключают?» Можно даже идиотского восторга добавить. Почему нет? Однова гуляем! Так не у кого спросить!
Открыл красивую дверь… Да! Мероприятие такое ведется! За столом президиума сидели люди (ну, а кого же ты ждал?). Но, самое поразительное, в самом центре, под знаменем, распластанным по стене, сидел… человек, который мне действительно важен, вот если он скажет – а говорить будет, видимо, он… то, значит, все правильно. Так мне и надо. Ему поверю. Юра! Мой дворовый кумир! На которого я так мечтал быть похожим… Вот не ожидал, что так будет серьезно – в смысле, для моего самочувствия. Во – сводит жизнь! И, видимо, правильно. Он даже не глянул на меня… что наполняло меня дурными предчувствиями. Я совсем упал духом. Юра будет меня исключать. А так на меня надеялся! Прямо мне это говорил. Но вышло не то, на что он надеялся! А почему? Мне кажется – я все правильно делал. Я поднял глаза. Но Юра разговаривал с сидящими с ним с какой-то кислой улыбкой… Так это он, может, делает не то?.. Красная скатерть! Из такой шаровары у меня были! Может быть – рассказать? Во-во! Еще и госпитализируют! Юра наконец-то поднял свои голубые глаза… Ледяные! А ты чего ждал?
– Итак, – тусклым, скучающим голосом заговорил (спасибо, что без вдохновения). – Рассматривается вопрос… – значительные паузы всегда умел держать, – …об утверждении исключения из рядов ВЛКСМ, – как-то скороговоркой, мне стало даже обидно, мог бы торжественней, – …студента первого курса ЛЭТИ Валерия Попова.
Как сиротливо тут прозвучали звуки моего имени!
– Райком комсомола Петроградского района… такого-то числа (так и произнес – «такого-то») на своем заседании рассмотрел предложение комитета комсомола первого курса физического факультета ЛЭТИ об исключении Валерия Попова из рядов ВЛКСМ…
Зачем то же повторять?!
А ведь он когда-то хвалил меня!
– Из текста представленного протокола, – чуть оживленней заговорил, – нам абсолютно не ясно, в чем состоит вина исключаемого, в чем именно он нарушил устав ВЛКСМ. Райком комсомола Петроградского района не посчитал убедительными обоснования и не утвердил исключение из комсомола студента ЛЭТИ Валерия Попова. Председателю комитета Тойбину Рувиму выносится порицание за необоснованное обвинение. Всё!
Он захлопнул гроссбух и, так и не глянув на меня, ушел в маленькую дверку.
Я сразу не понял… Не исключили, что ли? Вот это да!
«…А куплю-ка я себе эскимо!» – решил сразу. Купил. Вкус тот же! И даже еще вкуснее! Ура.
– Рубани! – сказал кто-то рядом со мной. Это был Юра. Так говорили мы, когда кто-то выходил во двор, бахвалясь съедобным.
– Кусни! – я протянул ему эскимо.
Рувим с той стороны улицы смотрел с ужасом, как первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ откусывает от моего эскимо. Поймав взгляд Рувима, я пожал плечом: «Что делать? Отказать невозможно».
Тут уже накинулись на меня друзья, которые, оказывается, были рядом.
Медленно, порой мучительно, но процесс морального выздоровления пошел. Как? Я и говорю – «мучительно». Мы с друзьями решили связать себя узами брака, создать семьи. Но произошло это после суровых испытаний, которые необходимо было пройти. Жизнь преподнесла нам урок!
…Недавно, проезжая по Кольскому полуострову в печали (все было занавешено пургой), я вспомнил вдруг, что когда-то здесь было довольно весело. Хибины были (не знаю, как сейчас) наимоднейшим местом, сюда съезжались покрасоваться лучшие люди Питера и некоторых других городов – успешные, спортивные, элегантные, веселые – и безоглядные, как мы. Весь мир был у наших ног – как та сияющая снегом гора. Безоговорочно веря в свое всемогущество – загорелые, гибкие, каждый мускул звенел, – мы съехали однажды с друзьями вчетвером вниз на лыжах и решили продолжить путь в поисках необычных приключений (обычными мы были уже пресыщены). Внизу оказалось темновато. К тому же разыгралась пурга!
Наконец, мы выбрались на глухую улицу. Почта, родная до слез, с голубенькой вывеской. «Надеюсь, почтальонша – хорошенькая?» – высокомерно подумал я… Как же! Старуха. И даже – две. И тут работал некий телепатический телефон? – вскоре появились еще две, ничуть не краше. Их стало вдруг четверо… как и нас! К чему бы это?
Хихикая, они сели на скамейку напротив, как на деревенских танцах. Потом появилась вдруг горячая кастрюля пахучего зелья, в котором путались какие-то травы, но которое тем не менее мы почему-то принялись жадно пить. Вскоре я стал замечать, что мы сделались довольно неадекватны – хохотали, расстегивали рубахи. Опоили нас? Вдруг Слава, мой ближайший друг, взмыл в воздух. От зелья шел пар – видно плохо. Но я успел разглядеть, что самая маленькая, коренастая – настолько маленькая, что почти не видно ее, – вскинула моего ближайшего друга на плечо и куда-то понесла. Зачем? Догадки были самые страшные – и, увы, почти оправдавшиеся. Руки-ноги его безвольно болтались… а ведь сильный спортсмен!
– Вячеслав! – вскричал я.
Но тут и сам неожиданно взмыл в воздух. Куда это я лечу? Хоть бы одним глазком увидеть, кто меня несет? Может – хорошенькая?.. Но навряд ли. Кроме вьюги и завывания ветра, я ничего не видел и не слышал. Наконец, прояснилось. Но притом – испугало… Совсем другая изба, значительно более бедная, чем даже почта… Окоченел я без движения, на морозе задубел – и, как бревно, тяжело был сброшен возле печи. Сожгут меня, как полено? Ну и пусть. Воля моя была почти парализована зельем. Наконец-то я разглядел мою похитительницу… Суровая охотница, на крупного зверя. Себя почему-то не представлял в роли жертвы. Напрасно!.. Воображение мое тоже, видимо, было парализовано. Она появилась в белой длинной рубашке, похожей на саван. Я задрожал. Видимо, начал отогреваться. Хозяйка моя вдруг полезла в раскаленную русскую печь через узенькую дверцу. Зачем? Потом я вспомнил из рассказов отца, что в русской печи не только готовят, но и моются… Но с чего ей вдруг примерещилось – мыться? И, как вскоре выяснилось – в интересной компании. Вдруг из печной тьмы высунулась костлявая ладошка и поманила меня. Я замер.
Кто-то стучал в заиндевелое окно… лыжей! – разглядел я. Иннокентий махал ладонью куда-то вдаль.
– Уходим! – понял я.
Спасибо ему.
Сдвинул набухшую дверь – и в пургу. Лучше замерзнуть! Мы, дрожа, собрались на площади. Или это был широкий такой перекресток?.. Ушли?
– Моя бежит! – вдруг закричал я.
Она неслась в белой рубашке, как маскхалате, с каким-то длинным предметом в руке. Ружье? Ну это как-то уж слишком!
– Валим! – скомандовал Иннокентий.
Из соседних улиц выскочили и остальные амазонки, с разными, преимущественно недружелюбными, предметами – и криками.
Уже и вьюга нам была не страшна! Обмерзшими и какими-то молчаливыми мы вскарабкались на гору, на нашу базу…
Как и положено у русских людей – последовал долгий мучительный самоанализ, переоценка ценностей. Мы поняли, что дальше катиться нам некуда: предел!
По возвращении в город Вячеслав, Михаил, Иннокентий и я сразу же женились на своих девушках, которым столько уже лет до того морочили голову, а Иннокентий к тому же вступил в Коммунистическую партию, а затем разбогател. Так что и политика порой приносит плоды.
5
Но меня уже ждала другая стезя.
Приведя свою тетю в восторг,Он приехал серьезным, усталым,Он заснул головой на востокИ неправильно бредил уставом.Утром встал – и к буфету, не глядя!Удивились и тетя, и дядя:Что быть может страшней для нахимовца —Утром встать – и на водку накинуться!Вот бы видел его командир!Он зигзагами в лес уходил,Он искал недомолвок, потерь,Он устал от кратчайших путей!Он кружил, он стоял у реки,А на клеши с обоих боковСиневатые лезли жуки —И враги синеватых жуков![2]Аудитория поднималась амфитеатром, и он сидел на самом верху.
– Пусть староста еще прочтет! – крикнул он оттуда.
Староста литературного кружка – это я. Я, конечно, знал всех местных знаменитостей. То есть слышал о них, начиная с Гиндина, Рябкина и Рыжова – авторов знаменитой «Весны в ЛЭТИ», на несколько лет затмившей все, происходившее в нашем городе. Но они уже отучились, и все ушли в литературные профессионалы. Из более поздних я слышал, конечно, и о Марамзине, прославившемся своим буйным поведением еще в институте и теперь пишущем гениальные рассказы, которые, естественно, все боятся печатать. Известный уже… хотя бы правоохранительным органам. Просто так запрещать не будут!
Из института мы вышли вместе. Я поглядывал на него. Восточные скулы. Прилипшая от пота ко лбу черная челка. Маленькие глазки его жгли меня насквозь, словно угли. Ну? Что? Так и будем идти? – как бы спрашивал он. Так просто, ровно и гладко, как ходят и живут все, он никогда не жил и не ходил. Мы прошли с ним метров десять вдоль решетки Ботанического сада – видно, это был максимум скуки, на который он соглашался. Но тут терпение его иссякло. Он оторвался от меня и стремительно догнал идущую далеко впереди пожилую тучную женщину в растоптанных туфлях, с двумя тяжелыми сетками в руках.
«Ну вот, увидел какую-то свою родственницу, – решил я. – Сейчас возьмет ее сетки и уйдет с ней. И моя еле наметившаяся связь с большой литературой растает навсегда!»
С замиранием сердца я понимал, что встретил человека исключительного, с которым резко изменится моя судьба. Но к совсем резким изменениям не был готов. Хотя их жаждал. Но новый друг мой сбежал… Нет – не сбежал. И то не родственница! – понял вдруг я. Как-то слишком много и быстро, идя рядом с ней, он говорил и прикасался при этом вовсе не к сеткам. Потом он так же бегом вернулся ко мне и, беззаботно улыбаясь, пошел рядом.
– А, ничего не вышло! – бодро проговорил он.
Я оторопел.
– А что, собственно, тут могло выйти? – удивленно подумал я.
Я, конечно, догадывался, что иногда у мужчин и женщин что-то выходит. Но так – кидаться за первой же и это ей предлагать?! Марамзин, как я чувствовал, никак не был утомлен или огорчен своим неудавшимся марш-броском, их он, как я вскоре увидел, совершал по несколько сотен в день, всегда готовый к победе и ничуть не огорчаясь отказами. Без всякого перехода он с той же энергией заговорил о литературе, с упоением цитировал Андрея Платонова, о котором я раньше и не слыхал, но сразу же был сражен одними только названиями, которыми Володя сыпал, как горохом. «Сокровенный человек», «Усомнившийся Макар», «Впрок», «Ювенильное море», «Луговые мастера», «Река Потудань», «Джан». Володя цитировал огромные куски – я еле успевал их проглатывать, хотя прежде вроде неплохо все схватывал. Надо же, какими густыми бывают фразы и даже слова! При этом я совершенно не мог так стремительно и полностью, как Володя, отдаваться беседе, параллельно я отмечал, что навстречу нам попалось несколько неплохих студенток, а одна даже глянула на нас с интересом и улыбкой и вполне могла бы с нами пойти, в отличие от той пожилой полной женщины, который он абсолютно напрасно отдал столько огня. Но женщины его в тот момент не интересовали – к литературе он относился не менее, если не более, страстно. И самых очаровательных девушек равнодушно пропустил: не в ту минуту явились! Что не исключало, как вскоре понял я, что он, отключившись от литературы, тут же кинется за другой подвернувшейся женщиной. Он их настолько боготворил, что возраст, сложение, социальное положение, внешность не играли для него ровно никакой роли. В каком-то смысле более благородного рыцаря я в своей практике не встречал.
Стремительно разговаривая и столь же стремительно двигаясь, мы перешли Карповку и вышли на Кировский проспект. Здесь, у столовой «Белые ночи», Володя вдруг резко затормозил. Мы разглядели интерьер через витрину, быстро вошли и сели за столик, где два других стула занимали морские курсанты, как оказалось, прежде незнакомые. Володя нервно стучал пальцами по столу, а я прислушался к разговору соседей… вдруг поймаю сюжет?
– Вот я – ни за что не хотел в морское училище, ругался с родителями, чтобы туда не идти! – заявил прыщавый курсант. – Все же заставили, пошел. Теперь глубоко страдаю.
– У меня все наоборот, – усмехнулся второй. – Я жутко хотел в училище. Родители были против. Но я настоял. Результат тот же самый, что и у тебя!
Сочувствуя друг другу, они помолчали. Я кинул вороватый взгляд на Володю. Услышал? Усёк? Украл? То же самое я прочел в злобноватом взгляде Марамзина. Мы с ним, как те два курсанта, учимся одному, об одном страдаем.
– Мы должны напиться! – хмуро и решительно сказал Марамзин.
– Что так?
– Надо! – отрубил он. – А то может не получиться!
О том, что «может не получиться», я боялся даже догадываться. Но «остаться на берегу» я не мог: существуют в жизни моменты, когда надо броситься со скалы, даже не зная зачем, – иначе всю жизнь будешь сожалеть о чем-то непознанном.
Подошла равнодушная официантка. Оба курсанта сделали почти одинаковый заказ, ошеломивший меня: я вообще-то выпивал раньше, но не знал, что бывает так.
– Двести грамм водки. Так? – первый курсант словно бы еще спрашивал у кого-то согласия. – Так! – где-то он находил подтверждение своим мыслям. – Две бутылки пива. Ликер мятный, двести. Сто грамм «Спотыкача». И бутылку клубничной настойки! – закончив заказ, он с облегчением откинулся и улыбнулся коллеге.
Второй заказал примерно то же, но уже более уверенно. Официантка записала это все абсолютно равнодушно. Чем же можно было ее удивить?
– Нам, каждому, – то же самое, что и им! – Марамзин указал пальцем на курсантов.
Видно, считал своим долгом быть со своим народом в трудную минуту. Курсанты на нас совершенно не реагировали, словно нас за столом и не было. Впрочем, и мы скоро перестали различать их, а потом и друг друга, а вскоре и самих себя.
Очнулся я почему-то на Марсовом поле. Узнал пейзаж. Происходил ужасный бой, и мы с Марамзиным принимали в нем самое деятельное участие. Какие-то крепкие, большие люди выталкивали нас из узкого подъезда в большое и светлое пространство, выталкивали так, что мы падали. Марамзин тут же пружинисто поднимался и радостно устремлялся туда, где нас уже привычно встречала плотная, мускулистая мужская плоть. Хоть бы женская была! При одном из штурмов нам удалось нанести несколько хлестких ударов по врагу и получить в ответ удары просто-таки сокрушительные. Потом нам заломили руки и снова выкинули с крыльца. Некоторое время мы отдыхали на траве, и Марамзин снова поднялся. Я шел за ним, челюсти ныли в ожидании новых ударов. «Вот, оказывается, какой он, путь в большую литературу! Кто бы мог этого ожидать?» И – новая яростная стычка. При этом, что интересно, часть мыслей текла спокойно и ровно, как освещенные закатным солнцем кучевые облака, которые я с умилением наблюдал при очередном нашем отдыхе.
– Куда же мы все-таки так рвемся? – проплыла неторопливая мысль.
Видимо, под воздействием побоев я начал постепенно трезветь.
Реальность удалось восстановить значительно позже и далеко не полностью. Оказалось, мы рвались так яростно вовсе не на литературный олимп, а в торфяной техникум, который располагался возле Ленэнерго, в роскошных казармах Павловского полка, построенных гением классицизма Стасовым. Видимо, следуя с Петроградской, мы пересекли Кировский, в прошлом и будущем Троицкий, мост. И шли через Марсово поле, тогда площадь Жертв Революции, где чуть сами не «пали жертвою». Володя, чья чувственность была необыкновенно обострена, сумел сквозь толстые стены учуять в торфяном техникуме танцы и ринулся туда. Неясно, почему эти танцы были под столь могучей охраной дружинников? Почему наши скромные планы встретили столь богатырское сопротивление? Это неважно. Это, как говорится, внутреннее дело торфяного техникума. Главное – я осознал масштаб личности моего нового друга, который в своих устремлениях не желал знать никаких преград! Вот надо «делать жизнь с кого»! Такие и совершали революции. Правда, ошибочные. Но мы-то все сделаем как надо!
И мы сделали это! В какой-то момент ряды защитников торфяного техникума поредели, и мы прорвались туда! Реальность, как всегда, сильно уступала мечте. В тусклом маленьком зале под аккордеон танцевали несколько женских пар, весьма блеклых и далеко не молодых. Мужчин почему-то совсем не было – видимо, все были брошены на битву с нами, теперь на перевязке. Но даже при такой ситуации на появление таких героев, как мы, никто из танцующих абсолютно не прореагировал, никто даже не повернул головы! Мы были оскорблены в «худших своих чувствах»! Эта фраза появилась именно там, хотя использовал я ее значительно позже. Вот так, с кровью, они и достаются! В те годы я фразы больше копил, пока не находя им достойного применения. Но посетили торфяной техникум мы не зря! Правда, мужчины вскоре появились и таки выкинули нас, уже окончательно. Как же тут блюдут нравственность торфяного техникума! Даже трудно себе представить будущее его выпускниц. До прежнего яростного сопротивления мы, достигшие мечты, уже не поднялись и в этот раз оказались на газоне как-то легко.
Тут Володя вдруг радостно захохотал и стал кататься по траве.
– Колоссально! – повторял он.
Эти его мгновенные переходы от ярости к восторгу вселяли надежду, говорили о безграничности его чувств.
– Колоссально! Забыл! У меня ж дома отличная деваха лежит – а я тут кровь проливаю!
И мы захохотали вдвоем.
– Пошли! – он решительно поднялся.
Почему я должен был с ним идти, я не понял, но противиться его энергии мало кто мог. Мы пришли в красивый зеленый двор на Литейном. Большие окна квартир были распахнуты. Какой был вечер! У него оказались две комнаты с балконом на третьем этаже, вровень с верхушками деревьев. Нас действительно встретила высокая, слегка сутулая, хмурая девушка. Как он мог такую к себе заманить?
– Ага! Друга привел! – произнесла она мрачно и многозначительно.
Сладкое предчувствие пронзило меня. Однако Владимир почему-то не уделил ей никакого внимания и, резко убрав ее со своего пути, кинулся к столу. Там стояла маленькая старая машинка с уже ввинченным листом. Без малейшей паузы он стал бешено печатать на ней, со скрипом переводя каретку с конца в начало строки. Вдохновению его не было конца. Девушка, зевнув, закурила. Владимир полностью игнорировал нас.
Я уже устал от этих его резких «поворотов винта». Я ушел в соседнюю маленькую комнатку и там на детском диванчике уснул. Проснулся от ритмических механических скрипов в соседней комнате. Но то была не машинка! Природа этого скрипа сбила с меня весь сон! Я даже сел на диванчике и слушал, замерев. Скрип пружин (а это, несомненно, был он) становился все ритмичнее, учащался. Потом вдруг резко оборвался – и тут же, без малейшей паузы, раздался стук пишущей машинки! И действительно, на что еще, кроме этих двух упоительных занятий, стоит тратить жизнь? Эту простую, но гениальную истину я осознал именно в ту ночь! Через некоторое время стук клавиш замедлился, оборвался – и тут же вновь сменился скрипом пружин. Чем сменился скрип пружин – я думаю, ясно. Вот это человек! Жизнь его совершенна! Наконец-то успокоившись, я счастливо уснул. Утром я застал только девушку – Владимир уже стремительно умчался по своим делам.
– А когда он вернется, не сказал? – ради вежливости поинтересовался я.
– Думаю, он сам этого не знает! – улыбнулась она.
«Надеюсь, он не в торфяном техникуме?» – подумал я.



