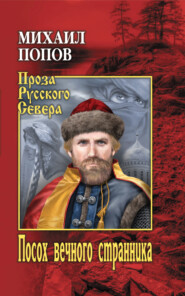скачать книгу бесплатно
Варавва закрывает глаза. То, что задумано – никуда не уйдёт. А пока стоит воздержаться. Тут может быть интересное продолжение. Он это чует.
* * *
Просыпается Варавва на заре. Слуга запрягает мулов. Хозяин лежит на арбе, но тоже ворочается, шумно кряхтя и отдуваясь. Накануне он изрядно выпил, потому тяжеловат.
Завтракать путники не садятся. До Лода всего один переход. Поедят как следует уже дома.
Слово «дом» купец катает на все лады. Он ещё не отошел от вина, хмельное ещё бродит в нём и будоражит, а потому, сидя на передке арбы, он вовсю хвастается. То расхваливает своё хозяйство, свою красильню. То с нежностью рассказывает о сыне – своем наследнике. То расписывает красавицу-дочь. То нахваливает жену, поясняя, какая она замечательная хозяйка. То заводит речь про слугу и работника, разъясняя, в каких они живут условиях. А под конец, уже без обиняков и намеков, приглашает Иосифа к себе в работники. Чего ему торопиться в Тир, куда он, как выяснилось накануне, нацелился? Поживёт в Лоде. Хотя бы до переписи. Деньжат подзаработает. А там видно будет.
Варавва делает задумчивое лицо, давая понять, что осмысливает. Но про себя решает быстро: он останется. Почему бы не провести в этом хвалёном доме хотя бы ночь?!
* * *
Дом купца стоит на окраине. Разглядеть его целиком трудно. Часть постройки закрывают инжирные и мандариновые деревья; часть – развешанные, видимо, для просушки разноцветные полотнища. Но судя по тому, что открывается глазу, дом просторный.
Передняя арба вкатывается на двор. В доме поднимается переполох. Со всех сторон навстречу спешат домочадцы. Опережая всех, летит кудрявый черноволосый мальчик лет десяти.
– Давид, мой сынок, – подхватывая наследника, смеётся купец. И целует его, целует, топя лицо сынка в своей бороде.
– М-м, – скалится ответно Варавва. Он любит мальчиков такого возраста.
Следом, шаркая сандалиями, трусит лысый мужчина.
– Это Борух, работник, – поясняет купец. Варавва безучастно скользит по тому взглядом.
С веранды дома спешит женщина. Хаим, опуская наконец сына, перехватывает взгляд Вараввы.
– Сара, моя жена.
На женщине вольного покроя одежда. Определить её стать трудно. Но коли такое видное лицо, значит, и всё остальное тому соответствует.
Уже почти неделю у Вараввы не было женщины. Желание не даёт ему покоя. И глядя на приближающуюся Сару, он думает только об одном.
Вот она протягивает навстречу Хаиму руки. У неё яркие пухлые губы. Варавва учтиво кланяется, ощупывая горящими глазами её грудь, бёдра, живот, готовый, кажется, взглядом распороть эти столь лишние одежды. Но тут… Тут в поле зрения склонившегося Вараввы возникает ещё кто-то. Лёгкая стопа, подол голубой туники – все это выпархивает неведомо откуда. Варавва вскидывает опущенную в поклоне голову, истома прошибает его чресла.
– Юдифь, дочь моя, – представляет Хаим. Варавва кивает да мычит. Сейчас он не притворяется – у него действительно нет слов, только утробное похотливое мычание.
Матушка – хороша. Ещё не поблекла, ещё и морщин почти нет, и тело, хоть и просторное, а ещё лёгкое. Но дочь! Эти огромные агатовые глазищи, эти порхающие, словно сами по себе губы, эта чистая высокая шея…
Варавва мычит. Слюна переполняет его глотку. Вот то, что он чуял. Интуиция его снова не подвела. Но одной ночи тут мало, решает он, приходя немного в себя, – одной ночью тут не обойдёшься.
* * *
Работа, которую предлагает новому работнику Хаим, оказывается нехитрой, если не сказать простой, однако для новичка немного противной. По сути это почти охота или почти ловля, только добыча тут – не зверь или рыба, а букашка.
Насекомые – разные там жуки-рогачи, какие-то блошки-вошки – гнездятся на дубах. Напиваясь дубового сока, они пухнут и раздуваются. И вот когда они насытятся до отвала, их надо выковырять и сдоить в сосуд. Удой тот невелик – капля. Но если снять сотню, тысячу этих козявок, можно нацедить целую плошку. А плошка сукровицы – это пара крашеных покрывал и накидок.
Дубовая роща, принадлежащая красильщику, примыкает к его усадьбе. Хаим самолично отводит туда нового работника, показывает, что надо делать, передаёт ему главный инструмент для работы – нож и, пожелав удачи, уходит.
– На обед, Иосиф, тебя кликнут, – бросает он напоследок. – Бог тебе в помощь!
В сиротском детстве Варавву заставляли вычёсывать вшей. Чем больше их отыщешь, тем благосклонней будет хозяин, тем, стало быть, сытней твоя похлёбка и мягче подстилка. А меньше – так меньше будут и милости. Тогда ступай на двор, крадись к псам, выхватывай у них из-под носа кости или требуху. Да беги, покуда не настигли тебя их когти и клыки. Те вши значили для сироты многое. Он любил их, преклонялся перед ними, как иной раб преклоняется перед своим господином, и одновременно ненавидел их. С какой нежностью, едва ли не сладострастием он снимал вошь с темени, с заушных складок, ласково-вкрадчиво подносил пред очи хозяина, чтобы тот полюбовался добычей, и тут же давил её. Как хрустело круглое сытое брюшко! И как брызгала из-под его ногтя алая хозяйская кровушка!
Варавва криво усмехается, касаясь ладонями дубовой коры. Это те же заушные складки, только твёрже. Детская память оборачивается возвращением навыков. Пальцы его с тех пор затвердели, однако не закостенели, они по-прежнему гибки и проворны. Купец того ещё не ведает, хотя уже испытал на себе.
Работа у Вараввы спорится. Он ковыряет и ножом, и пальцами. В маленьком кувшинце, что покоится на груди, уже побулькивает. Тесёмка, на которой висит сосуд, всё ощутимее трёт шею.
Когда солнце достигает зенита, за Вараввой прибегает Давид.
– Пожалуйте к столу, – зовёт он издалека. Глаза серьёзные, на губах ни тени улыбки. Стесняется или боится?
Нового работника уже ждут. Хозяин с деловым интересом – как тот поработал? Хозяйка со сдержанным любопытством. Слуга и работник с оттенком ревности. А Юдифь, как и младший брат, с настороженностью и робостью.
Кувшинчик с дубовой сукровицей переходит от работника к хозяину.
– О! – восклицает Хаим, заглядывая в горлышко и осторожно взвешивая сосуд на ладони. Он доволен. Работник попался проворный. Вон сколько сразу принёс. За полдня, считай, дневную меру нацедил.
Сара, радуясь удаче мужа, приглашает мужчин к столу. Хаим кивает. У него особые виды на нового работника, и он усаживает его рядом.
На столе свежая рыба, зелень, первые овощи. Варавва ест в охотку. Хозяин наливает светлого вина. Варавва мыкает, охотно принимает чашу, запрокидывая голову, пьёт. Глаза его масляно щурятся, а острый зрачок мимоходно касается полной груди хозяйки – он видел её соски, когда та, наклонясь, мыла мужу ноги; жадно отслеживает Юдифь.
Юдифь в нескольких шагах, на той стороне стола. Но ему кажется, что он чует её потаённый запах. Это запах моря, только тоньше. Это сладостный запах устрицы. Когда раковина, извлечённая со дна, уже обсохла и, ещё не раскрытая, покоится на твоей ладони. Когда ты обнажаешь нож и вводишь лезвие меж створок. Брызжет розовый сок. Створки медленно растворяются, открывая влажные перламутровые лепестки, и ты приникаешь к ним своим жадным языком.
О, этот сладкий дурманящий запах. Он не даёт Варавве покоя. Он чует его повсюду. Когда работает в роще и видит мелькнувшую на дворе голубую тунику, когда пьёт из Гефейского ручья, из которого Юдифь с матерью берут воду. Но особенно в доме, где, кажется, всё охвачено этим запахом. С трудом Варавва сдерживается, чтобы в первую же ночь не пуститься на её поиски.
* * *
Минует день, другой, третий. Наступает суббота. Правоверные иудеи, в том числе и немой работник, дважды за день идут в синагогу. В этот день Варавва умудряется остаться с Юдифью наедине. Это происходит между «минху» и «маарив», то есть дневной и вечерней молитвами. Встреча длится всего несколько мгновений – в любой момент на веранде может кто-нибудь появиться. Варавва молча загораживает Юдифи дорогу и так же молча надевает на её шейку белую камею. Это та самая вещица, которую Варавва отобрал у ромея. Нитка тонкая, она, верно, не толще, чем шрам на шее влюблённого юнца. Юдифь стоит в оцепенении, понурив глаза. Наконец Варавва открывает ей путь, и она без оглядки убегает.
Вечером Хаим приглашает нового работника в сад. Солнце катит по макушкам апельсиновых деревьев. Ещё светло.
Неподалеку от дома высится нечто вроде шатра. Это на веревках и шестах свисают полотна текстиля. Они сушатся после окраски и одновременно служат уютным навесом.
– Сюда, – поводит бородой хозяин. – Сюда, Иосиф.
В глубине навеса расстелен просторный бухарский ковёр. На нём пузатый майоликовый кувшин, блюдо козьего сыра, пшеничные лепёшки, свежая зелень, изюм. Все это причудливо золотят пятна солнца. Варавва входит под покров, опускается на колени. Здесь он это делает готовней, чем в синагоге.
Булькает густое красное вино. Полнятся стеклянные египетские кубки. Возлежа один против другого, Хаим и Варавва неспешно выпивают. Удовлетворенно урчит брюхо хозяина. Под его погуды разламываются лепёшки, смачно чавкается сыр, хрустит молодая зелень. Хозяин благодушен, он хлопает себя по животу, вновь разливает вино:
– Твоё здоровье, Иосиф!
Варавва поднимает кубок, запрокидывает голову, однако купца из виду не выпускает. Хаим отпивает глоток, потом выставляет кубок против солнца. Тень от кубка почти равновелика его лицу. Лучи пронизывают толстое стекло, густое выдержанное вино и алым маревом заливают глаза.
– Аргаман, – радостно пыхтит купец, взбалтывая в кубке вино. – Ни дать ни взять аргаман…
Его глаза натыкаются на глаза Вараввы. Ему кажется, что в них застыло непонимание.
– Цвет такой, – пучит он масляные глаза, свободной рукой хватает край пурпурного полотнища. – Вот. – Делает глоток. – Почти такой. А добывают такую краску из раковин.
При последнем слове Варавва оживает. Хаим улавливает это, принимая за интерес, и начинает расписывать, как всё делается. Однако вскоре замечает, что сотрапезник его не слушает и, ничуть не обижаясь, обрывает:
– Собирают тех раковин на побережье. Там, куда ты, Иосиф, направлялся. Ха-ха-ха! – Он благодушно чешет бороду. – А что побережье?! В Лоде не хуже. И вино, и краски. Поживёшь – сам увидишь. Поживёшь ведь? – Он чуть заискивающе заглядывает в глаза. – А, Иосиф? – И словно что-то находя в них, удовлетворённо откидывается. – Поживё-ё-ё-шь! У нас хорошо! – И как главный козырь опять выкидывает своё: – А краски-то у нас! А! И индиго! И рикпа! – Он касается желтого полотна. – А главная эта. Не пурпурная, а алая. Густа-а-я! Чуешь, как пахнет?
Нос Хаима, горбатый, мясистый нос, касается бурых ладоней.
– Талаат-шани. М-м! Божественная краска. – Он прикрывает, точно на молитве, глаза. – Истинно божественная.
Варавва принимает его излияния равнодушно. Да и что тут скажешь, если бы мог, вернее, хотел. Но Хаиму этого мало. В спокойствии ему чудится несогласие.
– Божественная, – твердит он. – Уверяю тебя, Иосиф. Во всех книгах о ней… Не мне тебе поминать… Ты в Храме служил. Но священных писаний много. Немудрено и минуть… А талаат-шани повсюду. И в Бытии, – он загибает пальцы, – и в книге Судий, и в Исходе, и во Второзаконии. Везде талаат-шани…
Хаим на секунду умолкает, снова оглядывает свои бурые руки.
– Ремесло моё от отца. Отец завещал нам с братом. Но брат не пожелал быть красильщиком. Уехал в Иерусалим, открыл сапожную лавку. А я остался. Здесь, на земле отца.
Глаза Хаима наполняются влагой – это прилив сыновней благодарности.
– В Лоде все красят. Даже ребе. Погляди на его руки. Видел нынче в синагоге? И у тебя такие будут.
Третий кубок не изменяет направления мыслей Хаима. Только слегка кидает из стороны в сторону.
– Ремесло наше давнее, – со значением твердит он и чешет голову. – Что такое белый текстиль? Это просто белёный текстиль. Твой хитон, Иосиф, – это особая статья. Это действительно царская вещь. Но прочие… – Хаим чуть брезгливо морщится. – А возьми покрась. – Он хлопает по слегка колышащимся от ветерка полотнам. – М-м! Совсем другое дело. Красиво. Нарядно. Верно? А потому – что? – Он вскидывает палец. – Потому и цена иная. Вон шёлк обыкновенный – белёный. Что он стоит? Нет, он дорого стоит. Но вот другой – гоцей крашенный. – Тыльной стороной Хаим проводит по оранжевому полотну. – А-а?! – Он ищет восхищения в глазах сотрапезника или хотя бы согласия, но, не находя ни того ни другого, не сокрушается. – То-то и оно. Потому и стоит вдвое…
Меж цветущих апельсиновых деревьев мелькает голубая туника. По стёжке, ведущей к ручью, мягко стелется юная Юдифь.
– М-м! – потягивается Варавва.
– То-то же! – подхватывает Хаим. Он не видит дочери – он не ведает истинной причины оживления сотрапезника. А тот, прикрывая глаза кубком, неотрывно и жадно косит вправо. Эти розовые пятки, эти тонкие щиколотки. И хоть все остальное покрыто шёлковой дымкой – для воображения преград нет. Она летит к ручью. Значит, на омовение. И распалённое воображение мигом сбрасывает все видимые и невидимые покровы.
Хаим всё упорнее чешет голову. Чешет так, словно о чём-то раздумывает. Потом, наконец, решается и кличет слугу. Слуга дожидается неподалеку и является живо.
– Почеши, Шауль, – велит хозяин и, упреждая возможные сомнения по поводу субботы, тут же добавляет. – Это можно. Верно, Иосиф?
Варавва хмыкает. Кто знает, что это означает. Но Хаим переводит его без запинки.
– Видишь?!
Слуга молча кивает, извлекая из халата черепаховый гребень, подвигает ближе блюдо для омовения рук, и Хаим клонит над ним голову. Чешет слуга умело. Варавва оценивает это со знанием дела. Он пропускает гребень и так, и сяк, то вдоль «шерсти», то попёрек, то замедляет ход гребня, то убыстряет, не забывая при этом снимать с зубцов невидимые былинки.
Лица Хаима не видно, но по его расплывшейся фигуре чувствуется, что он доволен. Осязаемое удовольствие доставляют прикосновения гребня, но ещё больше обласканы упёртые в блюдо глаза.
– Вошки-блошки, – ласково воркует Хаим, водя пальцем по воде. – Слава Создателю! Пока вы есть – мои дети будут сыты!
Хаим пьяноват. Однако пьяноват не настолько, чтобы не отдавать отчёта своим словам.
– Я не богохульствую, Иосиф! Видит бог! Это правда, что я говорю. Она ведь божья тварь, эта вошь. Титулов, сословий она не знает. Кусает и тех, и других. И нас, смертных, и ребе и – господи, помилуй! – первосвященников.
Раздаётся задушливый смешок.
– Видел бы ты, как Гамалиил вот эдак передёрнулся. – Спина Хаима скособочилась. – Это она… И Каиафу… – По блюду пробегает радостная рябь. – И Савла она… И…
Смешок вдруг пресекается. Нависает молчание. Хаим медленно поднимает всклокоченную от гребня голову. Глаза его выпучены.
– А того?! – Голос его пресекается. Варавва догадывается, кого поминает Хаим, но виду не подаёт. – Не зна-а-а-ю, – словно сам себе говорит Хаим. – Не заметил. Струпья видел. Язвы… После бичей… Но расчёсов… – он качает головой, – не-е… Я ведь знаю, какие от вошки расчёсы.
В глазах Хаима смятение. Однако явно не оттого, чего он не заметил. Тем более что это не единственное, что прошло, не коснувшись его сознанья.
Варавва лениво жуёт сыр, глядит на купца. В глазах его любопытство, но больше – презрения. Миражи прошлого его не занимают. Он живёт сегодняшним днём. И только этот миг ещё может что-то значить.
– А брат? – вдруг добавляет Хаим, словно невпопад и будто продолжая начатое. – Что-то с ним стряслось. А, Шауль? Ты не заметил? Я зову «Агасфер! Агасфер!», а он будто не слышит.
Шауль молчит, утянув голову в плечи, гребень в его руке подрагивает.
– И от лавки его все стали шарахаться, – тонкий голос Хаима истончается до шёпота, – словно там чума.
Слуга при этих словах икает.
Хаим машет рукой.
– Ступай, Шауль!
Хозяин раздражён. Он хватает кувшин, плещет через край вина, запрокидывает голову. Пьёт жадно, давясь и захлебываясь, аж по бороде течёт, словно в глотке его разверзлась геенна огненная.
– Ху! – наконец отрывается Хаим и ставит кубок на ковёр. Пламя, кажется, погашено. Наваждение медленно исчезает, и через минуту-другую уже как ни в чем не бывало Хаим снова принимается славить своих блох и вошек.
– Ты не смейся, Иосиф. Она мала, но она… владыка. И здесь, и в Риме владыка. – Это слово явно нравится Хаиму. – И патриции, и плебс – все под ней…
Варавва усмехается.
– Не веришь! – Хаим пускается в рассуждения. – Вот в Риме термы – бани такие. У нас тоже теперь строят. Маслятся там, умащаются, скребут – всю грязь сдирают. Едва не вместе с кожей. Парят в горячей воде. Думают – всё. А вошь-то она – не дура, она в терму не ползёт. Она переждёт снаружи, а потом чистенького-то – цап! Ха-ха-ха! Вот он и ёжится, вот он и чешется, голубчик… Худо ему… Но это полбеды. Жена его мается. Ни покою ему не даёт, ничего другого. Ха-ха! А это уже беда. Что делать? Хмурится он, ругается. Наконец, даёт жене кошель, и она бежит – куда? – да в лавку к купцу, который торгует шёлковыми туниками. То есть ко мне. А почему? Потому что шёлка вошка боится. Не смелится на него льнуть.
Хаим совсем расслабляется. Взор его снова замасливается, устремляется куда-то вдаль.
– Шё-ёлк… Шёлк – господин прилавка. Мой покойный отец в Коканд за ним ходил. В Поднебесной не был, а в Коканд, Самарканд ходил. Согдийский шёлк – всем шелкам шёлк. Оттуда и привозил.
Хаим снова разливает вино и всхохатывает:
– Вошка! Вот я и говорю, что она – царица. Давай выпьем, Иосиф, за её здоровье! Прости, Сущий, раба твоего грешного. И за ту, что на нас, и за ту, что на дубах!
* * *
Утром Варавва встаёт с тяжёлой головой. День пасмурный, всё небо в серой пелене. Под стать ему и вести. Первая достигает ушей Вараввы за завтраком. Оказывается, Юдифь готовят к свадьбе. Другую он слышит от крестьян возле ручья: дозор карательной манипулы ищет владельца какого-то ножа.
К обеду Варавва приходит с пустой склянкой. Хаим понимающе хмурится – ему тоже нынче не по себе. Не надо, ох не надо было накануне так много пить. Тем более сейчас, когда близится свадьба, а главное – получен большой заказ на крашеный шёлк.
С обедом Хаим торопит. «Работать, работать!» – подгоняет он, норовя всем дать дело. Даже маленький Давид не остается без поручения: отец посылает его на берег ручья собирать красные камни.
Вечером Варавва снова возвращается с пустым кувшинцем. Как и до обеда, он опять пролежал под деревом. Хаим недовольно поводит большим носом и молча навешивает склянку на крючок.