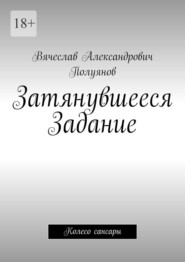скачать книгу бесплатно
За последние трое суток, которые он находился в дороге, он встретил многих людей, разных по характеру, должности, взглядам на жизнь и власть. Но все они, военнослужащие, железнодорожники, рабочие, женщины и мужчины, молодые и старые, даже дети, не высказали сомнения в победе над фашисткой Германией. Да, некоторые жаловались на нехватку продуктов, переживали о близких, ушедших на фронт, но даже у них в глазах горел огонек праведного гнева на захватчиков. Конечно, война была где-то далеко и на земле Забайкалья не рвались бомбы, не горели дома, но здесь тоже был фронт, совсем недалеко в полном вооружении ждал своего часа не менее грозный противник – японская Квантунская армия. Полностью боеготовая, не испытывавшая ни в чем нехватку, одетая и вооруженная по последнему слову техники. К тому же противник «старый», известный своим коварством, отличной выучкой и дисциплиной. На курсах контрразведки последние две недели, может, спохватившись, а может, специально, стали читать лекции о японцах как о возможном противнике. Какой-то старенький седовласый профессор Иркутского университета – где его только нашли? – два часа рассказывал о Японии, о ее обычаях, культуре. Хотя ничего особо не запомнив, Сергей сделал вывод, что японцы – нация высококультурная, дотошная и дисциплинированная. Другой преподаватель, тоже седой, подполковник, с орденом Красной Звезды, целую неделю, сбиваясь с пятое на десятое (ну не лектор!), рассказывал тактику ведения боя пехотными подразделениями японцев, сравнивал ее с тактикой немецких батальонов, часто отвлекаясь, приговаривал в прокуренные усы: «Японцы не хуже немцев, совсем не хуже, а немец – солдат серьезный, крепкий». Третий преподаватель, еще один старик, как пить дать – из бывших офицеров царской армии, неизвестно как оставшийся в живых, пытался рассказать, про японскую разведку, которая в желтолицей нации возведена в ранг искусства. И действительно, старикашка поведал, что еще в японскую войну 1904—1905 годов дрался с самураями в сражении под Ляояном. Как выяснилось, что этот «осколок царского режима» особо-то ничего сам не делал, выполнял только мелкие поручения вышестоящих начальников. Но, по отзывам офицеров, боровшихся с разведкой японской армии, было невероятно трудно изобличить шпионов, в силу особой скрытности японских агентов, невозможности их допросить в случае поимки. Будто бы существовал у них между собой кодекс войны «Бусидо», который запрещал под страхом смерти выдавать противнику сведения, да и вообще сдаваться в плен. Старичок с упоением рассказывал массу примеров о героизме японских солдат, случаи из истории. Все сведения его были скорее художественного плана, чем практического, но курсанты все же были ему благодарны, даже за эти сведения. Старик был патриотом до мозга костей, но столь уважительно относился к японским солдатам, что курсанты поневоле стали настраиваться на схватку с неведомыми грозными самураями, владевшими смертельными приемами рукопашного боя под чудными названиями, с невидимыми шпионами, владевшими столетними знаниями об убийстве людей. Тут Сергею припомнился рассказ преподавателя о древних японских разведчиках.
Это было в эпоху средневековья, когда враждующие кланы самураев боролись между собой, прибегая к изощренным и коварным методам ведения боевых действий. Один влиятельный феодал направил своего лазутчика во вражеский лагерь с целью собрать информацию о расположении войск противника, системе охраны и наличии фортификационных сооружений. Лазутчик это был из клана, который издревле специализировался на заказах по сбору информации, к тому же он был карлик. Этот шпион незаметно пробрался во вражеский замок и засел в нужном месте, куда и царь пешком ходит. Опустился в зловонную жижу и просидел там несколько дней, пока предводителю не приспичило. Когда он вошел в нужный чулан, лазутчик ткнул его отравленным дротиком и нырнул опять в фекалии и просидел там еще несколько дней, дыша через трубочку, пока шум в замке не утих. Затем благополучно выбрался, изучил расположение нужных объектов и глубокой ночью покинул вражескую крепость. Видимо, старичок тот был несостоявшийся писатель
Дрова в печурке прогорели, и огонь погас, но все равно под утро стало душно. Сергей, чтобы освежиться, вышел на улицу. Небо засерело, но было еще темно, луна своей четвертинкой желтого лица выглядывала из-за темных облаков как зловещий разведчик ниндзя. Подул легкий северо-западный ветерок, младший лейтенант вдохнул свежий воздух полной грудью и вернулся в комнату отдыха патрулей.
Дым от самокруток висел под потолком, бойцы вели между собой беседу, обсуждая виды на будущие дожди, урожай в родных местах. Сергей лег на топчан, достал книжку о похождениях знаменитого сыщика и при свете керосиновой лампы увлекся чтением.
Под утро бойцы сменились. Вновь прибывшие поставили оружие в пирамиду, скинули шинели, двое легли на топчаны, а третий раздул в буржуйке огонек, подогрел в монументальном чайнике воду, стал заваривать чай.
Утро стало напоминать о себе первыми лучиками, пробивавшимися сквозь мутное зарешеченное оконце. Сергей поднялся, засунул книжку в вещмешок, налил из бачка кружку воды, вышел на улицу, где ополоснул лицо и шею. Вернулся в помещение, быстро и споро подшил свежий подворотничок, благо уже руку набил и не считал это трудом, как было первое время службы. Смахнул пыль с сапог. Один из солдат, видя его приготовления, налил из чайника кружку густого черного чая и молча подал лейтенанту. Сергей благодарно улыбнулся, залпом выпил, взял вещмешок и пошел к коменданту.
Еще не сменившейся дежурный по комендатуре был мят и выглядел уставшим, молча ответил на приветствие, сделал отметку в командировочном удостоверении. И стал кому-то названивать, со злобой глядя на черную эбонитовую трубку. Трубка в ответ не менее злобно прохрюкала, из чего стало ясно, что скоро будет машина, и капитан сообщил Сергею, что от ворот депо в сторону нужного места пойдет полуторка и если он поторопится, то уедет на ней. Сергей поблагодарил дежурного коменданта и почти бегом двинулся в сторону заметного здания депо. Возле ворот действительно стояла потрепанная, если так можно выразиться, до изнеможения полуторка с расхлестанными бортами. В кузове сидели два бойца без оружия, женщина с узлом. Лейтенант только подошел к водителю, как тот, ни слова не говоря, махнул рукой в сторону кузова. Сергей одним прыжком запрыгнул в кузов, бросил вещмешок и уселся на него. Автомобиль резко рванул с места и не поехал, а помчался по улицам поселка Оловянная. Сидя в кузове, при утреннем свете Сергей осматривал окрестности. Поселок находился почти на берегу реки Онон, зажатый между сопок, одна из которых со стороны реки прямо-таки нависала над ним. Домишки на склонах сопок были невзрачные, с маленькими огородиками, кое-где с покосившимися заборчиками, улицы совсем не прямые, не то что у Сергея в родной деревне. Чуть ниже пролегала железная дорога, от нее ветвились пути в каменное здание паровозного депо. Среди построек здание депо выделялось своими размерами и наличием огромных ворот. Раннее осенние утро в Забайкалье было немного прохладным, и попадающиеся навстречу жители были одеты в телогрейки, шинели, куртки. Скоро дорога пошла в гору, потом слегка запетляла между домов и выскочила на вершину сопки. Водитель заглушил двигатель, и автомобиль хлестко пошел вниз. Сергей посмотрел назад. Станция Оловянная проснулась окончательно: уже по путям сновали два паровозика, пуская дымки, вдалеке виднелась небольшая воинская пешая колонна, только из-за расстояния невозможно было понять – двигается она к станции на погрузку или от нее. Потом младший лейтенант поднял голову над кабиной, посмотрел вперед на поселок Тополевка: внизу до самой реки, над которой еще виднелся туман, находились живописно разбросанные домики, тополиные рощицы подтверждали название, несколько десятков бараков и казарм, на которых виднелись красные полотнища. «Мое новое место жительства!» – усмехнулся он. При спуске с горы картина проявилась четче: то тут, то там торчали военные палатки, ряды колючей проволоки, в самом низу под горой виднелись, где были расположены ряды казарм, – вкопанные наполовину в землю длинные дощатые бараки, виднелась и военная техника. Тянулись дымки от полевых кухонь, в некоторых местах маячили фигурки солдат, строившихся то в шеренги, то в небольшие колонны. Навстречу проскочил ГАЗ—АА, груженный мешками, далее обнаружились под маскировочными сетями несколько артиллерийских орудий с уставившимися в небо стволами. Где-то зазвенела полковая труба, но расслышать мелодию было невозможно. Водитель, так не запустив мотор, въехал в поселок, порулил между домами и остановился в центре. Выскочив из кабины, крикнул: «Приехали, инвалидная команда!» – и скрылся в дверях здания с красным флагом над крыльцом.
Сергей вылез из кузова и подошел к двум командирам, идущим по своим делам, спросив у них, где дислоцируется воинская часть номер такой-то. Один из них – старший лейтенант с черными петлицами артиллериста – объяснил дорогу, и уже через пятнадцать минут Сергей входил в штаб части, где ему и предстояло служить.
Штаб представлял собой деревянный барак, с крыльцом в три ступени и деревянной дверью, обитой ободранным войлоком. Младший лейтенант вошел в здание и увидел привычную обстановку. Напротив двери стоял часовой с винтовкой на плече и примкнутым штыком, за ним на стене в развернутом виде находилось красное знамя воинской части. Над знаменем был прибит лозунг из красной материи. На лозунге белой краской четкими буквами было выведено: «Фронт там, куда направила Родина и партия». «Знакомый тезис!» – подумал Сергей и четко отдал честь знамени. Из открытой двери вышел высокий усатый сержант в новенькой гимнастерке и с нарукавной повязкой, на которой значилось – дежурный по штабу. Сержант отдал честь и спросил: «Вы к кому, товарищ младший лейтенант?». Перелыгин ответил на приветствие и пояснил, что к командиру, одновременно показав удостоверение. Сержант пробасил: «Следуйте за мной», и они прошли по слабо освещенному коридору к двери, на которой висела табличка с надписью кривыми буквами: «Полковник Рязанов В. В.». Сержант постучал в дверь и заглянул, отступив, показал рукой в кабинет. Сергей вошел в комнату. Возле окна стоял большой некрашеный стол из сосновых досок, на одной стене висела карта Союза Советских Социалистических Республик, на другой – два портрета – Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича, стандартное оформление. В дальнем углу расположился огромный, с наваренными узорами и завитушками, старинный сейф, по всей комнате стояло с десяток табуретов. За столом сидел пожилой усатый полковник, лицо было землистого цвета, в морщинах. Над левой бровью виднелся неровный белый шрам. Сергей отрапортовал о прибытии, вынул из кармана все свои документы и положил на стол перед полковником.
Командир части показал рукой на табурет и голосом с хрипотцой предложил сесть. Сергей сел. Полковник углубился в чтение документов. В коридоре, бухая сапогами, сновали люди, с улицы слышались треск двигателей автомобилей, лай собак, голоса армейцев, где-то издалека доносились нестройные винтовочные выстрелы. «Учебные стрельбы», – определил Сергей. Командир изучал документы минут двадцать, затем встал, приоткрыл дверь и крикнул в коридор: «Дежурный! Политрука и начальника штаба и старшего особого отдела ко мне!» Через минуты три в кабинет вошли два майора и капитан, все в возрасте, в коленкоровых гимнастерках с портупеями, все с сединой на висках. Только один был высокий, жилистый, второй – тучноватый, с красным лицом, а третий – капитан – как бы похож на обоих, только среднего телосложения. Командир сел за стол, прибывшие, видимо, уже по привычке тоже сразу сели. Рязанов, держа в руках предписание и командирскую книжку Сергея, сказал: «Вы садитесь, младший лейтенант». Сергей сел, полковник представил присутствующих, тот, что высокий, был политруком, а полноватый оказался начальником штаба.
– Ну, вот товарищи красные командиры, к нам прибыло пополнение, правда, не то, которое ждем, но все же в наше отделение особого отдела. Чем он будет заниматься, вы знаете. Степан Степанович, – командир обратился к начальнику политотдела, – выделите койку в казарме начальствующего состава, ну а начальника контрразведки прошу ввести в курс дела, и все остальное, что касается вашей деятельности.
Но непосредственный начальник Перелыгина почему-то промолчал. Командир полка, заполнив возникшую паузу и как бы и не к месту произнес как напутствие: «А то мне рассказали в штабе дивизии, что японцы на советско-маньчжурской границе на прилегающих сопках установили мощные телескопы, изучают советскую территорию», – и хлопнул ладонью по столу. У Сергея даже мелькнула дурацкая мысль: «Неужели отправят с телескопами бороться?», но тут же улетучилась.
Испокон веку в армии было заведено, что армейцы не всегда по-доброму относились к «органам надзора». Но каждый из трех командиров, не считая комдива, был старше Сергея как минимум вдвое, и поэтому младший лейтенант чувствовал на себе, скорее, отеческие взгляды, нежели командирские.
После того как, покинув кабинет командира, заместитель по политработе вызвал порученца и Перелыгин в сопровождении ординарца обошел все необходимые службы и подразделения, встал на довольствие в комендантской роте, сдал анкету на комсомольский учет, получил постельное и нательное белье, кусочек мыла размером со спичечный коробок, познакомился с массой новых сослуживцев, в основном штабного племени. В общем, первый день прошел очень содержательно и полезно, Сергей даже пропустил обед, пропустил бы и ужин, если бы не политрук, который сопроводил Сергея до столовой, а потом до казармы общежития начсостава, где показал его койко-место. К вечеру, улегшись на жесткую панцирную кровать с тощим матрасом, набитым ватином, но с какими-никакими простынями и подушкой, туго набитой овечьей шерстью, Сергей с наслаждением расслабился, четверо суток пути из Иркутска на перекладных все равно утомили его. Эти сутки он спал урывками, то на жесткой полке пассажирского вагона, то сидя на лавке, то на полу площадки товарного вагона и последнюю ночь – на нарах в караульном помещении вокзальной комендатуры, где из спальных принадлежностей была постелена тонкая колючая войлочная кошма, которую обороняло пехотное отделение клопов. Хорошенько ополоснувшись в умывальне офицерского состава холодной водой с мылом и по-настоящему поев за последние дни нормальной горячей пищи, чувствовал себя на седьмом небе. Мгновенно уснуть ему мешали впечатления этих последних дней. В голове крутилось множество вопросов, но мозг никак не выдавал ответов. Картинки понемногу перемешивались между собой и в итоге превратились в сон, который намертво вцепился в молодое крепкое тело.
Глава 4
Младший лейтенант Перелыгин и его сослуживцы
Дневное сообщение Совинформбюро от 06.09.1942 г.:
«В течение ночи на 6 сентября наши войска
вели бои с противником северо-западнее и
юго-западнее Сталинграда, а также в районах
Новороссийск и Моздок. На других фронтах
существенных изменений не произошло».
Где-то возле штаба хрипловато пропела труба, сыгравшая команду «Подъем!» для всего гарнизона поселка Тополевка, для дивизии, в которой начал свою службу Перелыгин, а заодно и для немногочисленного гражданского населения.
День обещал быть насыщенным, как и предыдущий. Младший лейтенант с удовольствием ополоснул лицо и шею, побрился, хотя под носом и на подбородке росли не волосы, а пушок, вытерся вафельным полотенцем. Одной минутой подшил свежий подворотничек, в 30 секунд уложился для наведения блеска на сапогах. Застегнул портупею и бодрым шагом направился в штаб. На утоптанной земле перед штабом, выстроенный в две шеренги, стоял караульный взвод, который по команде старшины тронулся, поднимая пыль, пошагал в сторону Оловянной.
Сергей забежал в столовую для начсостава, наскоро похватав пшенной каши и выпив жиденького, но горячего чая, двинул бодрым шагом к себе в кабинет. Кабинетом была названа каморка, в которой стояли две колченогие лавки вдоль стен и сколоченный из снарядных ящиков стол. Точнее, два стола, так как помещение предназначалось не только ему. Соседа не было. Вчера Перелыгин уже забегал сюда и оставил на столе пару плакатов, портрет товарищей Сталина и Буденного, подаренных заботливым политическим руководителем Степаном Степановичем. Сергей оглядел помещение, нисколько не расстроился, так как предполагал, что сидеть ему здесь особо не придется. Для придания кабинету официальности, и даже в некотором смысле уюта, над столом повесил портреты, а два агитационных плакатика о бдительности прикрепил на правой стене. Стопочку серой бумаги в пять листочков положил на угол стола. Оглядел еще раз и остался доволен. Сегодня нужно было не ударить лицом в грязь перед непосредственным начальником.
Перед капитаном с петлицами голубого цвета Сергей предстал ровно в 8 часов 00 минут. Взгляд у начальника был суров, на голове – седой ежик волос. Мужественное лицо портил шрам на носу. Сергей подумал о том, что был бы шрам на щеке, то было бы значительней, солидней, а то получается, что якобы человек нос совал, куда не надо. Вон у полковника Резанова шрам над бровью, и смотрится солидней. Сергей отрапортовал согласно уставу.
Капитан Луговой был кадровым военным, списанным с бомбардировочной авиации в первые дни войны по тяжелому ранению и отлежавшимся в госпитале в городе Чите. На фронт с немецко— фашистскими захватчиками его не вернули, а оставили в контрразведке Забайкальского фронта. Капитан, бывший летчик, расценил это как унижение его воинского достоинства. Работу особого отдела невзлюбил, но как всякий кадровый военнослужащий, еще довоенной закваски, делал все добросовестно, аккуратно и в срок. Иногда, вечером, запершись у себя в кабинете, выпивал стакан чистого спирта и, уронив голову на стол, без слез и без звука плакал. Когда эмоции покидали тело и душу, он засыпал и видел один и тот же сон: пылающий самолет, в горящем комбинезоне – штурмана, раздробленную голову второго пилота. А он ватными руками пытается вытолкнуть штурмана из кабины. Тут вспыхивал нестерпимо яркий огонь, и сон прерывался. Он просыпался, закуривал папиросу и долго молча сидел в темноте.
Капитан придирчиво оглядел ладную фигуру младшего лейтенанта, взял документы, долго и внимательно изучал. Потом кивнул на стул и наконец произнес:
– Я ждал вас только завтра, мне звонили с дивизионного отдела. Словесный портрет вроде совпадает, документы в порядке. Почему не сразу ко мне, а в штаб? Я с ними дистанцию держу. Устроился?
Сергей несколько замялся с ответами, не зная, как толком объяснить. И в итоге ответил: «Так точно!»
– Ну, вот и хорошо, – начальник удовлетворился ответом. То и дело переходя с «вы» на «ты», капитан Луговой провел вводный инструктаж:
– Короче, вы, младший лейтенант, учились на контрразведчика, опыт сами наработаете, на весь полк и гарнизон нас четверо, вместе с тобой. Нянькаться специально с тобой некому. Так что без раскачки – к делу! Обстановка, конечно, не как на фронте борьбы с Германией, но тоже сложная. Оперативная составляющая такова: японо-фашистская разведка ведет себя очень активно. Занимается организацией ее работы 2-й отдел штаба Квантунской армии, в том числе и через так называемые японские военные миссии.
В непосредственной близости от советской границы в Забайкалье, на территории марионеточного государства Манчжоу-Ди-Го расположена одна из этих японских военных миссий, работа которой нацелена против нас. Главная ее задача – шпионско-диверсионная и антисоветская контрреволюционная деятельность в отношении наших войск. Разведка противника вербует среди белогвардейцев эмигрантов, сбежавших от советской власти, агентуру. Как среди русских, так и среди бурят, монголов, китайцев. Ядром белоэмигрантов является Русская фашистская партия. Так что, младший лейтенант, рапортов о переводе в части германского фронта от тебя не должно быть. С фашистами будете драться здесь.
Слушайте дальше, вражеская разведка активно интересуется всем: расположением и численностью наших воинских частей, железными дорогами, аэродромами, предприятиями и учреждениями. Активно вербуют наших военнослужащих и гражданское население. Есть сведения, что японцы имеют налаженную резидентуру и пособников из бывшего кулачья и других недовольных советской властью, а также китайцев-перебежчиков. Кроме того, скрытно через границу переходят группы и банды с конкретными диверсионными целями. Такие бандгруппы состоят в основном из русских, бывших семеновцев или членов Русской фашисткой партии, вообще из белоэмигрантов. Местность они знают не хуже нас, так как многие раньше здесь жили до гражданской войны, имеют дружественные и родственные связи и даже семьи, вооружены и экипированы отлично.
На нашей территории живут «красные» китайцы. За кордоном китайцы и маньчжуры бедняцких слоев в основном настроены дружественно к советской власти: натерпелись под японцами. Но масса их неоднородна, у многих настроения как ветер. Могут помогать нам, могут японцам. Японская разведка зачастую их вербует и под видом перебежчиков засылает к нам.
Сведения о системе японских спецслужб таковы: в основном против нас работают японские военные миссии, они являются основным рассадником шпионов и диверсантов. Кроме того, против наших войск действует 2-й отдел штаба Квантунской армии, который подчиняется 2-му отделу Генерального штаба Японии. Еще, может, не столь активно, как предыдущие, работают японская жандармерия, полиция и Главный штаб железнодорожной охранно-военной бригады.
Далее, что касается наших сил. Борьбу с этой нечистью ведут территориалы НКВД, пограничники и мы – войска. Ну, конечно, население помогает нам – активисты, партийные органы и комсомольцы на местах. Железную дорогу, самую важную артерию всего Забайкальского фронта, охраняет военизированная охрана, воинские эшелоны сопровождают частью железнодорожные войска НКВД, частью сами армейские команды. Гражданские поезда сопровождает военизированная охрана комиссариата путей сообщения. Мосты, разъезды и другие значимые объекты на железной дороге прикрывают подразделения НКВД и воинские караулы. В местной милиции совсем недокомплект. Далее! Войска, как сам увидишь, создают оборонительные рубежи, личного состава тоже недобор, некоторые подразделения снимают с мест дислокации и отправляют на запад, на германский фронт, кадровых командиров не хватает. Будешь на передовых позициях, следи за соблюдением приказа о недопустимости выхода за линию окопов по одному в сторону противника. Были случаи пропажи военнослужащих. И кто его знает: или взяты в плен противником, или – еще хуже – переметнулись на сторону врага. Моральная обстановка в поднадзорных нам частях нестабильна. Выражается это в порой слабой дисциплине ввиду отсутствия авторитета командиров, так как многие из них сами некадровые. Далее, плохие бытовые условия: некоторые подразделения дислоцируются в чистом поле. Еще большая проблема – это плохое снабжение провиантом, отсюда воровство продуктов. Тыл Забайкальского фронта прикрывает в основном 8-я дивизия НКВД, но, сам понимаешь, тысячи километров рокад и дорог, протяженность Транссибирской магистрали не в силах перекрыть несколько тысяч бойцов. Короче, повторяю: обстановка достаточно непростая, фронт наэлектризован. Мало-мальский серьезный инцидент на границе может спровоцировать масштабные боевые действия. Хотя и наши подразделения находятся в полной боевой готовности, мы должны быть бдительней вдвойне. Твое дело не только контролировать свой контингент среди военнослужащих, но и смотри, слушай, о чем говорят гражданские. На доклад ко мне – каждый день в девятнадцать часов. Даю тебе три дня осмотреться, и вот еще… – полковник подошел к сейфу и вытащил из него револьвер. – На, держи, наган старый, но безотказный, революционное оружие. Зимой не клинит. Да не смотри, что обшарпанный, зато пристрелянный. Носи в кармане, а не в кобуре. Нужно быть готовым к внезапному огневому контакту. Я так думаю, что из этого наганчика много легло врагов нашей власти. Так что владей. Табельное оружие получи в комендантском взводе, но это к не спеху.
Сергею понравилось выражение «огневой контакт». Он взял револьвер, оружие было ему знакомо. Начальник особого отдела заставил его расписаться в получении оружия и, вынув из ящика письменного стола две бумажные пачки патронов, сунул младшему лейтенанту. Оружие и патроны потянули галифе вниз, но ему было стыдно при начальнике потуже затянуть брючный ремешок, и он подумал: не потерять бы штаны. Даже сидя, Сергей чувствовал, что штаны спадают, и стал придерживать их руками.
Не обращая внимания на манипуляции подчиненного с галифе, капитан продолжил инструктаж.
– Ты, Перелыгин, не циклись на политике среди личного состава: это дело комиссаров-политруков, ты смотри, чтобы шпион не завелся. И не прошляпь, если завелся. Понял? С остальными нашими сотрудниками познакомлю чуть позднее в рабочем порядке. Одним словом, держи глаз востро и уши на макухе!
Для начала – тебе первое задание. Завтра съезди в село Цугол, там найдешь в автобате капитана Жигулу. Он имеет какие-то сведения. Сейчас возьми кое-какие приказы и внимательно изучи.
Капитан достал синюю потертую папку и положил перед Сергеем. Сам развернул газету «Сталинский сокол» и стал читать, произнося изредка одно и тоже слово: «Да-а!..» В душе капитан Луговой все-таки оставался летчиком.
Сергей около двух часов изучал стопку приказов. Все они практически имели грифы «Секретно» и «Для служебного пользования». Один из приказов младшему лейтенанту был знаком, его зачитали перед строем на курсах – от 28 июля 1942 года №227 Приказ Народного Комиссара Обороны, а потом каждый курсант ставил свою фамилию и подпись в графе «С приказом ознакомлен». В ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях солдатская молва его называла «Ни шагу назад». Перелыгин пробежал глазами текст приказа, непроизвольно остановившись на абзаце, который гласил: «Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дольше – значит погубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам не стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев – это значит обеспечить за нами победу».
Сергей подумал: «Выстоим?» – и чуть вздрогнул от неожиданности, когда начальник, будто читая его мысли, произнес: «Не бойся, выстоим! – и продолжил: – Приказ правильный и своевременный».
Он давно отложил свою газету и наблюдал за Сергеем.
– Для нас требования этого приказа касаются в полном объеме. У нас свои фашисты. И не думай, что война с ее огнем и горем далеко, она здесь, рядом. И нам тоже нужно выстоять, сделать свое дело качественно, несмотря ни на что. Знаешь, что самое страшное, когда один народ завоевывает другой? – Тут, видимо, капитана понесло на лирику.
– Наверное, потеря территории, богатств, ресурсов?
– Конечно, и это тоже. Но самое жуткое, когда завоеванный народ теряет свои память и будущее. Память – наши предки, культура, язык, традиции, пускай порой и не очень полезные. Будущее – это неспособность иметь своих детей, внуков.
– Товарищ капитан, а у вас есть семья?
– Есть, остались в Красноярске. Но ты не отвлекайся, дорабатывай приказы.
В этот момент без стука в кабинет начальника отделения особого отдела вошел, а точнее сказать, проник, лейтенант в полевой армейской форме, пилотке и сапогах, покрытых желтой пылью. В руках у него был коричневый портфель, который по уставу никак не должен был быть у военнослужащего.
Лейтенант, увидев постороннего, коротко вскинул руку к пилотке:
– Товарищ капитан!
– Давай без условностей, лейтенант, – оборвал его Луговой и представил его Сергею. – Лейтенант Горич Яков Александрович, твой и наш коллега, бывший судебный пристав, призван из Управления Народного комиссариата юстиции Читинской области, у нас уже почти полгода. А это наше молодое пополнение, можно сказать, кадровый контрразведчик, – в словах капитана звучала небольшая ирония, – младший лейтенант Перелыгин.
Горич, слегка прищурился: видимо, было плохое зрение, протянул руку и, несмотря на субтильность телосложения, твердо и крепко пожал руку Сергею, сказал доброжелательно: «Будем теперь делить кабинет!». Сергей понял, чьим соседом он стал.
Начальник забрал свою папочку с приказами, открыл сейф, сунул ее туда. Лейтенант Горич сел за стол и положил портфельчик перед собой.
– Давай докладывай, – начал капитан разговор, – а ты, младший лейтенант, сходи пока к старшему лейтенанту Хандархаеву в соседней кабинет, получи у него карту, бланки, какие нужны и какие есть, ну и познакомишься заодно.
Сергей понял, что разговор между начальником и коллегой Горичем будет конфидициальным, и в его суть посвящать Сергея не собирались. Сергея это ничуть не обидело, так как знал, что главное в работе контрразведки – это секретность.
Старший лейтенант Хандархаев Антон Бадмаевич был из иркутских бурят, полноватый, среднего роста, с крепкими широкими плечами, с круглым чисто выбритым лицом, явно не кадровый военный, что впоследствии подтвердилось, до призыва был ревизором в хозяйственном управлении государственных заготовок сельхозпродукции, надев очки и приняв вид заправского бухгалтера, занудно долго изучал документы младшего лейтенанта, задавая вопросы, не касающиеся непосредственно своей службы: «Откуда вы родом, молодой человек? Давали ли по прежнему месту службы в пайке американскую тушенку? А как было с вещевым довольствием?» Потом долго рылся в объемном металлическом шкафу старорежимного исполнения и вытащил затертую по сгибам карту. И тут же стал пояснять: «Это еще японская, с царской войны 1905 года. Видимо, трофейная. Вы, молодой человек, не обращайте внимания на иероглифы, на всех наших командиров карт не хватает. Сейчас мы карандашиком поверх японских буковок напишем наши, и все.
Он стал синим карандашом аккуратными печатными буквами, сверяясь со своей картой, надписывать названия населенных пунктов. Перелыгин, немало удивленный происхождением карты, целый час тихо сидел в углу кабинета, листая газету. Ровно через шестьдесят минут старший лейтенант Хандархаев оторвался от карты, поставил карандаш острием вверх в обрезанную снарядную гильзу и промолвил: «Ну вот, практически и все. Наименования сел, поселков, станции, какие есть, обозначил, а в речках, сопках, падях и других обозначениях вы, товарищ лейтенант, разберетесь сами, собственной рученькой по мере необходимости и подпишете. Ну а в будущем, если появятся советские карты у меня, милости просим, выделю». Он аккуратно сложил результат своего труда по прежним сгибам и как напутствие сказал: «Пользуйтесь, товарищ, не сомневайтесь, данные в ней точные!» Сергей поблагодарил старшего коллегу, козырнул и вышел из кабинета. После чего до позднего вечера младший лейтенант обходил различные службы и выполнял необходимые формальности, и только далеко за полночь с удовольствием вытянулся на своем койко-месте.
Так для младшего лейтенанта Перелыгина окончился второй день службы, где он был хотя бы и починенным, но полноценным командиром Рабоче-крестьянской Красной Армии, а не бесправным курсантом. И еще – Сергей держал в руках под одеялом свое настоящее личное боевое оружие, которое он получил сегодня. Глупо, конечно, это отдавало ребячеством, можно было и в оружейке оставить: стрелять то пока не в кого, но он так мечтал о личном оружии, что не захотел расставаться. Понемногу сон его все-таки сморил, и последней мыслью его была ни с того ни с сего пришедшая на ум любимая фраза перед отбоем товарища по училищу Колюшки Крылова: «Отбой курсанту Крылову! По тревоге его не будить, при пожаре выносить в первую очередь!». Он так и уснул, сжимая в левой руке рукоять револьвера.
ГЛАВА 5
Воентех Жигула, младший лейтенант Перелыгин, чабан Гомбоев и лама Доржо
Автомобильный батальон, куда по заданию приехал младший лейтенант, был расположен в селе Цугол и некоторой частью занимал территорию буддийского монастыря – Цугольского дацана, который как религиозный центр носил следы запустения. Центральное здание храма еще имело величественный вид, выделяясь красно-белой окраской, но черепичная крыша с загнутыми вверх углами, кое-где просела и зияла дырами, чугунные витые лестницы покрылись ржавчиной. Воентехник 3 ранга Жигула, плотный, с румяным круглым лицом, в черной замасленной спецовке, с черными же от автомобильного масла руками, встретил его довольно неприветливо – вместо приветствия и рукопожатия, заглянув в служебное удостоверение младшего лейтенанта, пробурчал: «Я четыре дня назад звонил в особый отдел, а вы только сегодня соизволили прибыть. Ладно, младлей, не будем маячить на виду у всех, пойдем в нашу каптерку, там и поговорим». В небольшом помещении каптерки он поставил чайник на примус, с гвоздя, вбитого в стену, снял вещмещок, из него извлек несколько лепешек, бумажный пакет с кусковым сахаром. И уже доброжелательно, перемешивая русские и украинские слова произнес: «Ну ладно, теперь будем чаювати (пить чай —укр.) и заодно поговорим».
Сергею не терпелось получить информацию у этого неторопливого и обстоятельного человека и скорее возвратиться к себе, так как он обещал политруку артдивизиона провести после обеда лекцию о бдительности при несении караульной службы, а к ней нужно было подготовиться, хотя бы набросать план.
Воентех Жигула, понимая нетерпение Сергея, сел на табурет и произнес:
– Торопишься, младлей, розумию, служба у тебя – хватай мешки, вокзал отходит. Ладно, ладно, слухай сюда, шо я тебе размовлять буду. Может, это и шиш на постном масле, может, мои фантазии, но в гражданскую я почти год служил в ЧОНЕ и кое-что повидал, когда контру карал.
– Ну-ну, я вас слушаю внимательно, – Сергей уже по-другому стал относиться к этому уже далеко не молодому капитану.
– Вот видишь мои руки? – кисти рук у Жигулы были большие, с узловатыми пальцами, черные от машинного масла, с темной каймой под ногтями, в мелких порезах. – А я старший начальник в батальоне, но все равно приходится копаться в моторах и трансмиссиях, а руки я отмыть не могу.
– А причем руки-то? – Сергей тоже посмотрел на свои руки и ничего в них не увидел особенного.
– Да вот причем! Около месяца крутится возле дацана один чабан – бурят или монгол. Ну, чабан как чабан, в замусоленном халате, в истрепанных ичигах, на монгольской рыжей лошадке, и вроде бы частенько под хмельком. Приедет к полудню, привяжет лошадку и сидит возле центральных ворот дацана. Один раз я подошел к нему, запитувати (спрашивать – укр.) его, чего, мол, братка, ждешь? Он мне по-русски отвечает, что приехал в дацан на молитву, хотя знает, что дацан не действует, от самого вроде бы пахнет спиртным перегаром, но глаза-то трезвые, холодные. Попросил у меня табачку, я ему отсыпал из кисета, сам я еще с гражданской только самокрутки курю, смотрю – пальчики у него не дрожат, как у пьяниц, когда он свою трубку набивал, а самое главное – руки-то у него не рабочего человека, да, вроде грязные, но тонкие пальцы, ладонь узкая. Точно тебе говорю, сроду он за скотом руки не ломал – не ухаживал, разве что в последнее время, а выглядит лет на пятьдесят, может, больше.
«У воентеха бдительность переросла в подозрительность», – подумал Сергей. Хотя чему здесь удивляться: приказ за приказом о ее усилении поступали в части Забайкальского фронта. Он сам не далее как вчера в кабинете начальника читал свежий приказ «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций».
– Нет, контрразведка, вы мои препущення (предположения – укр.) насчет этого чабана проверьте обязательно. Чувствую, ох, нечисто тут…
Но Сергею рассказ капитана показался притянутым за уши.
– Хорошо, я сообщу начальству, проверим! Спасибо вам за сигнал!
На следующий день он доложил начальству о сомнениях воентеха Жигулы. Начальство в лице майора Лугового задумалось, что-то пометило у себя на листочке, листочек положило в папку и махнуло на младшего лейтенанта рукой, дескать, занимайся насущными делами.
А далеко отсюда, за семь тысяч километров, разворачивалась великая битва на Волге. И нерв этого сражения ощущался по всей необъятной стране, уже закалились в боях стальные дивизии, уже ощутила Красная Армия вкус первых побед и утерла кровь от поражений. В тылу все мощнее и мощнее набирал обороты локомотив, который скоро раздавит фашистскую нечисть.
Чабан Гомбоев ехал на своей лошадке по имени Елтогор (изворотливая – бурят.). Он на ней уже шестой год сидит в седле. Она была и вправду с неровным характером, еще жеребенком умела приспособиться к жизни в табуне, хитрая была – «и вашим и нашим». Вот она и к Гомбоеву, своему хозяину, приспособилась, чувствовала его настроение. Если оно худое, то слушалась беспрекословно, если чабан был весел, а настроение хорошее было у него нечасто и только когда архи (водки) выпьет, то Елтогор шла как хотела, могла шагом, а если хозяин понукал, то аллюр меняла по собственному желанию. Стареть правда стала умница, порой, чтоб рысью пустить, два раза плетью ударить нужно. Да и сам Гомбоев стал стареть, душа совсем зачерствела, обида и злоба сушили ее. Чабаном Гомбоев стал совсем недавно, как только колхозы и артели новая власть стала сколачивать. Был он из богатого степного семейства, пращур его, если верить легендам, в посольстве ездил к Белому царю две сотни лет назад. Кочевал их род по широкой Агинской степи. Не счесть было скота, одних наемных чабанов и пастухов было более двух десятков. Гомбоев Содном, по настоянию отца и протекции родственника из Хоринской Степной думы, два года учился в Верхнеудинском (ныне г. Улан-Удэ) уездном училище, что на Базарной площади, потом вернулся в степь уже грамотным человеком. Поначалу отдохнул после учебы, душных классов и нудных учителей. Через год отец стал к семейному родовому делу обязывать – продаже скота в вечно голодный Китай. Вот это время было – деньги, свобода! Отец то все болел, табуны и отары гоняли на продажу отцовы помощники, знающие счет и письмо, а Содном в качестве хозяйского ока приглядывал, чтоб не уворовали. Скот идет медленно по степи, а молодой душе не терпится скакать на горячем жеребце вдаль. Содном, отрываясь от своих, по пути к месту торга на границе заезжал в близлежащие деревни и улусы, знакомился с людьми. Отец наставлял: «Содном! Если находишься в дороге, знакомься с встречными людьми. От них много нового и интересного узнать можно. Неважно, во что он будет одет, в рваный ли бумажный дэгэл (халат, верхняя одежда – бурят.) или шелковый. Разговаривай с ним, делись куском лепешки и мяса, неизвестно, может, этот человек в будущем спасет тебе жизнь, но другом ему не становись. Человек – существо чаще всего подлое, вдруг тебе придется его наказать или обмануть, а ты плеть не сможешь на него поднять или обсчитать при расчете. Старайся ни от кого не зависеть, поэтому имей всегда при себе хутага (нож – бурят.) и хэтэ (огниво – бурят.)». Содном Гомбоев твердо придерживался отцовских заветов, в странствиях заводил себе знакомых, старался запоминать их имена. Помогли отцовские наставления. Было ему тогда лет 14—15, однажды присоединился к небольшому каравану китайского купчишки Дчажао Канга, в три нанятых верблюда и четыре лошади с двумя повозками. Купец был ленив, все время спал на тюфяках в телеге, а вот его приказчик Лю Хэнь, человек непонятного возраста, с бегающими глазами, был словоохотлив и бурятский язык немного знал. Содном ехал рядом с телегой, которой управлял Лю Хэнь и слушал его рассказы о Поднебесной, о торговых делах. Как-то тот поведал, что были они с купцом в русском городе Иркутске, продавали шелк, а теперь возвращаются. Железную дорогу хозяин не признает и живет по старинке. Уже в Маньчжурии возле озера Хара-нор, когда караван расположился на отдых, в предрассветное мутное время, пока все лежали, завернувшись от холода в овчины, на стоянку напали лихие люди. Непонятно, кто они были, может, каторжники беглые с заводов, может, обнаглевшие хунхузы. Стрелять стали, били по людям чем-то острым, то ли саблями, то ли большими ножами – Содном от страха не разобрал. В живых остались он и Лю Хэнь, тот сумел еще мешок невезучего купца прихватить. Бежали, пока не выбились из сил. Лю Хэнь по дороге пояснил, что в мешке – казна купеческая и нести ее опасно, а перед тем как спрятать на берегу озерца возле желтого камня, заглянули туда: монет разных было множество в мешочках, лежало несколько пачек бумажных русских и китайских денег и еще одна толстая пачка бумаг с вензелями и картинами, перетянутая красной шелковой лентой. Потом Содном узнал от Лю Хэня, что это акции на огромную сумму. Что такое акции, он тогда не знал, в училище не рассказывали, а в степи ими не пользовались. Точное место, где спрятал сокровище, хитрый приказчик Содному не показал. Потом шли они с Лю Хэнем до самого города Хайлара, там вроде должны быть отцовские приказчики. Оборвались, оголодали, Лю Хэнь всего боялся и не давал заходить в населенные пункты, все пугая его разбойниками. Только потом Гомбоев понял, почему: боялся, что спутник тайну выдаст. Задержали их китайские полицейские, побили бамбуковыми палками и отправили дорогу строить. Лю Хэнь все молчал, а Гомбоев китайский язык не понимал. Однажды ночью в бараке на Соднома напали два маньчжура-оборванца, пытались задушить, еле он отбился. В ту же ночь сбежал Лю Хэнь. Тут-то дошло до Гомбоева, что хотел Лю казной купца завладеть, а его убить. Отбыв срок, назначенный китайским чиновником, Гомбоев правдами и неправдами вернулся домой, получив хороший жизненный урок. Вот с этого времени душа начала черстветь. А про казну спрятанную и думать забыл: на что ему в степи акции, да и места точного не знал. А больше того Содном страшился проклятия, злой черной кармы вокруг денег убитого купца и его людей. Наверняка души мертвых сторожат спрятанное и никого к богатству не подпустят.
Время шло, вероломство Лю Хэня подзабылось, а тут ветры новые, злые, незнакомые, стали кружиться над Агинской степью. Война с японцами, революция, опять война, но уже с немцами, опять революции и война гражданская, которая своей костлявой жадной рукой добралась в их спокойный угол. Батраки и чабаны совсем от рук отбились. Стада и отары таяли на глазах. Скот реквизировали то белые, то красные, то казаки атамана Семенова, то опять красные. От богатого рода остались жалкие остатки, отец скончался от черной болезни, сам Содном ею тоже переболел, но молодой был – ожил, а душа еще чернее стала. Вступил было в армию барона Унгерна в туземный корпус, но вовремя понял, что скоро конец тому, и через месяц сбежал обратно в родную Агинскую степь. С тех пор жил потихоньку на чабанской стоянке. Новая власть окрепла, стала свои порядки наводить, но Гомбоева никто не тронул как сына бывшего эксплуататора, отец покойный все грехи унес, а соплеменники молчали, то ли в силу родственных связей, то ли сами советскую власть не понимали и не любили. Так Гомбоев и стал чабаном в животноводческой артели, поседел, усы отрастил, погрузнел, но работой себя не обременял. Пришел как-то к нему перед самой войной в 1939 году дальний родственник, передал привет от сослуживцев по Туземному конному корпусу, которые обитали во Внутренней Монголии и, грызя большую баранью кость желтыми крепкими зубами, сказал: «К тебе может прийти человек из-за кордона, покажет амулет с изображением колеса сансары. Ты ему помоги, чем можешь». Гомбоев забыл про тот визит, но вот летом пришел этот человек, среднего роста, коротко стриженный, по-русски говорил плохо, по-бурятски не знал, иногда вставлял китайские фразы. Представился сапожником из китайцев, даже документы показал. По документу звался Василием Тушеиновым. Гомбоев сразу понял, что это японец. Вот если бы не показал бумаги, то еще бы Содном посомневался какой он национальности, а тут понял, что посланец от императора Ямато, и усмехнулся про себя. Показал визитер и пароль, на черном шнурке сапожной дратвы висел буддийский амулет-оберег, красивый, с изображением колеса сансары, помогающего постичь истину и вырваться из череды перерождений. Некоторые русские, которые богомольные, тоже носят на шее оберег, только с изображением иконы или святого христианской веры.
Этот сапожник пробыл на стоянке недолго. Пришел пешком и ушел пешком. Толком ничего не объяснил, попил чаю, дал немного советских денег, а выходя из юрты, бросил сквозь зубы:
– Жди. Имей пару коней и всегда наготове с седлами. Может понадобиться быстро уехать в сторону Маньчжурии. Ты ведь ту дорогу знаешь? – добавил: – Еще. Найди мне местного ламу Доржо, он умеет фокусы показывать. Покажи ему амулет, – и сунул в руку деревянный кругляш. – Передашь, чтоб ко мне явился. На рынке станции Оловянная пусть ищет меня. И никому ни слова!» – Гомбоев молча кивнул головой, признавая в госте и хозяина, и начальника, соглашаясь с его просьбой, которая звучала как приказ. Когда этот сапожник ушел, Гомбоев задумался, сел на камень возле коновязи, стал решать: может, выдать этого Тушеинова-сапожника властям, глядишь, благодарность дадут. Нет. Эти не дадут. Узнают, кем он был до революции и в гражданскую, арестуют обязательно. Там суд – тюрьма – каторга, а он без степи и коня жить не сможет. Его даже передернуло от неприятного. «Если с японцем уйти за кордон, то награду точно получу. Вон денег дал, не считая. Японец сейчас в силе, китайцев режет почем зря. Вон и русских бьет немец. Скоро до Урал-камня дойдет». Он не то чтобы интересовался войной, но общее настроение окрестных жителей, которые часто обсуждали сводки, да вид массы военных, постоянно перемещавшихся по окрестным сопкам и дорогам, вкрадывались ему в душу серой тоской. «А вдруг японцы сами нападут на Советы, говорят, у них силы видимо-невидимо на кордоне и в Маньчжурии. Ударят всем войском, за два дня дойдут до Онона, а то и до областного города Чита. Уж очень настырная и крепкая нация… Тогда я лучше помогу японцу. Пусть они бьют ненавистные Советы. Ом мани падма хум! Отдамся на волю высших сил, видимо, не дано мне выбирать дорогу, за меня ее уже давно выбрали высшие силы!» Так он принял решение. Конечно, не хотелось ему трогаться с насиженного места, но карма всегда сильнее человека. Содном достал старую медную китайскую монетку с квадратным отверстием в центре, загадал сторону, подбросил. Упала она на ту сторону, которая предопределяла дорогу. Подошел к своей лошадке, намотал три длинные волоса с хвоста и вырвал. Продел их сквозь дырку в монете, концы завязал на крепкий узел, называемый «тоонто», и повесил на конскую узду – это на удачу.
Поручение выполнять особо не торопился, так, три—четыре раза смотался в Моготуй и Дульдургу (местные населенные пункты. —Прим. автора), но нужного человека не встретил. Собирался съездить в село Цугол.
Тут приметил он еще одного – по лицу не бурят, скорее, маньчжур или китаец. Ходит по стойбищам чего-то вынюхивает. Как-то зашел и к нему. Сказал, что работу ищет, ремонтирует замки и что есть механическое, точит ключи, пришлось принять, чаем угостить. Этот незванный гость сидел долго, швыркая горячий напиток, глазами все рыскал, вопросы задавал, да все про прошлое. Не понравился он Гомбоеву, непонятный человек и морда лисья, однако запаял чайник и прохудившуюся кастрюлю. Содном очень обеспокоился этим посещением и решил поторопиться с выполнением указания японца.
В степи человека найти и трудно, и одновременно легко. Трудно, потому что степь широка и людей совсем мало, а легко, если человек чем-то отличается от других, то любой встречный к нему путь укажет. Гомбоев поднялся на сопку к малому субургану (ступа буддийская – культовое сооружение), прося удачу в дорогу, потом, заседлав Елтогор, поехал в сторону Цугола, здраво рассудив, если лама в округе, то может находиться там, хотя дацан разорен.
Остановился он у дальней родственницы, старой беззубой Жаргалмы, на окраине поселка в ветхой бревенчатой избушке. Старуха его с трудом вспомнила, но, когда он принес торбу с продуктами и отдал ей, оживилась, стала проявлять заинтересованность в родственных связях. «Голодает», – понял Содном и сел на лавку. Родственница что-то спрашивала, он отвечал, не вдумываясь в ответы. Потом спросил у нее разрешения пожить некоторое время, старуха закивала головой, отвечая искренне: «Живи, сколько хочешь! По степному обычаю гостю ни в чем нельзя отказывать, тем более родственнику». Заношенный грязный дэгэл (верхняя одежда) старухи, убогое жилище, захламленное тряпками и сломанными вещами, мусором, а более того седые ее космы, свисавшие засаленными клоками, навевали на Гомбоева тоску по ушедшим временам. А ведь он помнил Жаргалму широколицей румяной статной женщиной с двумя толстыми черными косами, в одежде из дорогого китайского шелка синего цвета, тонкие руки, пальцы, унизанные кольцами и перстнями, а на голове ее возвышался великолепный головной убор из меха соболя со свисающими красными кисточками. Помнил Гомбоев, что была та женщина высокомерна, в то же время улыбчива. «Эх, когда это было, не вернешь!» – подумал Содном о прежних временах и, поддавшись невольному порыву, погладил по плечу старуху, увидев в ней осколок давно прошедшего.
Старуха заварила чай, вскипятив воду на очаге: печь в доме отсутствовала. Содном из уважения к родственнице выпил горячий напиток из немытой с отбитыми краями глиняной чашки и вышел на улицу. Елтогор ходила, смиренно пощипывая пожухлую траву.
Гомбоев прошел по поселку. Места все это были ему знакомые, дацан стоял на прежнем месте, но на его территории находились военные машины, стояли железные бочки, сновали солдаты. Главный соборный храм Согчен-дуган выглядел обветшалым, краска облупилась, великолепные чугунные лестницы были ржавые, по двору валялся хлам, битые кирпичи. Гомбоев походил вокруг и сел возле ворот, размышляя, с чего начать поиски ламы Доржо. И, не решив ничего, вернулся к родственнице. Так продолжалось несколько дней, затем, почувствовав, что на него стал посматривать один из командиров, перестал ходить к дацану и начал бродить по поселку. Один раз встретил бывшего хувурака (ученик ламы), из разговора с ним Содном понял, что Доржо частенько захаживает в Цугол, странствий своих не бросил, как и несерьезные занятия. Получалось, что волей-неволей приходилось ждать и жить у старой Жаргалмы.
В сентябре, когда окружающие Цугол сопки пожелтели окончательно и мелкие лужи по утрам покрывались ледком, появился в поселке Доржо. Вид у него был изрядно потрепанный, голова обросла волосами, ичиги были стерты до дыр, но лицо, как всегда, излучало веселость. Гомбоев с облегчением вздохнул, увидев бывшего ламу, оставалось встретиться с ним без свидетелей, показать амулет. Гомбоев так и носил его на шее на шнурке.
20 сентября выпал первый небольшой снег, но никого это не обрадовало. Самые ленивые еще копали картошку в огородах, местная сельхозартель только начала вывозить солому с поля, бараны и коровы возмущенно мычали, так как еще паслись по склонам сопок, и никто пока не собирался их кормить запасенным сеном. К вечеру снег растаял, и дороги превратились в малопроезжие колеи. В следующие дни резко похолодало, а воинская часть, расквартированная в Цуголе, не перешла на зимнюю форму одежды, солдаты ходили в пилотках и без шинелей. В домах у жителей задымились печки, казармы же приняли нежилой вид. Ближе к ночи Гомбоев шел по проулку, когда его окликнули: «Не меня ли ищешь, уважаемый?» Он от неожиданности вздрогнул, остановился, обернулся. Следом за ним шел сам лама Доржо и улыбался. «Вот зайгуул! (бродяга – бурят.)» – Гомбоев был удивлен, похоже, тот тоже искал встречи и, видимо, был кем-то предупрежден. «Сайн байна (здравствуй – бурят.). Ну, приглашай в гости на чай, водку!» – Доржо подошел ближе и без спроса и объяснений вытянул за шнурок амулет у Гомбоева из-под рубахи, взял его в руки, посмотрел, отпустил. «Ну, что застыл? Идем к твоей тетке!» – сказал он по-бурятски и засеменил по проулку, напевая какую-то им сочиненную песенку:
Ох! Охота – не охота!
А потом опять охота!
И по сопкам, по болоту
Растрясу печаль свою!
И оставлю среди сосен
Суетливую заботу…
Гомбоев поплелся следом. В избушке старой Жаргалмы при свете тлеющих углей они долго и молча пили чай, поглядывая друг на друга. Молчание прервал Доржо – совсем без терпения человек:
– Хозяин, слушай, чай не водка – много не выпьешь, – и растянул рот в веселой улыбке. —Угости гостя, веселей разговор пойдет.
– Я не хозяин, вон хозяйка, – и Содном указал на старуху, сидящую в углу и дымившую табаком.
– Да знаю. Да откуда у старухи молочко от бешенной коровы? Сходи ты! – и так произнес требовательно, что Содном молча встал и пошел за спиртным. Через полчаса вернулся, держа в руках большой кувшин браги, настоянной на мелких местных яблочках – ранетках.
– Молодец! – Доржо весело потер руки и пододвинулся ближе к открытому огню.