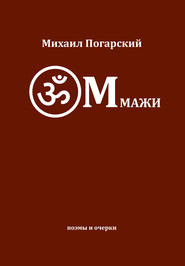скачать книгу бесплатно
Багрицкий развлекался этими мифическими подсчётами. Я вместе с ним втянулся в игру. Меня только смущала сумма в 500 рублей, предназначенная на муравьиные яйца и канареечное семя.
Я представлял себе навалы, целые Чатырдаги яиц. Их, по словам Багрицкого, надо было хранить очень умело, в точной температуре. Иначе в один прекрасный день все эти яйца могут превратиться в рыжих злых муравьёв. Они разбегутся и за полчаса вынесут из дома до последней крупинки весь сахарный песок.
Я считал, что пятисот рублей на муравьиные яйца, пожалуй, много».
Живые и яркие стихи нового поэта стали с удовольствием брать многие газеты и журналы.
Многие издательства стали заключать с ним договоры на книги и выплачивали авансы. Гонорары потекли к Багрицкому рекой. Багрицкий записывал итоги на стене, и фантастические планы по правильному вложению денег грозили обернуться реальностью.
«Багрицкий посматривал на цифры на стене и говорил:
– А птичий счёт меж тем невидимо растёт! Мы сможем купить на эти деньги ещё и справный парусно-моторный дубок. Назовём его по традиции «Дуся» и будем возить на нём из Херсона в Одессу через Днепровско-Бугский лиман лучшие монастырские кавуны. Почернеем, как черти.
Вы имеете понятие о лиманном загаре? Это – лучший в мире загар. Цвета коньяка с золотом. Он образуется не только от солнца, но и от его отражений в тихой лиманной воде».
«Каждый день, по мере того как цифра гонорара на стене у времянки росла, мечты Багрицкого усложнялись, – продолжает Паустовский. – Ему уже мало было дубков и муравьиных яиц. Он мечтал о путешествиях и говорил о них, задыхаясь. Чтобы успокоить одышку, он курил астматол. Тогда в подвале пахло горелой травой и валерьянкой.
Багрицкий стремительно завоевал Москву. Успех его стихов был бурным и всеобщим. По вечерам в подвале уже трудно было дышать от обилия людей и папиросного дыма…
С немногими критиками, появлявшимися в подвале, Багрицкий держал себя настороженно. Но явно раздражал его только один из них, человек навязчивый и развязный, который всю поэзию нашего юга называл „повидлом из баклажан”.
Уже тогда Багрицкого угнетало то обстоятельство, что чужие люди назойливо лезли к нему и советовали любить то, чего он не любил, и отрицать то, к чему он тянулся с самого детства. Впервые тоном приговора было произнесено по отношению к нему слово „романтик”, но с оговоркой, что он заслуживает снисхождения».
Вскоре Багрицкий окончательно переезжает в Москву вместе со своей семьёй. Здесь он становится довольно успешным и признанным поэтом. Живёт сначала в Кунцево, где снимает лишённую удобств избу, а потом, вступив в РАПП, получает квартиру в Камергерском переулке.
Московский климат, подённые литературные заработки, необходимость лавировать среди политических литературных группировок явно тяготили Багрицкого. Он по-прежнему искал уединения и находил отдушину лишь в стихах, птицах и аквариумных рыбках. «Живу так же одиноко, как в Одессе. Птицы, стихи и всё.» – пишет он в письме Эмилю Фурманову.
Багрицкий до конца своей жизни оставался романтиком в самом лучшем значении этого слова. Разумеется, эпоха наложила свой отпечаток и на его поэзию, и на жизнь в целом. «Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучным, умным словам – вот была его философия. Она оказалась поэзией революции», – пишет о нём Исаак Бабель. Багрицкий воспринимал революцию с поэтическим восторгом и видел в ней обновление мира.
Сегодня можно по разному толковать многие произведения Багрицкого. Его то относят к фашистам, то начинают ловко оперировать украинской темой, затронутой в «Думе про Опанаса», то ужасаются «Смертью пионерки», которая предпочла умереть, но не поцеловать протянутого матерью нательного крестика, и которую нам наравне с Павликом Морозовым ставили в советских школах в пример. Сейчас довольно трудно оценивать эти произведения. «Смерть пионерки» была написана после реального случая. В 1929 году Багрицкий был в Няндому. Остановился он у крестьянина И.Г. Селиванова. Ночью послышались рыдания хозяйки дома: умирала дочь Селивановых Вера. Весной она провалилась под лёд на озёре и теперь тяжело болела. Мать уговаривала Веру: «Поцелуй иконку… Святой лик поможет тебе, вернёт здоровье». В ответ на эти слова девочка с трудом выговорила: «Мама, отступись, не поцелую». Через несколько часов Веры не стало. Багрицкий, по воспоминаниям Ефима Твердова, был потрясён смертью девочки-пионерки и её мужественным поведением в последние часы жизни. Два дня он не выходил из комнаты в доме Е. Твердова, куда вернулись от Селивановых, был задумчив и замкнут. Посредством стихотворения Багрицкий пытался понять поступок девочки и в буквальном смысле создать для неё нерукотворный памятник. Не стоит забывать и того, что многие произведения Багрицкого дорабатывались редакторами и издателями. Так, теоретик группы конструктивистов Е. Зелинский писал, что ему стоило немалых трудов привести поэму «Дума про Опанаса» в тот вид, который она имеет сегодня, дабы поэма не стала «песнью анархизма». Мне представляется, что самое главное для Багрицкого была поэзия. Она, разумеется, отражала события, происходящие в реальном мире. Железный пресс социалистической действительности, без сомнения, давил на его поэтику, но Багрицкий умудрялся оставаться свободным в главном направлении своего творчества.
«Когда-то, очень давно, Багрицкий рассказывал мне об одном своём замысле, – пишет Юрий Олеша. „Представь себе… Летучий Голландец… он входит в харчевню. Деревянный стол. Девушка. Он кладёт на стол розу. И вдруг все видят: начинается превращение розы… Сквозь неё проступают очертания города… Люди видят город…”
Я не помню, что рассказывал он дальше… Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства – эти превращения!
Ведь это же и есть сила искусства – превратить материал своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующее…
Я понял, каким удивительным поэтом был Багрицкий, уже с молодости схваченный за горло болезнью, сумевший трудный материал своей жизни превратить в жизнерадостное, поющее, трубящее, голубеющее, с лошадьми и саблями, с комбригами и детьми, с охотниками и рыбами, видение».
Мне думается, что alter ego Багрицкого был Тиль Уленшпигель. Вольный бродяга и никогда не унывающий балагур, умевший петь, как жаворонок. И стихотворение, посвящённое Тилю, может служить поэтической автоэпитафией Багрицкого:
Я в этот день по улице иду,
На крыши глядя и стихи читая, —
В глазах рябит от солнца, и кружится
Беспутная, хмельная голова.
И, синий чад вдыхая, вспоминаю
О том бродяге, что, как я, быть может,
По улицам Антверпена бродил…
Умевший всё и ничего не знавший,
Без шпаги – рыцарь, пахарь – без сохи,
Быть может, он, как я, вдыхал умильно
Весёлый чад, плывущий из корчмы;
Быть может, и его, как и меня,
Дразнил копчёный окорок, – и жадно
Густую он проглатывал слюну.
А день весенний сладок был и ясен,
И ветер материнскою ладонью
Растрепанные кудри развевал.
И, прислонясь к дверному косяку,
Весёлый странник, он, как я, быть может,
Невнятно напевая, сочинял
Слова ещё не выдуманной песни…
Что из того? Пускай моим уделом
Бродяжничество будет и беспутство,
Пускай голодным я стою у кухонь,
Вдыхая запах пиршества чужого,
Пускай истреплется моя одежда,
И сапоги о камни разобьются,
И песни разучусь я сочинять…
Что из того? Мне хочется иного…
Пусть, как и тот бродяга, я пройду
По всей стране, и пусть у двери каждой
Я жаворонком засвищу – и тотчас
В ответ услышу песню петуха!
Певец без лютни, воин без оружья,
Я встречу дни, как чаши, до краёв
Наполненные молоком и мёдом.
Когда ж усталость овладеет мною
И я засну крепчайшим смертным сном,
Пусть на могильном камне нарисуют
Мой герб: тяжёлый, ясеневый посох —
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: «Здесь лежит спокойно
Весёлый странник, плакать не умевший».
Прохожий! Если дороги тебе
Природа, ветер, песни и свобода, —
Скажи ему: «Спокойно спи, товарищ,
Довольно пел ты, выспаться пора!»
Птицелов
В оглушающем гаме опьяняющих строк
Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.
Нараспашку рубашка, нараспашку душа,
И распахнута клетка для бродяги стрижа.
Белокрылые песни реют чайками рифм,
Белогривые волны бьют у ног его ритм.
Он шагает неспешно по границе Земли.
Вслед за ним караваном плывут корабли.
Корабли-многострочья, каравеллы-слова.
Берегов многоточья и прибоя молва.
Птицелов окончаний и метафор ловец
Из далёких преданий плёл сонетов венец.
На просоленной кромке прибоя.
1
В оглушающем гаме опьяняющих строк
Бьются, крошатся, рушатся чувства.
К горлу подкатывает сжатый комок
Звенящего предчувствия искусства.
Мысли и образы взрывают мозг.
В неизвестность уводит дорога.
И поэт шагнул за времён порог
В первозданную новость слога.
Звёзды колышутся над головой,
Дух колотит от звёздных слов,
И, жарко споря с самим собой,
Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов.
2
Вдоль ночного прибоя вдаль идёт птицелов,
Беззаботно в манок свистя,
В окружении соек, бакланов и сов,
В глубине самого себя.
Он читает беззвучно прибрежную суть.
Подноготную сумму песка,
Ил событий и донно-морскую муть.
И рисунки морского конька.
И качается мир под ногами поэта[4 - Аллюзия на строки Багрицкого из стихотворения «Происхождение»«Я не запомнил – на каком ночлеге / Пробрал меня грядущей жизни зуд. / Качнулся мир. / Звезда споткнулась в беге /И заплескалась в голубом тазу».],
Самоцветы в волне шуршат.
Он идёт по границе тумана и света.
Нараспашку рубашка, нараспашку душа.
3
Нараспашку рубашка, нараспашку душа.
Ястреб хлеб подбирает с рук[5 - Перекличка со строками Багрицкого: «И всё навыворот. / Всё как не надо. / Стучал сазан в оконное стекло; / Конь щебетал; в ладони ястреб падал».].
И птенцы-соловьята у ног пищат.
А в выси реет птица Рух[6 - Птица Рух в арабском фольклоре огромная, как правило, белая птица величиной с остров, способная переносить в своих когтях слонов.].
И ветер закипает свежей брагой[7 - Аллюзия на строку Багрицкого.],
И буря бьётся чайкой у щеки,
И парусами белая бумага
Несёт метафору в прибрежные стихи.
Он отпускает стих и птиц на волю,
Пускай они средь облаков кружат.
Бриз ударяет в грудь морскою солью,
ȅ
И распахнута клетка для бродяги стрижа.
4
И распахнута клетка для бродяги стрижа.
Невесома планета у ног.
И шагает поэт по Земле не спеша,
Уклоняясь от торных дорог.
Дымится месяц посредине лужи[8 - Аллюзия на строку Багрицкого.],
Сазаны бьют в оконное стекло[9 - См. прим. 1.].
И стих морской, волнением простужен,
Волною бьётся в карандаш-весло.
Вселенная застряла в мокрых ветках,
И оседает пена дней на риф[10 - Отсыл к роману Бориса Виана «Пена дней».],
И, вырвавшись из кособокой клетки,
Белокрылые песни реют чайками рифм.
5
Белокрылые песни реют чайками рифм,
С облаками ведя разговор.
И взмывает сонет как стремительный гриф
В голубой бесконечный простор.
И сызнова мир колюч и наг[11 - Перекличка с одной из строк Багрицкого.],
И снова всё трын-трава,
И сызнова шепчет полночный маг
Ведические слова.
Весенний ветер лезет вон из кожи.
Уставший маг нечёсан и небрит.
И тишиной, пронзительной до дрожи,
Белогривые волны бьют у ног его ритм.
6
Белогривые волны бьют у ног его ритм,
Тут и там нарушая размер,
И маяк одинокий в ночи горит