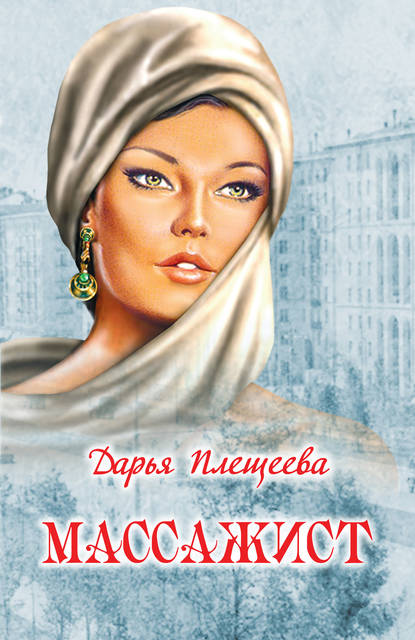
Полная версия:
Массажист

Плещеева Дарья
Массажист
© Плещеева Д., 2016
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
Сайт издательства www.veche.ru
* * *Пролог
Дитя было вымоленное.
Мать носила его в непрестанной радости. Мир наконец-то сделался к ней ласков.
Похоронив никчемного мужа, любовь к которому давно иссякла, оставшись с больным сыном на руках, сама тоже – постоянная обитательница больничной палаты, она смирилась с тем, что цель ее жизни – поднять ребенка, и не более того. Мир против, мир возражает, ну да уж как-то придется потерпеть.
Напротив окна росла рябина – женское дерево. Мало кто обратит внимание на ее пушистые белые соцветия, когда бело-розовые свечи каштана стоят пряменько и царственно, словно райские рождественские елочки, когда сады – опустившиеся наземь чистейшие облака. А вот ближе к сентябрю является миру ее бескорыстная красота, потому дерево не девичье, выручает тех, что впустили в душу осень.
Мать уже умаялась считать эти осени – она овдовела, не достигнув и тридцати. Просить у рябины ей было нечего – мужчин после смерти мужа она не знала, даже их любопытных взглядов на улице ни разу не ловила. Она была неприметна и одевалась так, чтобы слиться с фоном, ей это удавалось, и она радовалась тому, что может всюду проскользнуть быстрой мышкой, без многозначительных встреч и без разочарований. Так она решила для себя, так и жила.
Утром она вышла на балкон – снять с веревки бельишко. Ей нравилось, когда вещи сушились на ночном ветру, – нигде более не встречала она такого аромата. Внизу, у рябины, стоял человек. Он поднял голову, увидел ее в халатике, она застыдилась и, сдернув бельишко, поспешила прочь. У нее впереди был трудный день – с утра в больницу к шестнадцатилетнему сыну, потом – на работу, в обеденный перерыв – на рынок и вечером – опять в больницу.
На следующее утро она опять увидела сверху того человека. Разглядела, что в руке у него был собачий поводок. Ей стало ясно: так вот кто поселился в соседнем подъезде, в однокомнатной квартире, откуда выехали старики Корнейчуки на постоянное место жительства в Германию.
Из всех деревьев, где молча стоять, пока черно-белый пятнистый пес носится по траве, он выбрал именно рябину. Или же рябина притянула его – он тоже вошел в пору осени, только осень была мужская, поздняя, умиротворенная, не с одиночеством-карой, а с уединением-наградой.
Вскоре они встретились вечером у троллейбусной остановки и поздоровались молча, она – взглядом, он – кивком, и ей понравился этот короткий резкий кивок. Тогда же она поняла, что мужчина стар, ему за шестьдесят, хотя держится очень прямо. Его выдавали даже не морщины, а худоба – под одеждой было тело, мышцы которого увядали и съеживались, как будто человек в них более не нуждался.
Однако по утрам, когда она выходила на балкон, а он стоял под рябиной, возраста не было – и однажды натянулась струнка долгого взгляда.
Потом они поняли, что нужны друг другу.
Вот именно такие – тихие, серенькие, словно вылинявшие, оставившие себе из плоти лишь то, что нужно для поддержания жизни, и потому ощутившие внутреннее родство: они тихонько сошлись, не имея в мыслях ничего иного, кроме недолгих бесед вечером, пока носится по траве пес. Оба были необщительны – и беседы эти полностью удовлетворяли почти усохшую потребность в человеческом обществе.
Узнав, что он недавно похоронил единственную дочь, она смутилась, уже почувствовав, к чему приведет эта встреча. Он так внимательно расспрашивал о сыне, которого врачи все готовили, да так и не могли подготовить к операции, что жалость обожгла ее, сперва как спичечным огоньком палец, потом стала жечь изнутри постоянно. Чувство это помещалось где-то у самых глаз – глядя на своего друга, она еле удерживала слезы.
Это было самое сильное чувство за последние десять лет – если не считать вспышек тревоги за сына. Но сын – дело особое, материнский долг изгложет душу, когда вспышка недостаточно сильна. Тут же получилось совершенно добровольно и непредсказуемо.
Если бы ей сказали, что так пришла любовь, она бы возмутилась – любовь ей была известна. Именно жалость к человеку, оставшемуся без ребенка, без всяких иных страстей и волнений, с одним лишь старым псом, одолела ее. И она поняла, что родит этому человеку дитя. Ибо дитя было ему необходимо, а иного пути заполучить младенца в дом она не то чтобы не знала – а не желала. Ребенка следовало не принести откуда-то, а родить – и она стала создавать в себе дитя, и в суете своей обрела тихую радость.
Она просила о ребенке всех – она прикасалась тайком к одежде беременных, надеясь, что они поделятся с ней своей благодатью, она ставила свечи перед образом Богородицы, она благословляла звериных малышей.
Еще она внимательно разглядывала детишек ползункового возраста, ища в их лицах ту красоту, которую непременно должна воплотить сама. Идеальных лиц не попадалось – и она впадала в раздражение художника, готового создать шедевр, способного создать шедевр, но не умеющего пригласить натуру.
Она мечтала о белокуром ребенке. Сама она была русоволосой, друг в молодости, кажется, тоже. Но она представляла будущего сына блондином с прямыми длинными волосами – так ей было легче мечтать.
Кроме того, ей казалось, что редкая близость с другом может оказаться напрасной. А объяснять ему свой замысел она не хотела: она сохранила какую-то древнюю стыдливость и даже мысленно не могла подобрать для такого объяснения подходящие слова, выговорить же их или написать казалось совершеннейшей фантастикой.
Но молитва была услышана. Когда рябина в третий раз стала по-женски прекрасной, родился сын.
Старший к тому времени немного окреп, и изводившие его аллергии отступили. Старший понял, что он во всем уступает ровесникам, и решил выковать себе мужской характер. Он ушел из дому, оставив короткое и суровое письмо. Она, прочитав, рассердилась, но ее счастье было слишком велико – ей был дарован младенец, и она не понимала, как можно отвлекаться на что-то иное.
Немного погодя она ощутила угрызения совести – как будто, заведя младшего ребенка, выгнала из дома старшего. Сама она никогда не испытывала ревности и забеспокоилась, что не угадала вовремя ревности восемнадцатилетнего мужчины к новорожденному.
Отец младенца, немало смущенный поздним своим счастьем, растолковал ей, что мальчики должны покидать материнский дом, чтобы потом, угомонившись и что-то себе доказав, вернуться, а ревность тут ни при чем.
Мать немного поспорила, давая отцу возможность еще старательнее успокоить себя, и занялась младенцем. Он был удивительно светел – ей даже казалось странным и тревожным, что женщина в сорок лет, с вечными болячками, пропитанная фармакологией, родила такое чудо.
Мальчик был белокож и желтоволос, жил по непонятным матери законам: в иную ночь мог проспать шесть часов подряд, в иную – не спать вовсе, барахтаясь в постельке, после кормления проявлять недовольство, ловить ручками непонятно что и радоваться, глядеть на родителей и печалиться.
Отец называл его подарочком, делал для младенца все что мог, но мать видела – подарок пришел в его жизнь слишком поздно, когда иссякли силы души. Она преувеличила его тоску по умершей дочери, теперь это стало ясно. Она поторопилась и лишилась того огонька, что жег ей изнутри глаза при взгляде на сухую и сутулую фигуру друга, на его умное и печальное лицо. Жалости больше не было – была связь, как у двух лошадок, впряженных в одну телегу, именно связь – как с отцом старшего сына, которого она никак не могла бросить, – так ей казалось, и она боялась себе признаться, что мужчина теперь – лишний.
Все, как думала она, повторялось, хотя ребенок был совершенно другой. И радость также была другая – не сиюминутная, а имеющая в основе своей воспоминание о тех молитвах, что женщина творила, мечтая стать матерью. Тогда был полет, теперь – тяжкие шаги по земле.
И, глядя на мальчика, зачатого в состоянии полета, она могла, задумавшись, не ответить улыбкой на его улыбку – ей все казалось, что произошла какая-то ошибка…
Мир стал к ней добрее – и проснулись тихие желания, и она захотела быть такой, какой до сих пор быть и боялась, и не умела. Она догадывалась, что новым своим мироощущением обязана ребенку, и благодарила его, как умела.
Ее друг забеспокоился, когда она перестала говорить. Сперва это было не очень заметно, потому что женщина, как большинство ровесниц, пристрастилась к телевизору, и квартирка была полна звуков. Но он не раз и не два видел, как мать, играя с малышом, не агукает, не лепечет милую околесицу, а беседует с ним руками, заменив слова на прикосновения и сложные фигуры пальцев. Ребенок прекрасно ее понимал. Когда же отец попытался освоить этот язык, ребенок уклонялся от его рук с изяществом кошки. Говорить он не хотел, и отцу пришлось потрудиться, внушая ему первые слоги и слова.
Странные отношения с онемевшей подругой стали его тяготить. Его душе и телу требовалось уединение. Оно давало тот покой, в котором можно жить и жить, не тратя себя на суету, – в сущности, оно было обещанием бессмертия, ибо избавляло от необходимости следить за течением времени по изменениям на лицах близких и просто знакомых людей. Разве что пятнистый пес – но без пса было бы совсем грустно. Пса мужчина взял в собеседники – и в конце концов ушел к нему окончательно.
Мать сделала над собой усилие – наконец уволилась с работы. Она очень хорошо вязала и могла кормиться заказами – то есть обходиться почти без слов, показывая клиенткам фотографии в журналах, снимая мерки и записывая на бумажках, какой пряжи и сколько нужно принести. Она поверила миру в том, что он пришлет людей, имеющих нужду в рукотворной красоте. И этим доверием она тоже, возможно, была обязана сыну.
Ребенок рос здоровеньким, но неразговорчивым. Язык пальцев и жестов был недоступен детишкам из детсада. Потом, в школе, мальчик стал изъясняться так, что дети его не понимали, и только старая опытная учительница смогла осторожно отучить его от словесных выкрутас и обучить простой речи. И она же, обнаружив его, восьмилетнего, с одноклассницей, которой мальчик что-то объяснял руками, прикасаясь к телу, не подняла переполох, а деликатно погасила ситуацию. Но вопрос о переводе мальчика в спецшколу она все же на педсовете поставила.
Мать явилась по звонку в учительскую и только развела руками. Она показалась всем очень странной. Но оба, и мать, и сын, были, в сущности, безобидными – и все осталось как есть.
Неизвестно, поняла ли мать, для чего ее позвали в школу. Ее мир сузился до пальцев и узоров. Добрая соседка взяла ее под свою опеку и постоянно нахваливала ее мастерство. Пальцы выплетали тончайшие кружева с птицами и махровыми розами. Мать могла вязать в абсолютной темноте и не всегда знала, чем завершится начатая цепочка воздушных петель. Сын помогал ей прикосновениями – детские пальцы ложились на незавершенный петельчатый лабиринт и показывали самый удачный выход. Но потом ребенок утратил это свойство.
Это случилось, когда он наконец заговорил обычным для школьника образом. Тогда же материнский талант стал гаснуть, она вернулась в мир, где разговаривают, и узнала, что у мальчика больше нет отца.
Это случилось весной, она вышла на балкон, увидела цветущую рябину, захотела передать дорогой пушистой пряжей скромную грацию белых соцветий – и не смогла.
Оба они, мать и сын, стали совсем обыкновенные. И даже говорили так, как положено матери и сыну, – она ругала его за плохие оценки, он огрызался. Казалось, из их совместной жизни изъяли несколько лет ради их же блага. Из материнской памяти – вместе с беспрестанной радостью, в которой она создавала свое дитя, оставив при этом пустое место и не давая времени пустоту эту осознать. Некому было сказать матери и сыну, что они получили передышку, время отпущено на сон души, необходимый, чтобы набраться сил и однажды проснуться.
Глава первая
– Прости, не могу, – сказал Сэнсей, глядя мимо глаз. – Ну, не могу. Придумаешь что-нибудь.
– Придумаю, – отвечал Н.
Сейчас он уже не мог бы сказать определенно – рассчитывал ли, что Сэнсей предоставит ночлег, или догадывался о таком печальном повороте. Собственно, скорее догадывался, чем рассчитывал, – всякий раз, как к Сэнсею приходила женщина, он без церемоний выставлял Н. даже в тех случаях, когда имелась договоренность о ночлеге, а женщина валилась как снег на голову.
Это была особенная женщина, умевшая каждый свой шаг превращать в событие. Она как-то заполучила власть над Сэнсеем – может, и без особого труда, потому что этот коренастый лысоватый мужичок женщинам не очень нравился. Или же она ему была на роду написана, а такая запись сильнее страстей и рассудка. Звонок этой женщины был для Сэнсея как глас небесной трубы. О том, что за звонком – отъезд мужа в двухдневную командировку, он конечно же знал.
Считалось вполне нормальным, что Н. отправится ночевать на вокзал в зал ожидания. А наутро придет – позвонив предварительно, потому что Сэнсей не хотел его знакомить со своей женщиной, – и продолжатся занятия. Оба разденутся до плавок, Н. ляжет на кушетку. Сэнсей покажет ему новое сочетание приемов, Н. оценит сочетание щипков с встряхиванием, а потом проделает свежеизученное на спине Сэнсея.
И будет за это безмерно благодарен.
Как и за пару стаканов горячего чая с бутербродами на мрачноватой кухне. Как и за умение Сэнсея не задавать странных вопросов: мол, с кем, как и роскошно ли живешь, где работаешь, сколько зарабатываешь…
Возможно, вопросы были бы заданы, печальные ответы получены, и это обязало бы Сэнсея дать хоть какой-то совет. Даже предложить помощь.
Но Сэнсей имел свои понятия. Он, медик с двумя дипломами, не отказывал в профессиональной помощи даже самоучке Н., это для него входило в моральный кодекс Гиппократа, но приносить в жертву личную жизнь ради человека, неспособного купить к ужину хоть сто граммов колбасы, не умеющего поздороваться с соседями, не понимающего, что за собой нужно убирать как постель, так и кавардак в ванной.
Сэнсей испытывал презрительную жалость, жалостное презрение и действовал соответственно. Однако бывали минуты, когда он нуждался в Н. Ему самому было за эти минуты страх как неловко, он сам себя не понимал, несколько раз давал себе слово поставить точку в этой полу-дружбе, полу-хрен-знает-чем. Он знал: будь Н. иным, отношения вообще бы не сложились. Ибо Н. никогда не возражал, а Сэнсей был рад тому, что еще для одного человека стал капризным хозяином, самовластно решающим, когда карать, когда миловать.
Возможно, Сэнсей уже давно бы собрался с духом и прекратил свою благотворительность, но человек слаб и ловок по части оправдательного вранья самому себе, вот и Сэнсей постановил для себя так: ему любопытно, догадается ли Н. наконец о таком к себе отношении, а если да – то найдется ли в этом человеке хоть капля гордости. До сих пор не находилась.
Н. меньше всего помышлял об игре в гордость. Здесь, в Большом Городе, он чувствовал себя неловко – как дворняжка, забежавшая из родного переулка на широкий проспект с движением в шесть рядов и тысячными толпами равнодушного народа. Как дворняжка не обижается на пинок, которым ее, возможно, спасли от смерти под колесами, так Н. не обижался на Сэнсея и ему подобных. Он приезжал сюда за новинками массажного промысла, Сэнсей этими новинками с ним делился – чего же больше? Еще Н. встречался с несколькими знакомыми, никто из которых не предлагал ночлега, а только приятный многочасовой разговор. А о постоянных клиентах и говорить нечего – он приходил в дом или даже в офис, выполнял свою работу, получал скромное вознаграждение и без разговоров удалялся, потому что больше не был нужен.
Выходя из подъезда и привычно изворачиваясь, чтобы вместе с рюкзаком не застрять в дверях, Н. вдруг сообразил, куда можно податься.
Километрах в двадцати от Большого Города было озеро, на берегу стоял пансионат, и в этом пансионате время от времени собирались всякие неожиданные тусовки. Н. бывал там на фестивалях самодеятельной песни и знал, что три дня фестиваля для обслуживающего персонала – апокалипсис в натуре, потому что в первые же часы исполнители и публика напиваются до поросячьего визга, а потом с каждой электричкой из Большого Города прибывают десанты, и на всех этажах звенят гитары, и в парке жгут костер, и на берегу тоже что-то шумное происходит. В таком бедламе никто не обратит внимания, если обнаружит в холле на шестом этаже неизвестного человека, спящего на диване.
Фестивали проводились обычно осенью – и на сей раз приезд Н. приблизительно совпал с этим событием, он только не планировал тащиться в пансионат. Правда, он не был уверен, что не перепутал даты, но географию пансионата знал достаточно, чтобы просочиться на шестой этаж незаметно.
Там холл был не такой, как на прочих этажах, а отгороженный от коридора фанерной стенкой, человеку немногим выше пояса, к которой примыкали задние стенки диванов. И еще там не было телевизора – так что и сидельцев тоже. Третий плюс – Н. знал, где каморка уборщицы с краном и раковиной. Открыть ее было несложно – все железки слушались его, как отца-командира, он даже сам соорудил простенькое устройство, чтобы бесплатно говорить по телефону-автомату новой системы, с чип-карточкой.
Н. прибыл к озеру предпоследней электричкой.
Он не был тут уже года два и поразился количеству новостроек. Вся городская элита дружно рванула в этот тихий уголок, и особняки выросли один другого краше – если не с готической башней и подземным гаражом, то с зимним садом и будкой у ворот из дикого камня.
Уже на подступах к пансионату Н. услышал пронзительную, хуже зубной боли, губную гармошку и понял – свои! Не просто переночевать, а, возможно, и поесть удастся. Раз уж не удалось у Сэнсея.
Он действительно встретил ребят, с которыми познакомился года два, а может три, назад, чьих имен не знал, да и они не знали его имени, и это было совершенно не важно, Н. был рад и тому, что вместе с этими ребятами благополучно миновал вестибюль и попал к площадке перед лифтами.
Раздвижные двери разъехались, вывалилась компания с двумя гитарами. Сегодня эти немолодые бородатые дядьки были короли – они выступили в общем концерте и теперь спешили к озерному берегу, где раз в год имели возможность всю долгую ночь, подогреваясь из горла, исполнять драгоценный свой репертуар в стиле «горит костер, сушу портянки».
Они все еще носили клетчатые рубахи давнишних неуемных туристов, классические рубахи шестидесятников, хотя сами были куда как помоложе поколения физиков-лириков-ребят-с-рюкзаками. Мир мог перемениться окончательно – они сохраняли верность кумирам и гитарам своего детства. И их подруги были точно такие – в сорок с лишним носили волосы в два хвостика и улыбку девчонки-своей-в-доску.
Они держались за ушедший мир, в котором, как они полагали, царило радостное бескорыстие, а цену имела только песня. Казалось бы, Н. тоже должен был любить этот мир, идеальную среду для своей безалаберности, но он очень хорошо понимал, что сейчас в пансионате правит бал мир-призрак, а с потусторонними явлениями он старался дела не иметь. Разве что в безвыходном положении.
Н. спрятал рюкзак на шестом этаже между диванами и спустился вниз, в бар, где уже началась более солидная ночная жизнь. Кто-то окликнул его, но опять-таки не по имени, и он кому-то помахал рукой и стал высматривать, не сидит ли за столом человек, достаточно знакомый, чтобы подсесть и вписаться в общий круг, пусть, заказывая чай, посчитают и его, Н., потому что у него просто пока не было лишнего рубля на этот самый чай. Он еще не обзвонил клиентуру, не договорился о сеансах и на деньги мог рассчитывать разве что недели через полторы, но это его не слишком беспокоило.
Хотя он не рассчитывал на стопроцентное гостеприимство Сэнсея, но как-то так не учел, что будет выставлен без ужина…
Собственно говоря, Н. даже и не знал, действительно ли ему чай не по карману. Он уже целую вечность не покупал еды и плохо представлял, сколько она стоит. В Родном Городе его кормили мать и тетка, в странствиях – кто попало.
В баре можно было даже встретить кого-то до такой степени знакомого, чтобы увязаться за ним в номер, а в номерах всегда находятся пачки печенья, прихваченные с ужина булки и даже бутерброды с колбасой. Опять же нальют. Иногда это невредно.
Н. пошел вдоль столиков – а бар, кстати, представлял собой длиннейшую кишку, прилавок находился за три версты от входа, и попасть к нему мог только отчаянный боец – там на пятачке танцевали, и танцевали бурно.
Н. с кем-то поздоровался, но ответа не получил. Вроде бы и тусовка была знакомая, бардовская тусовка, с которой он уже раза два или три пересекался, вроде с кем-то их этих, за столиками, даже перешел на «ты», однако сейчас никто его за своего не признавал.
Ему не привыкать было из чужаков становиться своим – на вечер, на сутки в поезде, на неделю даже. Пока кормят. И равным образом он легко уходил, когда ему давали понять: хорошего понемножку.
Его отодвинула официантка с подносом. Она пробиралась к длинному, составленному из трех, столу, неся много всякой вкусной всячины – колбаски жареные, мясное ассорти, еще какие-то мисочки, бокалы, кофейные чашки. Н. посмотрел: за столом сидела плотная компания, все свои, никто по сторонам не таращился, общались как друзья, давно не имевшие радости беззаботного общения.
Среди них имелись две женщины. Одна была занята собеседником, более чем занята – это Н. разглядел даже в полумраке. Другая временно выпала из разговора и смотрела на веселье в баре очень неодобрительно.
У нее было такое лицо – злость и тоска сделали его острым, такое лицо, которое необходимо, чтобы треснуть кулаком по столу и послать всех к чертовой бабушке. Такое лицо…
Н. понимал телесный язык куда лучше, чем словесный. Во взгляде, в губах, в наклоне стана он увидел близость смерти. Что-то гибло, какие-то жизненно необходимые клеточки, они прямо на глазах выгорали, переплавлялись, меняли свойства.
Никогда не учив медицины, он тем не менее знал болевые точки так же хорошо, как если бы они светились сквозь кожу. Женщина мерцала нехорошим светом… было в нем что-то странное, как будто живое тело испускало неживое, лиловатое, как спирт, люминесцентное свечение…
Н. достаточно знал женщин, чтобы прочитать послание. Эта сообщала, что одинока, болезненно одинока на этом празднике и будет благодарна тому, кто свалится на нее как кирпич с крыши, – лишь бы одиночество отступило. Благодарность же выражается материально – в бутерброде и стакане чая. Идеально – в месте под одеялом.
Музыка так гремела, что Н. твердо знал: в этом шуме он сам себя не услышит. Так что лучше было бы обойтись без слов.
Н. подошел к сердитой даме, поклонился и показал рукой на танцующих. Она резко встала. Тогда он предложил согнутую руку, чтобы довести ее до пятачка. Она не глядя на него приняла руку, положила свою на его рукав и пошла, опережая его, как будто сто лет не танцевала и хочет немедленно наверстать упущенное.
Места для нормального танца было мало. Они топтались, как и все, активно двигаясь, но не имея простора, и Н. понятия не имел, с чего начать разговор, – очевидно, она не столько хотела танцевать и знакомиться, сколько уйти из-за того стола. Однако его руки уже прикоснулись к ее рукам…
Ощущение было – как будто под кожей стальная пластинка.
– Ты что, жонглер? – вдруг спросила она. Громко – иначе не имело смысла.
И потрогала пальцем мозоль, с которой Н. уже не знал как сражаться.
Мозоль выросла между большим и указательным пальцем, была большая, грубая, все время трескалась. Н. извел на нее прорву мазей, парил, вымачивал – где сидела, там и осталась.
– Нет, я не жонглер, – удивленно ответил он. – А собственно, почему?
– У них такие мозоли, от колец. Кольцо приходит в руку вот так… – она показала ребром ладони, показала так, что Н. сразу ощутил край тонкого пластмассового кольца, почему-то белого, которое приходит и сразу взмывает вверх, и так – все четыре часа репетиции.
Очевидно, и ей был известен язык тела. Сейчас, впрочем, ее тело отмалчивалось – или же сидело в засаде, ожидая своей минуты.
– Я массажист, – сказал Н. – Когда делаешь щипковый массаж, нагрузка вот на эти места.
Он сделал движение кистью, чтобы ей было понятнее.
– Щипковый – это как?
– Ну…
Он пожал плечами – в самом деле, как, танцуя, объяснить это? И вдруг музыка смолкла.
– Пошли к нам, – приказала она и не оборачиваясь направилась к столику. Тому самому, на котором уже стояли тарелки с колбасками, блюда с салатами и мясным ассорти. Это было кстати. Н. поспешил следом. Когда оставалось полтора шага, он прихватил пустой стул.



