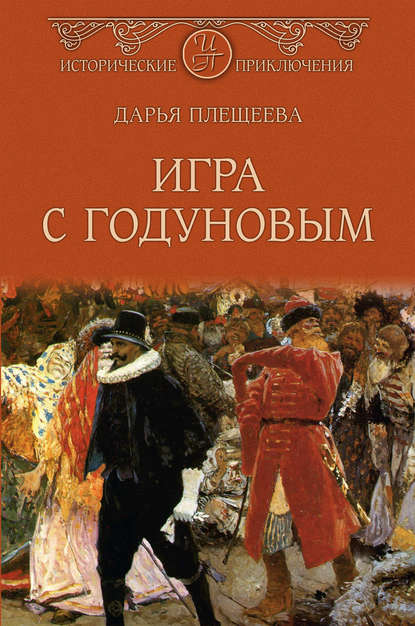
Полная версия:
Игра с Годуновым
Потом в приказную избу стрельцы привели самого из троих жалкого налетчика. Сказался Ермишкой Шилом. Отчего Шило? Надо полагать, наловчился сей причиндал ловко совать меж ребер…
Ермишку, пока брали налетчиков, порядком потрепали, руку из плеча выбили, оба глаза подбили, и Деревнин рассудил: пусть сперва этот горемыка все про товарищей выложит как на духу, а потом уж можно двух других поодиночке расспрашивать. Врать будут, это понятно, и опытный подьячий даже даст им такую возможность. А как поверят, что Деревнин проглотил тухлятинку, так он и рявкнет, да кулаком по столу, да тот кулак к налетчикову носу поднесет: а ну, нюхай, чем пахнет!
Их, привезя ночью, нарочно рассадили по разным углам сырого тюремного подвала, чтобы не могли сговориться да, стуча от холода уцелевшими в стычке зубами, поразмыслили о своих грехах и о своем горестном грядущем. Теперь Деревнин готовился пожинать плоды этого правильного решения.
Шило и без кулака начал все выкладывать, не забывая выгораживать себя, сиротинушку. Сидевший рядом с Деревниным Митя только успевал заносить эту жуткую исповедь на листки, которые потом предстояло склеить в столбцы. Митя служил всего лишь третий месяц и очень старался, за то Деревнин ему покровительствовал. Была, впрочем, у подьячего тайная мысль, нечто вроде договора со Всевышним: вот я тут, у себя в приказной избе, буду добр к Митеньке, а в Посольском приказе дьяки и подьячие будут добры к Михайле.
Потом Деревнин велел стрельцам уводить Ермишку; кормить до ночи, впрочем, не велел, хватит с него утреннего ломтя хлеба, лиходею поголодать полезно и даже душеспасительно. А вот о своем пропитании позаботился – вышел размять ноги на Торг, взял там у знакомого надежного разносчика пирог с капустой, да другой – с яйцами, да тут же и сбитеньком побаловался.
В приказной избе товарищи сказали Деревнину, что его парнишка на крыльце дожидается. Подьячий, еще не успев скинуть шубу, вышел на крыльцо – и точно, отрок лет десяти, но не из бедного житья, в добротном тулупчике, в чистых онучах и даже новых лаптях, хороших, с кожаной подковыркой.
– Я подьячий Деревнин. Чего тебе? – неласково спросил Деревнин. Парнишка испугался и даже съежился.
– Кто тебя послал? – не дождавшись ответа, вдругорядь спросил подьячий.
– Дядька…
– Чей дядька?
– Дядька Мартьян…
– Ты в лавке, что ли, у него служишь? – догадался Деревнин.
У приятеля своего, купца Мартьяна Гречишникова, он бывал дома, когда звали к богатому застолью, домочадцев знал в лицо – то есть домочадцев мужеска полу, поскольку Гречишников очень не одобрял, когда его бабы и девки выходили к гостям. Этого парнишку он там вроде не встречал.
– Служу…
– Так с чем тебя послали-то?
– Дядька Мартьян велел – чтобы к нему… – Парнишка запнулся и совсем тихо выговорил: – Жаловать изволили…
Подьячий усмехнулся – такие словесные выкрутасы были для гонца в диковинку.
– Передай – вечером к нему буду. Беги!
Такой призыв мог означать все что угодно. Могло статься, что купцу доставили дорогое заморское вино и он желает выпить в обществе давнего приятеля. А могло статься, что случилось недоразумение, в котором он сам разобраться не может.
Оказалось – и то и другое.
Приказав ключнице устроить на краю стола богатое угощение и выпроводив ее, Мартьян Петрович сказал:
– Иван Андреич, совет твой потребен. Тут у меня в хозяйстве нестроение вышло…
– Какое, Мартьян Петрович?
– Некое нестроение… Блудное то бишь…
– Так говори. Я не красная девица, румянцем не зальюсь. Знал бы ты, сколько этих блудных нестроений у нас в приказных столбцах имеется. Только еще корову никто спьяну не огулял, а все прочее, кажись, уже было.
– Приказчик мой, Онисим, да ты его знаешь… – Купец вздохнул. – Дурак он, хоть и мой приказчик. Старый дурень. Все ему в один голос: не женись ты на этой Дарье да не женись! На родню ее погляди! Не диво, коли явится, что та родня Стромынку оседлала! Видел бы ты их! С такими ручищами только в стеношники идти, на льду в стенке биться, государя тешить. А он уперся: женюсь, да и только!
– Про Стромынку – сгоряча сказано или кое-что ведомо? И кем сказано?
– Да всеми! Я чай, сгоряча. А, статочно, и впрямь портные – под мостом вязовой дубиной шьют.
Так заковыристо в народе обозначали тех лесных налетчиков, что поджидают добычу, хоронясь под мостом.
– Имена и прозвания потом скажешь. Может, и впрямь в наши столбцы затесались.
– Аникины они, Федот да Гаврило. Оба кожемяки. А она, Дарья, сказывали, честная вдова. Сказывали! Языки бы им калеными клещами!.. Повенчался мой дурень на этой Дарье. Стали жить. А у Онисима сынок – Архипка, ему уж шестнадцатый. Думали учить его, чтобы потом женить и поставить в приказчики, а до того я его в ту лавку, что ближе к спуску, определил. Так парень два и два сложить не умеет. Погоди, не смейся, рано смеешься.
Мартьян Петрович отхлебнул из кубка пряного заморского гипокраса.
– Ты сказывай, сказывай…
– А ты пей да слушай. Архипка на коленях батьку просил: не бери нам мачеху! У Онисима-то еще две дочки. Коли рассудить – баба ему в доме нужна. Да только не эта Дарьица мокрохвостая. Ну, стало, повенчались они. И Архипка стал за мачехой следить. Сам додумался или кто надоумил – Бог весть. Статочно, бабы. Следил, следил – может, начнет из дому добро выносить? А выследил ее с молодцом на чердаке. Шум поднял, с тем молодцом сцепился. Люди сбежались. Как полячишки говорят – гвалт!
– Да, отменное словечко. – Деревнин тоже отхлебнул гипокраса, приготовленного из дорогого красного вина, в меру приправленного корицей и мускатным орехом, но чересчур, на взгляд подьячего, сладкого; видеть, бабы гречишниковского семейства, норовя сделать как лучше, переложили меда.
– За Онисимом послали, он прибежал, чуть жену насмерть не зашиб. Из дому выгнал чуть ли не в одной рубахе. Она к братьям своим побежала. Они оба – недаром кожемяки, силища в руках – сам разумеешь… А братья через два дня подкараулили Архипку да начали лупить. Хорошо, добрые люди поблизости случились, поп какой-то мимохожий вмешался, дай ему Бог здоровья, сразу отняли парня. И эти братья Аникины грозились совсем его убить.
– Ну так приходи к нам в приказ, пиши кляузу, я научу, как составить, делу тут же ход дадим. Пусть кожемяки Бога молят, чтобы батогами отделаться.
– Приду, да только… Просьбишка у меня, Иван Андреевич. Спрятать надобно Архипку. Они же за моим двором следят. Оба злы, как черти. А у них еще товарищи, такие же безмозглые, только и умишка, что в кулаках. А он же не может безвылазно у меня в чулане сидеть, до ветру сбегать надобно, да и скучно ему там. Что им стоит перемахнуть через забор да ткнуть Архипку ножом? Потом хоть самому Годунову жалуйся – с того света не вернешь.
– Ты его, выходит, приютил?
– Да. У себя пока спрятал. Мой кум Василий собирается в Муром за солью, да с ним еще наши купцы, поедут двадцатью санями. Я бы с ними Архипку и выпроводил. Там бы его хорошему человеку с рук на руки сдали, там бы и остался.
– Да коли он никакого ремесла не знает?
– Пусть мешки в амбарах таскает! – вдруг рассвирепел купец. – Говорил я дурню Онисиму! Говорил! Да хоть бы его к сапожнику в ученье отдал! Пусть бы всю жизнь подметки приколачивал! Так нет же – единое чадо мужеска пола, наследничек!
– Грамоте знает?
– Молитвослов по складам разбирает. Нет, в приказ его нельзя брать. Может, там, в Муроме, его женят? Там бы остался, от меня подалее, глаза б мои на него не глядели!
– В шестнадцать он уж жених. – Деревнин вспомнил о Михайле. По решению Стоглавого собора, случившегося чуть ли не полвека назад, женить можно даже с пятнадцати, и того решения никто не отменял. Михайла, выходит, уж лет шесть как жених, и ведь просил сын, чтобы посватали хорошую девку, просил!.. Может, та, о которой говорила утром Марья, подойдет?
– Но когда обоз снарядят – неведомо. Сделай божескую милость, помоги спрятать! К тебе на двор эти сукины сыны не полезут. Настолько у них ума, поди, хватит. Охота им с Земским двором связываться!
– Ну что же… Придется помочь, авось на том свете зачтется. Вот что – я завтра, как начнет темнеть, к тебе соседа, Тимошку, пришлю. А ты дай ему деньгу.
Тимошка, здоровенный парень, нанялся на строительство будущего Зачатьевского храма, как пошутил Деревнин, конно, людно и оружно, то бишь – со своими санями и своей лошадью.
– Деньгу-то дам. А ты Архипку в Остожье, что ли, спрячешь? Или иное место сыщешь?
– Сперва – в Остожье. Дале – как Бог даст. Только растолкуй, где Тимошке с санями ждать, чтобы твоего Архипку к нему неприметно вывели. А там, в санях, будет солома, он в солому зароется и так поедет.
На том и расстались.
Подьячий вернулся на Земский двор, где остались незавершенные дела и дремал в ожидании Митя. Стало вроде потише – главная суматоха была там с утра.
Деревнин не собирался раньше положенного времени уходить из приказной избы, а лишь когда православный люд потянется к церквам. Он хотел было отстоять службу, да ноги уже не держали и соображение отказывало, того гляди, рухнешь в Божьем храме на пол да и уснешь, свернувшись калачиком. Дома подьячий хорошо поел и ушел спать, а переговоры с Тимошкой решил поручить Марье – и ей же следовало встретить потом сани с Архипкой. Марья ловка, бойка, ей это будет в забаву. Опять же – у нее по всему Остожью соседки, подружки и кумушки, потом найдет куда на время пристроить парня.
А дружба с Гречишниковым подьячему пригодится. Услуга за услугу – на том мир стоит.
Все это время Деревнин думал, как бы поскорее освободить Воробья от мертвого тела. Коли по уму – так хорошо бы его подбросить к Крымскому двору. Это его новых обитателей девка – пусть они с ней и разбираются. Других забот хватает. Хотя за наглость убийц и следовало бы наказать.
Кто там теперь поселился – Деревнин плохо понимал. Он спросил у приказных на Земском дворе, но они мало что могли поведать. Пришел караван из каких-то дальних степей, с целым табуном лошадей, с верблюдами, и что они делают за ветхим, наскоро залатанным и бревнами подпертым забором, охраняемые стрельцами, – не деревнинского ума забота. Одно слово – орда. И коней, сказывали, как истинные ордынцы, режут на мясо. Хотя кое-что припомнить он все же мог – на Москве живет в заложниках то ли сын, то ли племянник, то ли киргизского, то ли еще какого хана, так, может, посольство с ним как-то связано. О делах, не имевших прямого отношения к Земскому двору, Деревнин старался не знать лишнего – он не Змей Горыныч, башка на плечах всего одна, да и та от избытка сведений скоро вдоль и поперек треснет.
Вот ежели бы на Крымском дворе случилась неприятность да прибежали оттуда в приказную избу с жалобой, то пришлось бы разбираться, кто таковы и зачем пожаловали. А коли молчат, то до них и дела нет.
Наутро в приказной избе, как всегда, толпился народ: иной приволок кляузу, составленную площадным подьячим, и пробивался с ней к самому судье, в худшем случае к дьяку; иной стоял с корзинкой, в которой было подношение подьячему, занятому его делом; иной держал за шиворот собственноручно пойманного и приведенного вора, при этом рожа вора вся была в кровавой юшке; иной с львиным рыком навис над столом, за которым уже трудились писцы и подьячие, потрясая оторванным рукавом шубы. Все это был московский люд, гомонящий и яростный, а никаких гостей с Крымского двора не наблюдалось.
Деревнин удалился в отдельную каморку, чтобы отобрать сказку у второго налетчика. Тот сказался Авдейкой Кривым, и точно – был крив. В старых сказках, извлеченных из позапрошлогодних столбцов, говорилось о кривом человеке со шрамом поперек лба, что, ловко орудуя кистенем, до смерти убил попа из Кисловской слободки. Шрам точно был, летучий кистень у Авдейки отобрали стрельцы. Налетчик врал напропалую. Подьячий понимал, что на тот свет молодцу неохота, но уж больно много грехов накопилось. Они пререкались до самого обеда, причем ловкий Деревнин вызнал много любопытного и уже знал, откуда можно извлечь Авдейкину зазнобу и его престарелого родителя.
В обед же пришел Воробей.
– Как тобой сказано, то в точности исполнено, – сказал он.
– Опись принес?
– Принес.
– Давай сюда.
Воробей протянул листки.
– Вот она. Под подол, ты уж прости, не заглядывал, а что сверху…
– «Шуба на бобре», – прочитал Деревнин. – «Под ней халат тонкого сукна, рудо-желтый, с нашитыми узорами. Под халатом порты широкие, как мужские. Сапоги с меховой оторочкой, красные. На шее цепь с тремя подвесками, одна под другой, серебряная, кольца большие, в подвесках самоцветы, название неведомо. Серьги черненого серебра. На правой руке, на пальце, перстень с бирюзой, остроносый…» Как это – остроносый?
– А вот так. – Воробей пальцем нарисовал на столе фигуру. – С одного конца, что ближе к тулову, округлый, а с другого – вроде наконечника стрелы. На клюв похоже. Ульяна божится, что такое видит впервые.
– Не пошла по соседкам хвостом мести?
– Нет, дома сидит.
– Это хорошо.
– Так когда же?
– Дай срок. Авось не протухнет.
Не сильно этим утешенный, Воробей ушел. Деревнин понимал – мало радости держать у себя на дворе, в сугробе, загадочное мертвое тело.
У него хватало забот, иначе он бы задумался, отчего Ульяна так скоро присмирела.
Вечером он отправился в Остожье, где уже ждал Тимошка с санями. Растолковав, что предстоит сделать, Деревнин уселся в те сани и поехал к Гречишникову.
– Твоего Архипку ждут в переулке, там, где кривая ветка из-за забора нависает. Пусть бежит во всю прыть и валится в сани, тут же мой Тимошка мерина хлестнет и умчит детинушку. Ни один кожемяка его не догонит – ноги у них коротки, – сказал он купцу. – А я у тебя покамест посижу. И вели своим молодцам прогуляться дозором вдоль забора – не караулят ли там меня кожемяки.
– Вот тебе десять копеек на его прокорм. Не хватит – добавлю.
– Ты уж поскорее, Мартьян Петрович, обоз снаряжай.
Из молодцов, служивших в гречишниковских лавках, женатые жили с женами при родителях, а двое неженатых – при купце, где им отвели подклет и стелили не войлоки на полу, а тюфяки на лавках. Они же, убедившись, что злобные братья-кожемяки убежали за санями и не вернулись, пошли к знакомому извозчику, вместе с Деревниным, несколько попетляв по длинным переулкам, доехали до Остожья, а оттуда вернулись домой.
Подьячий вошел в сени, отряхнулся от соломы, которую ради тепла извозчик щедро навалил в санки, и принюхался. Бабы наготовили пряженых пирогов, жирных и очень вкусных. Они лежали в латке, залитые горячим растопленным салом, и благоухали так, что за версту можно было учуять.
Архипка, спасенный от кожемяк, сидел на поварне и ел пирог.
– Ну, вставай, Аника-воин, – приказал Деревнин. – Дай-ка на тебя погляжу.
Архипка встал со скамьи.
Парнишка на вид был совсем обыкновенный – кудлатый, уже в меру плечистый, лопоухий, нос репкой, такого в толпе на Торгу разве что по кафтанишку признаешь.
– Жених… – пробормотал Деревнин. – Что, крепко они тебя поколотили?
– Крепко. Да и я им тоже!..
– Будет врать-то. Они – молодцы в самой силе, кто ты против них?
– Я Федьке зуб выбил. То-то он взбеленился!
– Суров. Грозен. Как же с тобой быть? Пока обоз соберется – у меня поживешь, что ли… Да ведь я дармоедов не люблю. Батюшка твой тебя разбаловал, Мартьян Петрович вовремя тебя у него не отнял да с обозом куды ни есть не отправил. Какая от тебя в хозяйстве польза?
Подьячий говорил строго – строже некуда. Не дитя перед ним, чай, пусть за ум возьмется. Пусть уразумеет – с него теперь спрос, как со взрослого.
– Не знаю…
– Вот и я не знаю. Ненила, заставь его завтра в подклете старый скарб разобрать. Там, поди, еще с времен царя Гороха всякое дерьмо валяется. Потом попросим Тимошку, он вывезет и куды ни есть свалит. А коли что путное найдется… Ну, вы с Марьей сами толковые бабы, не дадите добру пропасть.
Потом решили, где Архипке спать: да тут же, на поварне, бросить ему войлок на пол, возле печки, будет тепло и хорошо. Ночи две или три так поживет, пока Марья и Ненила его в ином месте не пристроят. А там уж и обоз до Мурома.
Деревнин сам спустил дворовых псов с цепи. Ежели кожемяки все же выследят Архипку, на двор лезть побоятся. А потом отправился к Воробью.
– Завтра ночью придешь ко мне, дам тебе детинушку… для известного дела…
– Это было бы хорошо…
– Сам знаю, что хорошо.
На следующий день, придя домой, Деревнин выслушал отчет Марьи: в подклете найдены старая шуба, невесть чья, лубяные короба со всякой непонятной дрянью, сломанная прялка, доски, неведомо для чего припасенные, узел с тряпьем, горшки с трещинами и битыми краями, а также вполне еще годные, ежели подлатать, суконные полавочники. Ненила же сказала, что Архипка всем хорош, не перечит, да только ест – как трое здоровенных молодцов, из тех, что мешки с зерном на баржи таскают.
– Купец дал кормовые деньги, дней на десять – по деньге с полушкой на день. Так что не ворчи и доставай из печи, что Бог послал.
И очень вовремя Ненила выставила на стол огромный горшок-кашник. Во дворе залаяли псы, но не злобно, а весело.
– Михайлу, поди, встречают, – сказала Марья, метавшая на стол миски и плошки с квашеной капусткой, с груздями и рыжиками солеными, с огурчиками махонькими солеными, особо – маленькую плошечку с опятами, другую – с икоркой ястычной, третью – с мелкими, как тараканы, снетками. Было и сало двух видов, соленое и копченое. Последней Марья водрузила посередке большую толстую ковригу – резать ее на ломти следовало хозяину дома.
Сало Деревнин не одобрил было – сало обычно ел с утра. Но догадался – роскошь ради Михайлы. Марья после смерти жены Агафьи растила парнишку и старалась его баловать.
Вошел сын и, сняв шапку, перекрестился на Николу-угодника, которого Ненила держала на кухне, утверждая, что он по части стряпни тоже знатный помощник.
Михайла был так хорош собой, что любой батюшка бы таким сынком гордился: статный, плечистый, румяный, кровь с молоком, кудри и шелковистая бородка – темно-русые, глаза в богатых ресницах – серые, улыбка – светлая, радостная, зубы – чистый жемчуг. Сразу видно: сейчас только личико округлое, а войдет в мужские года – станет осанист и дороден, не хуже иного боярина, дородство – тоже дар Божий, вон товарищ по Земскому двору Кузьма Устюжанин тощ, сквозь кафтан ребра перечесть можно, и сколько бы ни ел сладкого и жирного – хоть бы фунт мяса на те ребра нарос. И у себя в приказе Михайла на хорошем счету.
Марья рассказывала – свахи вокруг двора вьются, перед ней лебезят: понимают ее положение при хозяине. Сама же она держит их в строгости и лишь о самых достойных невестах докладывает хозяину, и это правильно, иначе бы Иван Андреевич от такого избытка совершенно ненужных сведений озверел.
– Ну, здравствуй, сынок, – сказал Деревнин. – Утешил батюшку, и года не прошло – явился!
Не то чтобы он был сильно недоволен, а хотел показать отцовскую строгость. Все-таки Михайле лучше жить в Кремле, где на дворе у Вострых ему и стол, и даже мыльня. Иное дело – хорошо бы убедиться, что сын не нахлебник, а дает хозяйке деньги за прокорм, платит дворовым девкам за стирку портов и рубах.
– Прости, батюшка, служба, – ответил сын.
– Ладно уж. Садись. Ненилушка, дай ему ложку.
Михайла скинул шубу, которую Марья тут же вынесла в сени, и Деревнин невольно улыбнулся: сын вырос славным молодцом.
Сын же глядел на отца с некоторой тревогой: что, когда приискал невесту и велит завтра же – под венец?
Жениться Михайла желал, в его годы надобно, чтобы жена ждала со службы и от стола уводила в опочивальню, на чистую постель, а не тискаться по чуланам с беспутными дворовыми девками. Да только отцовский замысел он знал – непременно взять невесту из такой семьи, что поближе к Борису Федоровичу. Красавицу Деревниным не отдадут, а постараются сбыть с рук воронье пугало.
В Кремле Михайла нагляделся на красивых девок, особенно когда они, собираясь в храм на службу и в крестный ход, наряжаются во все лучшее. Забава была у приказной молодежи – глядеть на такой крестный ход с высокого крыльца, перемывая девкам и их родне косточки. Девки и женки про то знали и норовили проплыть со смиренным видом, опустив глазки; как знать, кто из этих веселых обалдуев окажется вдруг женихом.
Михайла еще никого себе не приметил, а отцовской воли побаивался.
– Марьюшка! Куда ты запропала, садись! – крикнул Деревнин. – Архипка! И ты садись.
– Это что еще такое? – спросил Михайла про Архипку.
– Хочу на службу к нам в приказ определить, а пока вот откармливаю, – отшутился подьячий. Потом он благословил трапезу и все же рассказал про Архипкин подвиг.
– А что, батюшка, может, отрок на Земском дворе и впрямь пригодится. Грамоте знает? – спросил сын.
– То-то и оно, что ни в зуб толкнуть.
Архипка покраснел.
Как следует поев, Михайла, по отцовскому примеру, расслабил пояс.
– Ты у нас ночуешь? – спросил Деревнин.
– Да. Хочу две рубахи взять, да портов две пары, да подушку – Семеновне обещал.
Семеновна была матерью его друга Никиты.
– Что ж, у Вострых подушек мало?
– У них дед болеет, сидеть может, лишь подушками обложившись.
– Поди, уж на ладан дышит… – Деревнин вздохнул, деда того он знал очень давно, сам был парнишкой, а Вострый уже бороду с проседью носил.
Михайла развел руками – похоже, дело шло к панихиде.
Женщины убрали со стола, Марья выдала Архипке его войлок, выдала тулуп – укрыться, когда ближе к утру печка остынет, парнишка лег в самом теплом месте и стал слушать беседу старших.
– А теперь расскажи, чадушко мое ненаглядное, кто поселился на Крымском дворе и для чего те люди приехали, – потребовал Деревнин.
– Они, батюшка, киргиз-кайсаки, вроде ордынцев, да не совсем, – несколько удивившись, ответил сын.
– А какой веры? Муллу с собой, чай, привезли?
– Муллу привезли. Он с нашим, московским муллой сошелся. Нашего к нему пускают, а его со двора – нет, не выпускают…
– Как, у нас и свой есть?
– В Татарской слободе, а ты не знал?
Деревнин пожал плечами – мог бы и догадаться, хотя на Москве много крещеных татар, которым мулла без надобности.
– Сказывали, с крыши сарая уже пять раз в день кричит, зовет молиться, – продолжал сын. – Еще откормленных лошадей привели – резать на мясо. А баранов им наши татары пригонят.
– Так на что они сюда всей ордой притащились?
Михайла задумался.
– Может, ты, батюшка, помнишь, в котором году мы Кучум-хана воевали?
– Да мы уж лет пятнадцать с ним воюем. Погоди-ка… Его наши казаки разбили в тот самый год, как царевич Иван скончался. Но ты про Ивана помалкивай – сказывали, покойный государь его так посохом ударил, что оттого смерть приключилась.
Михайла покивал. Необходимость молчать о многих делах он в Посольском приказе уже усвоил.
– А на что тебе Кучум-хан? – спросил Деревнин.
– На его стороне воевал Ораз-Мухаммад, то ли киргиз-кайсацкий царевич, то ли вроде царевича, то ли целый султан, поди разбери, как у них там, в орде.
– Это все я помню…
На самом деле – почти не помнил. Но как это сыну показать?
– Тот Ораз-Мухаммад, по батюшке – Онданович, точно царевич, да еще знатного рода. Его наш воевода Чулков пленил и в Москву отправил. И тут наш Борис Федорович с ним сговорился. Сделал его воеводой, посылал шведа воевать. Живется ему тут хорошо, хотя многие считают его аманатом. Коли вдуматься – аманат и есть, потому что домой его не отпускают. И вот киргиз-кайсацкий Тауекель-хан прислал за ним посольство с дарами – чтобы его домой отпустили. Посла звать Кул-Мухаммад, как по батюшке – пока не знаем. По-русски не разумеет, привез с собой двух астраханских татар – толмачей.
– Вот оно что.
– Сам знаешь, Крымский двор был заброшен, домишки там еле держатся. Так киргиз-кайсаки поставили свои войлочные круглые дома. Для нас – диво: как в таком можно зимой жить? А они не мерзнут. Довольны. И скот там при них, и лошади.
– И стенки войлочные? Как же держатся?
– Не знаю, я внутри не был. Мы с Никитой туда нашего дьяка сопровождали, один только раз нас туда пустили, их стерегут, чужому туда не попасть. Боярин Годунов велел стрелецким караулам день и ночь вокруг Крымского двора ходить. Ни они выйти не могут, ни к ним гость прийти. Одного лишь человека выпускают – да я тебе про то потом расскажу.
– И верблюды там есть?
– Да, батюшка, и кони, и дойные кобылы, и дойные верблюдицы, нас верблюжьим молоком угощали. Лошади, на которых они приехали, к морозу привычные, умеют траву из-под снега добывать. А еще привели дорогих лошадей, тех поставили в особом сарае, укрывают, теплой водой поят. А охотничьих псов они уже отправили к государю – думали, он на охоту выезжает.
Деревнин вздохнул. Очень ему хотелось, чтобы государь был такой, как полагается – и на охоту ездил, и вверху, в царицыных покоях, полдюжины детишек бегало.



