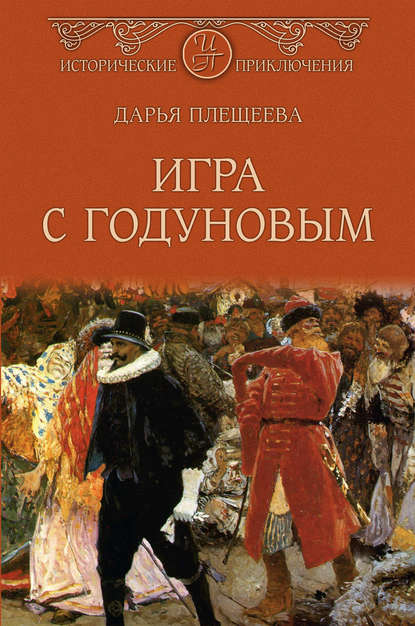
Полная версия:
Игра с Годуновым
О том сватовстве рассказывали ныне разные глупости, а правду знал боярин Годунов. Царя порой охватывал невыносимый страх, и он помышлял о надежном убежище. Он видел кругом одних лишь врагов – да ведь и имел на то все основания. Отсюда – ловкая, как ему казалось, игра с английской королевой.
Елизавета, совершенно не собираясь замуж, успешно морочила головы европейским женихам. Царь Иоанн не был украшением ее коллекции. Но она желала помогать «Московской компании», которая в конце концов стала главной в поставке английских, да и вообще европейских товаров в Московское царство. Царь это понимал, но попыток не оставлял.
От Джерома Горсея, несколько лет управлявшего конторой «Московской компании», королева знала: царь-многоженец хотел заполучить ее руку, чтобы при нужде укрыться от своих врагов в Англии. Это смахивало бы на сказочные истории о рыцарях и феях, если бы не точные известия о постройке множества судов в Вологде и о тайной доставке туда многих царских сокровищ; путь же из Вологды в Лондон водой был долог, но более или менее надежен и удобен для бегства.
Боярин Годунов также имел недоброжелателей, также понимал, что его положение у трона, при хвором государе, ненадежно и даже самый захудалый немецкий князек мог бы приютить тестя с тещей, которые прибегут отнюдь не с пустыми руками.
Понимала это и боярыня Годунова.
Дочь Григория Скуратова знала более, чем требуется для ведения домашнего хозяйства. У боярина должна быть дружба с воеводами, чтобы, коли случится беда, не переметнулись на сторону какого-нибудь мятежного князя. Гость, которого ждал Годунов, был из тех, на кого можно положиться. Стало быть, нужно его привечать и радовать…
– Надо бы подарок твоему воеводе сделать, – сказала Марья Григорьевна. – Девки у меня в светлице вышили шелками знатную сорочку, сама залюбовалась. Марфице за то серьги подарила. У них, у киргиз, принято – гостю подарки дарить, я узнавала.
– Он не киргиз, а киргиз-кайсак. Его род точно из киргизских степей вышел невесть когда, отделился, стали жить сами по себе. Не любят, когда их так зовут. Они, сказывали, сами себя именуют казаками. Но выговаривают не по-казацки. А сорочку отдашь, когда принесешь чарку…
Борис Федорович хотел оказать гостю почет – из рук жены чарку, да еще с поцелуем. И вдруг вспомнил, что негоже, но жена опередила:
– Не станет пить. Вера ему не позволяет.
– Татары же пьют, когда их никто не видит.
Сказал да и вздохнул: если бы удалось выпоить гостю чарку дорогого и крепкого ставленого меда! И беседа бы легче пошла.
– Так то – татары. Они уж свои, хоть и Магометовой веры. Потихоньку могут оскоромиться. Этот, сам видишь, дикий зверь, – сказала боярыня. – Хоть и нашей речью отменно владеет, хоть и знатного рода, а все боюсь – взгляд у него нехороший… Видно, в степях Магометова вера какая-то иная.
– Потому и к обеду не зову. Ради него одного не велеть же поварам стряпать мясное без свинины. Учует свиной дух – может и стол опрокинуть, с него станется. Вели прислать с поварни каких ни есть заедок и кувшин с квасом, другой со сбитнем, да чтоб не смели в сбитень вина добавлять. Дикий зверь… Плохо ли ему на Москве живется? Пора бы уж из рук корм брать. Ладно, пришли кого ни есть с сорочкой, а от меня будет перстень с руки. Вот этот, с лалом.
Малиново-красный камень был из редких, и боярин надеялся, что воевода оценит и поймет такой дар.
– С лалом? – Марья Григорьевна поморщилась, нахмурилась, перстень был из дорогих. – Ин ладно. Коли для дела.
Это был удачный союз: его хитрость и ловкость, ее железная воля и жесткий нрав. Они почти за четверть века не просто поладили – срослись, научились не придавать значения мелким несогласиям. Сейчас им особенно следовало держаться друг за дружку – дядюшка Дмитрий Иванович чиновен, да стар, государь хвор, долго ли протянет – неведомо, и следует готовиться к тому, чтобы защищаться.
Боярыня присела к шахматному столику и подвигала костяные фигуры, чтобы стояли ровнее.
– Как Феденька? – спросил Борис Федорович.
– Оправился, почти здоров. Жар сошел. Мамки день и ночь сидят рядом, чуть что – питье подносят. Но из покоев я его пока выпускать не велела. Сказывали, в Немецкой слободе можно купить листы с напечатанными парсунами, городами, божьими тварями. Вели послать туда холопа, пусть бы купил для Феденьки. Да и немецкие книжки пора для него начать собирать.
– Умница моя, – ответил боярин. Сам он был малограмотен и в книжных делах полностью полагался на жену. Зато память имел отменную: то, что иной на его месте записал бы на листках и потом сшил их в тетрадку, Борис Федорович держал в голове.
Он не считал шестилетнего сына младенцем, кому еще рано разбирать молитвослов по складам. Желая, чтобы дитя росло книжным и понимало, что творится в государстве, боярин сам порой сидел с ним, растолковывая, откуда берутся цены на хлеб и сколь важно заводить в Москве кирпичные заводы. Они вместе поднимались на кремлевские башни, чтобы оттуда смотреть на Кремль, на Китай-город, на Замоскворечье, на реку с ее изгибами и медленно плывущие суда, считать маковки церквей.
Боярин с боярыней еще потолковали о домашних нуждах, потом боярыня поправила мужу атласную тафью и легонько одернула шелковый цветной кафтан. В покоях было жарко – от крепко натопленной изразцовой печки впору в одной рубахе распояской сидеть, но гостя в таком виде не примешь.
– Калмыки, – сказала она, уходя.
– Да, калмыки, – согласился он.
Муж и жена прекрасно друг друга поняли.
Гость явился вскоре после того, как боярыня вышла.
На столе уж стояли кувшины, стаканчики, узорные плошки с орехами, пастилой, пряниками на меду, сладкими пирожками, сухим вареньем из ягод, как его делают поляки. Внизу, на поварне, держали наготове богатую рыбную калью, чтобы при нужде сразу подать ее горячую на стол, да с хорошим хлебом и с мисками икры на закуску. На краю плиты держали также тельное из рыбы и карасей в сметане, казанок с сорочинским пшеном, вздели на вертелы куриные тушки – чтобы при знаке из покоев наскоро приготовить куря верченое.
Сорочка, пестро расшитая, в шелковом мешочке, лежала на аналое, поверх раскрытой книги – книга предназначалась для гостей, пусть думают, что боярин Годунов на досуге читать изволит.
Годунов знал, о чем будет просить гость, и надеялся, что сумеет отказать мягко и ласково.
В сенях сидели на лавке молодые челядинцы – те, что на посылках, и скуки ради играли потихоньку в зернь. Явление гостя их даже обрадовало – он, взбежав на высокое крыльцо и пройдя известными ему переходами, скинул им на руки волчью шубу, крытую синим сукном, а они, как велел боярин, всем видом показали, сколь боярский дом гостеприимен.
Лисьей шапки гость не снял. Так в ней и вошел. Это показалось странно: да какого же вежества ожидать от степняка, да еще магометанской веры?
Гость был молод – по мнению Бориса Федоровича, не более двадцати трех лет. Годунов помнил, как его, парнишку-пленника, привезли в Москву из Сибири вместе с пленницами его рода. Это было ценное приобретение – хотя Годунов тогда больше беспокоился о том, что будет на западной границе, чуть меньше – о том, как сибирские казаки гоняют уже почти не опасного хана Кучума, но любопытствовал и о делах степняков.
По степи пролегал путь в Бухару и Самарканд, и даже далее – путь в Китай.
Парнишка был из потомков славного Чингисхана, а это и для московских князей, чванящихся высокородством, много значило. Дед его – потомок Чингисхана Шигай, хан у киргиз-кайсаков, отец – славный воин Ондан-султан, носивший прозвище Узын-ук – Длиннострелый. Брат его, родной дядюшка парнишки, – Тауекель-хан. Такой пленник мог пригодиться в хозяйстве, и потому ему вместе с его семьей назначили тогда хорошее содержание. Вскоре Борис Федорович узнал от боярской и княжеской молодежи, с которой пленник выезжал охотиться, что он телом крепок и разумом быстр, что доблестен и в погоне за добычей неутомим. Да и Длиннострелый, как его батюшка.
Годунов отправил его воевать со шведами и увидел, каков он в деле. Это было даже удивительно, однако грех не воспользоваться способностями юноши. Сам боярин в воеводы не годился – прекрасно это сознавал. Он предпочитал не воевать, а договариваться. Но бывают случаи, когда переговоры бесполезны. Был только один способ вернуть потерянные в минувшей войне со шведами города Ям, Копорье, а особенно был необходим город Нарва – он давал выход к морю.
Рядом с боярскими детьми и княжатами молодой киргиз-кайсак был как персидский аргамак рядом с возниками, годными только в оглобли. Что такое бой – он знал не понаслышке, к тому же рядом был его воспитатель, растивший его для побед и мудрого правления своим народом. Дав ему под начало татарскую конницу, Годунов увидел, что юноша на многое способен, умеет повести за собой, знает толк в расстановке сил; видать, научился, живя при хане Кучуме, у которого, статочно, служили и китайцы – из тех, что сведущи в военном деле. Такого бойца следовало сделать воеводой и приблизить к себе – так рассудил Годунов, – такой воевода необходим. Он не связан родством ни с кем на Москве, он вряд ли впутается в заговор, а защищать будет того, из чьих рук кормится…
– Добро пожаловать! – сказал гостю боярин, сам пошел навстречу, чтобы даже приобнять воеводу – слегка, по-отечески.
Звали гостя – Ораз-Мухаммад, на русский лад – Оразом Ондановичем. Он прибыл с малой свитой верхом – нехорошо жигиту кататься в санях, когда есть кони. Свита осталась внизу.
Это был юноша, чье лицо безмолвно говорило о древней и благородной крови. Тонкие черные брови вразлет отчего-то наводили на мысль о стремительной и хищной птице. Глаза, не столь узкие, как у знакомых боярину степняков, и лицо, не столь широкое, и черные усы – тоже тонкие, обрамлявшие небольшой рот и спускавшиеся чуть ниже уголков губ, и черная бородка, совсем короткая, подчеркивавшая очертания чуть впалых щек, – все это вместе заставило однажды боярыню Годунову, впервые увидевшую Ораз-Мухаммада, прошептать:
– Ишь, девичья погибель…
Он был одет на свой, на степной лад: на замшевый бешмет нашиты золотистые узоры, к поясу прицеплены кошель, нож в ножнах и серебряная пороховница, сам пояс украшен золотыми накладками – крылатыми конями-тулпарами, широкие порты заправлены в покрытые богатой вышивкой сапоги. Войдя, Ораз-Мухаммад снял с головы лисий малахай и поклонился. Затем огляделся, увидел у стены лавку с богатым суконным полавочником и положил свой малахай, как показалось Годунову, – совершив перед шапкой поклон.
– Отменную лису ты добыл, Ораз Онданович, – сказал Годунов. – На Москве тебе шапку шили или свои умельцы есть?
– Не шапка, тымак. Тымак моего отца.
Годунов был сообразителен: коли гость прибыл в отцовской шапке – стало быть, гостевание для него много значит. Но надо было соблюсти обычай вежества.
– Каково поживает матушка твоя, Алтын-ханум? Каково поживают сестрицы?
– Благодарение Аллаху, все здоровы.
– А бабка, Ази-ханум?
– Ази-ханум бодра и полна сил.
Тот, кого Годунов приставил соглядатаем к Ораз-Мухаммаду, исправно доносил, что бабка, невзирая на почтенные годы, во все сует нос и внук очень с ней считается. Видно, она была из тех киргиз-кайсацких женщин, что могли выехать в сражение наравне с мужчинами, метко стреляя из лука и разя саблей. О повадках степнячек, которые носят порты на мужской лад и способны целый день не сходить с коня, Годунов был наслышан.
Был при Ораз-Мухаммаде человек, с которым боярин охотно бы потолковал, – Кадыр-Али Жалаири, человек ученый, попавший в плен вместе с юношей, которого сам с тринадцати лет воспитывал, и привезенный в Москву. Годунов встречался с ним, задавал через толмачей вопросы и при этом чувствовал себя ниже этого пленника. Но это было давно, вскоре после того, как пленников доставили в Москву. Годунову было любопытно – что это за человек, служивший визирем у хана Кучума, потом успевший сбежать в степь и вернувшийся к Кучуму уже в ином качестве – главным эмиром Среднего жуза. Его полномочия, данные Тауекель-ханом, были велики, он приступил к переговорам с сибирским беком Сейтеком – и вместе с ним был пленен. Теперь, как донесли Годунову, старик предавался ученым изысканиям и писал сочинения о своем племени.
Боярину было трудно даже вообразить, как человек, не имея под рукой старых книг и летописей, может сподвигнуться на такие сочинения. Он сам в силу своей малограмотности очень многое держал в памяти, но ведь не подробности военных походов, случившихся пятьсот лет назад.
– Иным разом привези с собой Кадыр-Али, – попросил Годунов.
– Иншалла.
– Очень достойный человек. Хочу потолковать с ним и понять, кто такие киргиз-кайсаки…
И тут Годунов понял, что совершил ошибку.
– Мы – казахи! – заносчиво перебил его Ораз-Мухаммад.
Боярин попытался выговорить это слово так, как произнес молодой воевода. То ли «казаки», то ли «хазахи», во всяком случае, звук был непривычный для русского уха и языка. Но Ораз-Мухаммад одобрительно кивнул – он оценил любезность Бориса Федоровича.
– Садись, сразимся, – предложил Годунов, указывая на шахматный столик. Он знал, что обыграет воеводу.
Ораз-Мухаммад сел с той стороны, где темные фигурки. Годунов велел ему пересесть – играющий белыми имеет больше возможности победить. И дальше их разговор шел под постукивание фигурок о столик.
Начало игры было для боярина несложным – они и с покойным государем стремительно проскакивали начало, наскоро разменивали несколько фигурок, а потом уж было над чем поломать голову.
– Знаю, о чем просить пришел, – сказал Борис Федорович. – Хочешь встретиться с послом хана Тауекеля. Мне донесли – посольство уже в двадцати верстах от Москвы. Для него приготовлен Крымский двор, хоть он и маловат. Забор укрепили, стрельцы в караулы назначены.
– Хочу.
– Ораз Онданович, так за чем же дело стало? У меня в палатах и встретишься. Посольство явится к великому государю, потом будет пир. А дня через два я приму посла у себя. Тогда и будешь зван. Ты лучше дай мне совет – чем таких гостей потчевать.
Годунов имел в виду не только застольное угощение. Обычно после приема у государя послам посылались туда, где их поселили, «корма» – большие блюда с лакомствами от царского стола, дорогие вина. Боярин и у себя завел такой же обычай. И его «корма» были не хуже царских.
– Посол был бы рад увидеть на твоем столе казы, бесбармак – как его подают самым почтенным гостям, жал-жая. Но для этого нужно нарочно откармливать лошадей. На Москве такого нет. Думаю, будет хорошо, если послу поднесут вареную баранью голову, это знак уважения. А все прочее – баранина, хороший хлеб, пироги пряженые… У нас пшеничная мука дорогая, а на Москве ее сколько угодно, – сказал воевода, и боярин отметил это «у нас».
– А еще?
– Пришли ко мне своего повара, мой его научит готовить кауырдак. Это бараньи потроха – когда режут барашка, женщины очень быстро это делают, чтобы сразу подать мужчинам. Посол будет удивлен, но оценит твое к нему расположение.
– Благодарствую… Ты гляди, какой я сделал ход и какой твоей фигуре угрожаю, – предупредил он.
– Так смогу я увидеться с послом?
– В моих палатах, Ораз Онданович.
Это было сказано строго и даже жестко.
– Отчего я не могу приехать к Кул-Мухаммаду на Крымский двор? Мы давние знакомцы, вместе выезжали на ястребиную охоту…
– Оттого, Ораз Онданович, что посол хана Тауекеля имеет задание: помочь тебе покинуть Москву и присоединиться к хану. Об этом догадаться нетрудно. Будь внимательнее, я угрожаю твоему коню. Конечно, у него есть и другие цели. Я знаю, что хан Тауекель готовит поход на Бухару. Это будет большая война. Хану нужно оружие огневого боя – пушки, пищали, к ним порох. А где их взять, коли не у меня? И ты ему для этого похода тоже нужен. Я позвал тебя сюда, зная, что будешь проситься домой…
– Буду! Отпусти меня! – воскликнул молодой воевода. – Не могу более тут жить. Я тут – как лист одинокий, с высокого дерева слетевший.
– Отчего ж одинокий? Твоя семья с тобой. Государь тебе поместье на Оке пожаловал. Двор твой богат. Чем тебе тут плохо, Ораз Онданович? Иль ты у меня не желанный гость? Иль государь тебя не милует?
Ораз насупился, сдвинул черные брови, глаза сузились. Годунов сам не понял, как вышло, что отшатнулся от степняка.
– Тебе, как сказал твой Кадыр-Али-бек, сейчас двадцать три года всего. А ты уже показал себя доблестным воеводой. Не твоя вина, что ты, служа хану Кучуму, к нам в плен попался. Иначе быть не могло, не мог ты один хану Кучуму целое войско заменить. Да и воевода Чулков сумел вас с Кадыр-Али и Сейтек-беком в ловушку заманить. Я сразу понял тебе цену, Ораз Онданович. Когда мы шведа воевали – кто, как не я, настоял поставить тебя во главе сторожевого полка. А кончил ты войну уже воеводой полка левой руки. Будут еще войны, явишь себя во всей красе. Над главным полком тебя поставлю, хочешь?
– Хочу за своих биться. Я нужен моему хану. Отпусти! За меня кого попросишь – в аманаты дадут, хоть ханских детей.
– Мне дети тебя не заменят. Прямо тебе скажу – не всякому народу дается такой владыка, как твой дядюшка Тауекель-хан. Но он желает все сразу – и пушек, и тебя. Эх, будь ты посговорчивее…
Ораз-Мухаммад промолчал. Он понял, о чем речь. Ему уже несколько раз предлагали покреститься, как это сделали многие татарские и ногайские юноши из лучших родов. Приняв крещение, он бы не знал отбоя от свах – все княжеские и боярские дочери были бы готовы хоть завтра под венец.
– Моей Аксинье скоро тринадцать. Красавицей растет. Хочешь – покажу?
Ораз-Мухаммад вырос там, где степные красавицы не прятали своих лиц. Да и смешно девушке, которая чуть ли не с рождения садится в седло, кутать лицо – на полном скаку ветер любое покрывало сорвет. Живя в юрте, не станешь прятаться от людей – и ты всех увидишь, и тебя все увидят, и греха в том нет. Потому молодому степняку казался странным московский обычай держать в высоких теремах девиц на выданье, допуская к ним лишь близкую родню.
– Не хочу.
– Упрям ты, царевич.
Разумеется, Годунов не собирался отдавать единственную и любимую дочь за киргиз-кайсака, или казаха, или кем уж он сам себя считает. Но поманить, но намекнуть-то следовало?
Меж тем воевода ему нравился. Черты лица хоть и непривычные, но приятные: гладкие щеки, короткий прямой нос, ухоженная бородка, а прищур узких глаз – такой прищур врагу страшен, а девкам, поди, даже может нравиться.
– У нас в Татарской слободе есть невесты хороших родов. Скажи – любую посватаю. Мне не откажут. Будет красивая жена одной с тобой веры.
– Отпусти, Борис Федорович.
– Не то убежишь?
Ораз-Мухаммад промолчал.
Годунов не мог понять, что значит для Ораз-Мухаммада грядущая весна. И не мог увидеть то, что сейчас предстало перед внутренним взором воеводы. А увидел Ораз-Мухаммад весеннюю степь. Красную благоухающую степь. Не от крови красную – от ярких цветов, именем кыз-галдак, в русском же языке еще и слова для них не было. Даже не проскакать на горячем туркменском скакуне по той степи, а просто молча глядеть, как волнуются под ветром цветы.
Он вспомнил, как цвела степь, когда он с матушкой и девушками своего рода ехал к соседям на свадебный той. Ему было не более шести лет – слишком мал, чтобы ехать с жигитами, и потому сопровождал матушку. Но он был достаточно взрослым, чтобы для него оседлали невысокого конька.
Матушка – в своем белоснежном кимешеке, украшенном тонкой вышивкой, в шапочке, расшитой жемчугом, кораллами, золотыми нитями! Каким молодым и красивым было ее лицо! Как великолепен был бирюзовый наряд, из-под которого виднелись узорные штаны-дамбал и изящные сапожки! И красавицы, горячившие коней, чтобы унестись вперед и сразу же вернуться, – как они были веселы и хороши!
Ораз-Мухаммад вспоминал тех девушек, тех луноликих всадниц, – все они были прекрасны в своих лучших нарядах, в шапочках, украшенных совиными перьями. Они смеялись, а одна играла на шанкобызе – потом он, взяв у матушки ее шанкобыз, которым она убаюкивала детей, попытался повторить тот напев – и не смог. И таких красавиц, кажется, он больше никогда не встречал.
И в их косы были вплетены подвески – шолпы и шашбау с маленькими серебряными колокольчиками. Нарядные, праздничные шашбау – их перезвон соединялся с напевом шанкобыза. И подвески девичьих ожерелий-алка тоже звенели на разный лад – у иных стукались друг о дружку подвески, у других трепетали колокольчики. Сколько радости было в перезвоне и в девичьем смехе…
Кыз-галдак! Дева-цветок! Все в воспоминаниях сплавилось воедино.
Он несколько раз спрашивал у матушки, Алтын-ханум, что это был за свадебный той, кто на ком женился. Она старалась вспомнить – и выходило, что не раз и не два ехала со своими женщинами и девушками на праздник через цветущую степь, но ощущение торжества красного цвета до самого окоема, красной степи и синего неба, в ее воспоминаниях отсутствовало.
Кадыр-Али-бек тоже ничего не знал. Может быть, в том мире, который он выстроил вокруг себя, были древние предания, были рукописи на арабском, персидском, тюркском языке, теперь – еще и на русском, был тот неожиданный набег калмыков на его родной аул, была смерть Ондан-султана, после которой он увез в безопасное место, к хану Кучуму, тринадцатилетнего Ораз-Мухаммада с женщинами его семьи и более в степь не возвращался…
Цветов кыз-галдак в мире старца уже не было – статочно, и никогда не было.
… Годунов ждал ответа и был готов произнести слова отказа. Даже если бы и родилось вдруг сочувствие – Годунов бы не дал ему воли. Слишком хорошо знал Ораз-Мухаммад, что делается в Москве и вокруг Москвы. Если сейчас Тауекель-хан попросит помощи в борьбе с Бухарой – значит ли это, что он, победив свою вожделенную Бухару, сохранит с Москвой дружество? Совершенно не значит. И потому киргиз-кайсацкого воеводу, от природы способного и хорошо обученного воевать, выпустить из Москвы в степь Годунов не мог.
А ведь была еще одна забота – калмыки.
Годунов все это время ждал – не заговорит ли молодой воевода о противостоянии киргиз-кайсаков и калмыков. Это был бы нелегкий разговор – невозможно разом подружиться с одними и поддерживать других. Но Ораз-Мухаммад был сейчас озабочен лишь собственной судьбой – а статочно, не ведал, что творится в его родных степях. Да и откуда бы ему знать?
Боярин не мог давать оружие тем, кто вдруг повернет его против калмыков. Хотя бы потому, что киргиз-кайсаки – довольно далеко, а калмыки – ближе. И ссориться с ними не с руки.
И давать оружие огневого боя вообще никому из степняков нельзя. Оно должно принадлежать лишь московским воеводам. Иначе с этими ордынцами никакого сладу не будет.
– Ораз Онданович, я вижу – ты недоволен. Вот прими ради дружества и не серчай на меня. – Годунов стянул с пальца перстень и положил на шахматный столик. – И подожди, Бога ради. Может, все еще переменится. Может, когда станешь у нас воеводой большого полка, у кого под началом тридцать тысяч человек, все переменится – и я смогу отпустить тебя. Сейчас же – прости, не могу. Все проси – невесту с приданым, золото, лучшее место при государе…
– Все, кроме воли?
– Ораз Онданович, гляди – мой ферзь твоей ладье угрожает. Соберись с духом, заверши игру, – строго сказал Годунов.
И молодой воевода, вздохнув так, что это более напоминало змеиный шип сквозь зубы, увел ладью на другую линию. Но игра у него не ладилась, и боярин наконец сбил фигурки с шахматного поля.
– Боярыня моя приготовила тебе подарок. – Он взял с аналоя шелковый мешочек, протянул, и это означало, что беседа завершилась. – Всегда я тебе рад, вскоре увидимся – когда посольство будет звано представиться государю и на пир. И потом – когда я посла с присными у себя принимать буду. Коли хочешь, приготовь ему дары. А что он тебе дары привез – в том я не сомневаюсь.
– Благодарствую.
– Перстень не забудь, воевода.
Ораз-Мухаммад молча надел дорогой перстень на палец, а мешочек из китайского шелка сунул было за пазуху, но рубаха из самого тонкого холста не желала туда пролезть. Годунов невольно залюбовался тонким стройным станом воеводы, на котором замшевый бешмет сидел туго, как перстатые рукавицы на руках боярыни-щеголихи.
Потом воевода подошел к лавке, на которую поставил свою великолепную лисью шапку, с поклоном взял ее и надел на голову торжественно, как будто сам себя короновал.
Он умел держать себя в руках – обида на лице не отразилась. И боярин снова подумал: нельзя отдавать этого человека хану Тауекелю, самим нужен.
– Здрав будь, боярин, – хмуро сказал Ораз-Мухаммад, повернулся и вышел.
– Бог в помощь, воевода! – произнес вслед Годунов.
Суконная завеса двери, откинутая воеводой, колыхнулась и замерла.
– Ишь, недоволен… – пробормотал Годунов и, подождав малость, вышел в сени. Ораз-Мухаммада там уже не было.



