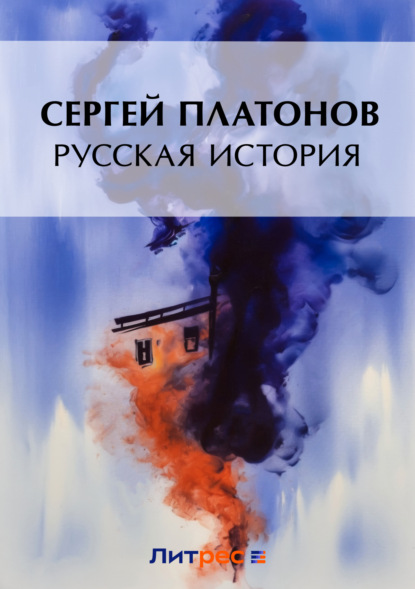 Полная версия
Полная версияРусская история
После этой свирепой мести, устранив из Москвы подозрительных лиц для государственной и своей безопасности, Петр отправился за границу.
Путешествие совершал он инкогнито, в свите великого посольства, под именем Петра Алексеевича Михайлова, урядника Преображенского полка. Отправление великого посольства к западным державам (Германии, Англии, Голландии, Дании, Бранденбургу, также к Римскому Папе и в Венецию) решено было еще в 1696 году. Цель посольства состояла «в подтверждении древней дружбы и любви» с европейскими монархами и «в ослаблении врагов Креста Господня», то есть в достижении союза против турок. Во главе посольства стояли генералы Франц Лефорт и Федор Алексеевич Головин. При них состояло пятьдесят человек свиты. Мы не знаем, как тогда Петр объяснил цели своего собственного путешествия. Современники судили о небывалой поездке русского царя в чужие земли самым различным образом: одни говорили, что Петр едет в Рим молиться апостолам Петру и Павлу, другие – что он просто хочет развлечься; некоторые думали, что Петра за границу увлек Лефорт. Сам Петр впоследствии, вспоминая свою поездку, писал, что поехал учиться морскому делу. Это объяснение, конечно, всего вернее, но оно слишком узко. Не одному морскому делу хотел учиться Петр, как мы увидим ниже.
Москву и государство Петр оставил на руки Боярской думе. Это не было при нем неизведанною новизною; царь и раньше подолгу не бывал в Москве, уезжая в Архангельск и под Азов. Официально считалось, что государь не уезжал: дела решались его именем, бояре не получали никаких особых полномочий. Некоторые исследователи замечают, что единственною экстренною мерой при отъезде Петра было удаление из Москвы подозрительных лиц (вроде Лопухиных).
Для достижения цели союза против турок посольство должно было отправиться прежде всего в Вену. Но так как русский резидент в Вене как раз в это время успел продолжить союз с императором на три года, то посольство, минуя Вену, отправилось в Северную Германию морем через Ригу и Либаву. В Риге, принадлежавшей шведам, Петр получил ряд неприятных впечатлений и от населения (которое дорого продавало продукты русским), и от шведской администрации. Губернатор Риги (Дальберг) не допустил русских к осмотру рижских укреплений, и Петр посмотрел на это как на оскорбление. В Курляндии зато прием был радушнее, а в Пруссии (тогда еще в Бранденбургском курфюршестве) курфюрист Фридрих встретил русское посольство чрезвычайно приветливо. В Кенигсберге для Петра и послов дан был ряд праздников. Между весельем Петр серьезно занимался изучением артиллерии и получил от прусских специалистов диплом, признавший его за «искусного огнестрельного художника». Русское посольство между тем вело с бранденбургским правительством оживленные переговоры о союзе; но русские желали союза против турок, а пруссаки – против шведов, и дело кончилось ничем. После некоторых экскурсий по Германии Петр отправился в Голландию ранее своих спутников. На дороге туда встретился он с двумя курфюрстинами (ганноверской и бранденбургской), которые оставили нам характеристику Петра. «У него прекрасные черты лица и благородная осанка, – пишет одна из них, – он обладает большою живостью ума; ответы его быстры и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной; в нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если б он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум». Грубость Петра выражалась в отсутствии той светской выдержки, к какой привыкли германские принцессы. При начале беседы с принцессами Петр очень конфузился, закрывал лицо руками. «Видно также, что его не выучили есть опрятно», – заметила другая курфюрстина. Этой светской выдержкой Петр не овладел вполне, кажется, никогда, но впоследствии он потерял свою робость и застенчивость.
В Голландии Петр прежде всего направился в городок Саардам (Саандам); там были знаменитые корабельные верфи, о которых Петр слышал еще в России. В Саардаме принялся он плотничать и на досуге кататься по морю. Но его инкогнито, плохо соблюдавшееся и в Германии, было нарушено и здесь; в Петре Михайлове узнали царя Петра, и весь город стремился посмотреть на диковинного гостя. Петр сердился, жаловался, даже бил назойливых зевак, но ему толпа не давала ни спокойно работать на верфи, ни отдыхать в его скромном домике (этот домик в ноябре 1886 года передан Нидерландами в дар России и принят нашим правительством). Рассерженный Петр, пробыв в Саардаме всего неделю, переехал в Амстердам, где оставался с половины августа 1697 до января 1698 года, лишь на короткое время выезжая в Гаагу и другие города. В Амстердаме учился кораблестроению на Ост-Индской верфи и достиг значительных успехов, но он остался недоволен голландским кораблестроением. Уже в России он научился плотничать, в Голландии же искал изучить теорию кораблестроения. Но голландцы строили суда навыком, не умея составлять корабельных чертежей, не зная теории корабельного искусства. Это-то и сердило Петра. «Зело ему стало противно, – писал он сам о себе, – что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг». Случайно узнал он, что теория судостроения выработана у англичан, решился поехать в Англию, в Москву же послал приказ подчинить голландских мастеров на Воронежской верфи мастерам венецианским и датским.
В Англии, куда Петр переехал без посольства в начале 1698 года, повторилось то же самое, что и в Голландии, – Петр учился теории судостроения и военному делу, катался по Темзе и присматривался к английской жизни, вращаясь в самых разнообразных сферах. Английские инженеры, техники, моряки производили на Петра лучшее впечатление, чем голландские, и он очень усердно приглашал их в Россию. Зато политическая и придворная жизнь в Англии мало интересовала Петра (то же было и в Голландии), и высшее английское общество имело основание считать Петра «мизантропом» и «моряком». Избегая придворных церемоний, Петр держал себя так свободно и странно для монарха, что встретил осуждение со стороны английского двора, которому «надоели причуды царя», как писал один дипломат.
В апреле 1698 года Петр вернулся в Голландию, к посольству, чтобы ехать с ним в Вену, до которой доехал только в июне, и прожил там около месяца. Встреченный императором Леопольдом очень радушно, он осматривал Вену, а между тем деятельно шли переговоры русских и венских дипломатов о войне с турками. С удивлением и досадой видел Петр, что австрийские политики не только не разделяют его завоевательных видов на Турцию, но даже не желают продолжения и той вялой войны, какую вели до тех пор. Русские говорили, что если уж император желает мира, то следует заключить его в интересах не одной Австрии, а всех союзников. Но и эта мысль не находила в Вене сочувствия. Петр убедился, что коалиция против турок, о которой он мечтал, невозможна, что следует и России мириться с Турцией, если она не хочет воевать с ними один на один.
В июле царь думал ехать из Вены в Италию, но получил известия из Москвы о новом бунте стрельцов. Хотя скоро пришло донесение, что бунт подавлен, однако Петр поспешил домой. На дороге в Москву, проезжая через Польшу, Петр виделся с новым польским королем Августом (в то же время и курфюрстом саксонским); их встреча была очень дружественна (Россия сильно поддерживала Августа при выборах на польский престол). Август предложил Петру союз против Швеции, и Петр, наученный неудачею своих противотурецких планов, не ответил таким отказом, как ответил раньше Пруссии. Он в принципе согласился на союз. Так за границу повез он мысль об изгнании из Европы турок, а из-за границы привез мысль о борьбе с Швецией за Балтийское море.
Что же дало Петру заграничное путешествие? Результаты его очень велики: во-первых, оно послужило для сближения Московского государства с Западною Европою; во-вторых, окончательно выработало личность и направление самого Петра.
Пользуясь пребыванием за границей царя, европейские правительства спешили извлечь из сношений с ним всевозможные выгоды для своих стран. Дипломатические сношения России с Западом пошли гораздо живее со времени путешествия Петра. Русские дипломаты и учащаяся молодежь, явившаяся на Западе вместе с посольством и отдельно от него, знакомили европейцев с Россией. В свою очередь, иностранцы толпами потянулись на Русь вследствие приглашений самого Петра и его уполномоченных. Необычный факт путешествия московского царя возбудил любопытство всего западноевропейского общества и к личности царя, и к его народу. В германских университетах темою диспутов ставили поездку Петра и будущее просвещение России как результат этой поездки. Философ Лейбниц составлял просветительные проекты для преобразования Руси. Европа, видя поведение Петра, догадывалась, что результатом просвещения самого Петра будет просвещение его государства. Поэтому поездка Петра стала весьма популярным предметом для политических и культурных рассуждений.
Для самого Петра путешествие было последним актом самообразования. Он желал получить сведения по судостроению, а получил сверх того массу впечатлений, массу знаний. Более года пробыл он за границей, всегда в толпе, среди разнообразных лиц, среди разных национальных культур. Он не только увидел культурное и материальное превосходство богатейших стран Запада над своей бедной Русью, но и сжился с обычаями этих стран, стал в них как бы своим человеком и не мог вернуться к старому мировоззрению. Сознавая превосходство Запада, он решился приблизить к нему свое государство путем реформы. Смело можно сказать, что Петр как реформатор созрел за границей. Но все воспитание Петра, вся его жизнь в Москве обусловили некоторую односторонность в его заграничном самообразовании: покоритель Азова и создатель русского флота, Петр далеко стоял от вопросов внутреннего управления Московского государства. И за границей Петра завлекало морское и военное дело, культура и промышленность, но сравнительно весьма мало занимало общественное устройство и управление Запада. По возвращении в Москву Петр немедленно начинает реформы, окончательно порывает со старыми традициями, но его первые шаги на пути реформ не касаются еще государственного быта. Он является с культурными новшествами по преимуществу и с большою резкостью проводит их в жизнь. К реформе государственного устройства и управления он переходит гораздо позднее.
25 августа 1698 года вернулся Петр в Москву из путешествия. В этот день он не был во дворце, не видел жены; вечер провел в Немецкой слободе, откуда уехал в свое Преображенское. На следующий день, на торжественном приеме боярства в Преображенском, он начал резать боярские бороды и окорачивать длинные кафтаны. Брадобритие и ношение немецкого платья были объявлены обязательными. Не желавшие брить бороду скоро стали платить ежегодную пошлину, относительно же ношения немецкого платья не существовало никаких послаблений для лиц дворянского и городского сословия; одно крестьянство осталось в старом наряде да духовные лица. Старые русские воззрения не одобряли брадобрития и перемены одежды, в бороде видели внешний знак внутреннего благочестия, безбородого человека считали неблагочестивым и развратным. Московские патриархи, даже последний – Адриан, запрещали брадобритие, московский же царь Петр делал его обязательным, не стесняясь авторитетом церковных властей. Резкое противоречие меры царя с давними привычками народа и проповедью русской иерархии придало этой мере характер важного и крутого переворота и возбудило народное неудовольствие и глухое противодействие в массе. Но и более резкие поступки молодого монарха не замедлили явиться глазам народа. Немедля по возвращении из-за границы Петр возобновил следствие о том бунте стрельцов, который заставил его прервать путешествие.
Бунт этот возник таким образом. Стрелецкие полки по взятии Азова были посланы туда для гарнизонной службы. Не привыкнув к долгим отлучкам из Москвы, оставив там семьи и промыслы, стрельцы тяготились дальней и долгой службой и ждали возвращения в Москву. Но из Азова их перевели к польской границе, а в Азов на место ушедших двинули из Москвы всех тех стрельцов, которые еще оставались там. В Москве не осталось ни одного стрелецкого полка, и вот среди стрельцов на польской границе разнесся слух, что их навсегда вывели из столицы и что стрелецкому войску грозит опасность уничтожения. Этот слух волнует стрельцов, виновниками такого несчастия они считают бояр и иностранцев, завладевших делами в Москве. Они решаются силой, противозаконно возвратиться в Москву и на дороге (под Воскресенским монастырем) сталкиваются с регулярными войсками, высланными против них. Дело дошло до битвы, которой стрельцы не выдержали и сдались. Боярин Шеин произвел розыск о бунте, многих повесил, остальных бросил в тюрьмы.
Петр остался недоволен розыском Шеина и начал новое следствие. В Преображенском начались ужасающие пытки стрельцов. От стрельцов пытками добились новых показаний о целях бунта: некоторые признались, что в их деле замешана царевна Софья, что в ее пользу стрельцы желали произвести переворот. Трудно сказать, насколько это обвинение Софьи было справедливо, а не вымучено пытками, но Петр ему поверил и страшно мстил сестре и карал бунтовщиков. Софья, по показанию современника, была предана суду народных представителей. Приговора суда мы не знаем, но знаем дальнейшую судьбу царевны. Она была пострижена в монахини и заключена в том же Новодевичьем монастыре, где жила с 1689 года. Перед самыми ее окнами Петр повесил стрельцов. Всего же в Москве и Преображенском было казнено далеко за тысячу человек. Петр сам рубил головы стрельцам и заставлял то же делать своих приближенных и придворных. Ужасы, пережитые тогда Москвою, трудно рассказать. С.М. Соловьев характеризует осенние дни 1698 года как время террора.
Рядом с казнями стрельцов и уничтожением стрелецкого войска Петр переживал и семейную драму. Еще будучи за границей, Петр уговаривал свою жену постричься добровольно. Она не согласилась. Теперь Петр отправил ее в Суздаль, где она спустя несколько месяцев была пострижена в монахини под именем Елены (июнь 1699 года). Царевич Алексей остался на руках у тетки Натальи Алексеевны.
Ряд ошеломляющих событий 1698 года страшно подействовал и на московское общество, и на самого Петра. В обществе слышался ропот на жестокости, на новшества Петра, на иностранцев, сбивших Петра с пути. На голоса общественного неудовольствия Петр отвечал репрессиями; он не уступал ни шагу на новом пути, без пощады рвал всякую связь с прошлым, жил сам и других заставлял жить по-новому. И эта борьба с общественным мнением оставляла в нем глубокие следы: от пытки и серьезного труда переходя к пиру и отдыху, Петр чувствовал себя неспокойно, раздражался, терял самообладание. Если бы он высказывался легче и обнаруживал яснее свой внутренний мир, он рассказал бы, конечно, каких душевных мук стоила ему вторая половина 1698 года, когда он впервые рассчитался со старым порядком и стал проводить свои культурные новшества.
А политические события и внутренняя жизнь государства шли своим чередом. Обращаясь к управлению государством, Петр в январе 1699 года проводит довольно крупную общественную реформу: он дает право самоуправления тяглым общинам посредством выборных бурмистерских палат. Эти палаты (а за ними и все тяглые люди) изъяты из ведения воевод и подчинены Московской бурмистерской палате, также выборной. В конце того же 1699 года Петр изменяет способ летосчисления. Наши предки вели счет от сотворения мира и начало года с 1 сентября (по старому счету 1 сентября 1699 года было 1 сентября 7208 года). Петр предписал 1 января этого 7208 года отпраздновать как Новый год, и этот январь считать первым месяцем 1700 года от Рождества Христова. В перемене календаря Петр опирался на пример православных славян и греков, чувствуя, что отмена старого обычая многим не понравится.
Так, в виде отдельных мер, Петр начинал свои реформы. Одновременно с этим намечал он и новое направление своей внешней политики. Подготовительный к деятельности период кончался. Петр сформировался и принимался за тяжелое бремя самостоятельного управления, самостоятельной политики. Рождалась великая эпоха нашей исторической жизни.
Деятельность Петра с 1700 года
С 1700 года Петр начал шведскую войну (главное дело его внешней политики). С 1700 года Петр является уже вполне созревшим правителем-реформатором. Хронологический обзор его жизни, имевший целью проследить развитие личности и взглядов Петра и обстановку этого развития, мы можем теперь заменить систематическим обзором деятельности преобразователя. Общеизвестность событий времени Петра избавляет нас от необходимости излагать подробности этих событий: мы будем следить лишь за общим ходом, смыслом и связью их, обращая внимание преимущественно на результаты, достигнутые Петром. Это даст нам возможность в целом отметить сущность преобразовательной деятельности Петра.
Первоначально обратимся к внешней политике, затем рассмотрим внутренние реформы и, наконец, попробуем дать характеристику самого преобразователя и ту степень успеха и общественного сочувствия, какою пользовалась его деятельность.
Внешняя политика Петра
Выше было сказано, что заграничное путешествие показало Петру невозможность коалиции против турок и необходимость коалиции против шведов. Сильно занятый до путешествия мыслью об изгнании турок из Европы (мечта эта могла воспитаться на политических неудачах Москвы в XVII веке), Петр затем сильно мечтает о приобретении берегов Балтийского моря (мечта эта привела Ивана Грозного к тяжелой неудаче). Соблазнительным показалось Петру предложение Августа о союзе против шведов, но он соглашался на него только принципиально, потому что не вполне надеялся на мир с турками, а турецкая война исключала возможность всякой иной.
Возвратясь в Москву, Петр хлопочет о мире с турками, чтобы не быть покинутым немцами-союзниками. В конце 1698 года думный дьяк Возницын заключает с турками перемирие, а летом 1699 года другой думный дьяк, Украинцев, на русском корабле отправлен в Константинополь для заключения мира. Но переговоры о мире затянулись почти на целый год, и это обстоятельство связывало Петру руки. Во время препирательств Украинцева с турками в Москву явились послы от Августа саксонско-польского, чтобы окончательно выработать условия коалиции против Швеции. Инициатором коалиции был Август, искавший союза не с одним Петром, но и с Данией. Соседние со Швецией державы желали лишить ее преобладания на Балтийском море и земель, занятых шведами на восток и юг от Балтики. Эти желания держав вдохновили шведского эмигранта Паткуля к возбуждению коалиции против его бывшего правительства. Будучи жертвою редукций, то есть конфискации дворянских земель, предпринятой шведскими королями с целью добить ослабевшую аристократию, Паткуль эмигрировал и желал отомстить шведскому правительству отнятием Лифляндии (родины Паткуля). Думая не без основания найти поддержку у Августа, Паткуль к нему обратился с своим планом союза против Швеции. Август ухватился за этот план, привлек к союзу Данию и отправил Паткуля в Москву привлекать Петра.
В Преображенском осенью 1699 года происходили – в глубокой тайне – переговоры о союзе. Результатом их явился союзный договор Петра с Августом, по которому Петр обязывался вступить в войну со Швецией, но оставлял за собою право начать военные действия не ранее заключения мира с турками. Такое направление дал Петр своей дальнейшей политике. Можно с достоверностью сказать, что в самом начале войны со Швецией, у Петра была единственная цель – завладеть берегом Финского залива, приобрести море с удобною гаванью. Союзники Петра думали эксплуатировать силы России в свою пользу, получить русские войска в свое распоряжение и направить их для завоевания южных шведских областей на восточном берегу Балтийского моря; они не желали усиления России и боялись, что Петр будет действовать на севере в своих исключительно видах. Боязнь их была основательной: верный традициям родины, Петр немедленно после заключения договора начинает военные разведки в окрестностях Нарвы – важнейшей шведской крепости на Финском заливе (с этой целью в марте 1700 года послан в Нарву Кормчин). Очевидно, Петр думает о приобретении ближайших к Руси балтийских берегов, а не о простой помощи союзникам.
Но, готовясь к войне, московское правительство и сам Петр настолько искусно скрывают свои планы, что участие России в союзе против Швеции долго остается тайною. Германская и шведская дипломатия могла ловить только смутные слухи о намерении Петра объявить шведам войну, а шведский резидент в Москве (Книперкрон) усердно доносил своему правительству о миролюбии и дружеских чувствах Петра. Петр ласкал Книперкрона, обещал ему, что если Август возьмет у шведов Ригу, «вырвать» ее у короля (недоговаривая, в чью пользу); в то же время Петр отправил в Швецию посла Хилкова с дружескими уверениями. Это было в июне 1700 года; мир с турками еще не был заключен.
Между тем Дания и Август начали военные действия; датские войска заняли герцогство Гольштейн-Готторпское, союзное Швеции; Август осаждал Ригу. На шведском престоле был молодой, восемнадцатилетний государь Карл XII, проявлявший признаки государственных способностей в меньшей степени, чем охоту к шумным забавам. Для врагов Швеции одна личность Карла представлялась уже хорошим шансом успеха. Но, узнав о нападении врагов, Карл неожиданно оставил свои мальчишества, тайно приехал к войску, переправился с ним к Копенгагену и заставил датчан заключить мир (в Травендале 8 августа 1700 года). Дания отпала от коалиции. Август не имел успеха под Ригой. В эту-то минуту Петр начал войну, не зная еще о Травендальском мире и о том огромном впечатлении, какое произвели военные способности Карла.
18 августа Петр узнал о мире с Турцией, 19-го объявил войну и 22-го выступил с войсками из Москвы к Нарве. Петр решил трудиться для себя, а не помогать войсками союзникам. Нарва была осаждена сильным русским войском (тридцать пять – сорок тысяч человек). Но Петр начал кампанию под осень, погода мешала военным операциям, бездорожье оставляло войско без хлеба и фуража. Недостатки военной организации давали себя знать: хотя войска, стоявшие под Нарвой, были регулярные, нового строя, но сам Петр сознавался, что они были необучены, то есть плохи. Кроме того, офицерами в большинстве были иностранцы, не любимые солдатами, плохо знавшие русский язык, а над всей армией не было одной власти. Петр поручил команду русскому генералу Головину и рекомендованному немцами французу, герцогу де Круи. И сам Петр не отказывался от распоряжений военными действиями. Было, таким образом, многоначалие. При всех этих условиях среди русских войск, естественно, возникала боязнь столкновения с армией Карла, покрытой лаврами недавних побед в Дании.
А Карл после разгрома Дании шел на Петра. Русские под Нарвою узнали о приближении шведов уже тогда, когда Карл был всего в двадцати – двадцати пяти верстах от Нарвы. Петр немедленно уехал из войска, оставив команду де Круи. Зная мужество и личную отвагу Петра, мы не можем объяснить его отъезд малодушием; вернее думать, что Петр считал дело под Нарвою проигранным и уехал готовить государство к обороне от шведского нашествия. 20 ноября 1700 года Карл действительно разбил русскую армию, отнял артиллерию и захватил генералов. Петр спешил укрепить Новгород и Псков, поручил Репнину собрать остатки возвратившейся разбитой армии и ждал Карла на границах Московского государства.
Но ошибка Карла спасла Петра от дальнейших бед. Карл не воспользовался своей победой и не пошел на Москву. Часть голосов в его военном совете высказалась за поход в Россию, но Карл близоруко смотрел на силы Петра, считал его слабым врагом и отправился на Августа. Петр мог вздохнуть свободней. Но положение все-таки было тяжелое: армия была расстроена, артиллерии не было, поражение дурно повлияло на настроение внутри государства и уничтожило престиж России за границей. Рядом с дифирамбами Карлу западноевропейская публицистика разразилась градом насмешек над слабостью Москвы и Петра. Была пущена в обращение медаль, изображавшая с одной стороны осаду Нарвы и Петра, греющегося на пушечном огне (подпись взята из Библии: «Беже Петр стоя и греяся»), а с другой стороны – Петра и русских, позорно бегущих от Нарвы (подпись оттуда же: «Исшед вон плакася горько»).
Под свежим впечатлением поражения у Петра мелькнула мысль искать мира, но Петр не нашел ни у кого за границей охоты помочь России и взять на себя посредничество между нею и Швецией. Однако и сам Петр не долго останавливался на мысли о прекращении войны, он деятельно готовил новые войска; рекрутские наборы (со всех сословий) дали ему много людей, страшная энергия помогла ему устроить из них армию; обруселому немцу Виниусу Петр поручил изготовление новых пушек. Медь, которою Московское государство было далеко не богато, доставали, между прочим, и церковных колоколов, взятых в казну. В течение года Виниус изготовил триста пушек. К лету 1701 года у Петра, таким образом, снова явились средства продолжать войну.



