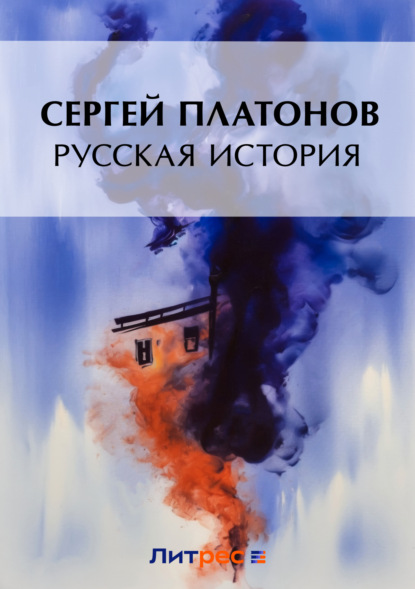 Полная версия
Полная версияРусская история
Никон достиг того, что правил всем государством с 1654 года, когда царь был на войне, и дума Боярская слушала его, как царя. Политическое влияние Никона возросло до того, что современники готовы были считать его власть даже большею, чем власть царя. Неронов говаривал Никону: «Какая тебе честь, владыко святый, что всякому ты страшен; и друг другу говорят, грозя: „Знаешь ли, кто он: зверь ли лютый – лев, или медведь, или волк?” Дивлюсь: государевы-царевы – власти уже не слыхать, от тебя всем страх, и твои посланники пуще царских всем страшны; никто с ними не смеет говорить, затверждено у них: „Знаете ли патриарха?”» И сам Никон склонен был считать себя равным царю по власти, если даже не сильнейшим, – раз на Соборе (летом 1653 года) в споре с Нероновым Никон опрометчиво произнес, что присутствие на Соборе царя, как этого требовал Неронов, не нужно. «Мне и царская помощь не годна и не надобна!» – крикнул он и с полным презрением отозвался об этой помощи.
Но влияние Никона основывалось не на законе и не на обычае, а единственно на личном расположении к Никону царя (будь Никон не патриарх, мы назвали бы его временщиком). Такое положение Никона вместе с его поведением, гордым и самоуверенным, вызвало к нему вражду в придворной среде, в боярах, потерявших благодаря его возвышению часть своего влияния (Милославские и Стрешневы); есть свидетельство (у Мейерберга), что и царская семья была настроена против Никона. При дворе на Никона смотрели как на непрошеного деспота, держащегося единственно расположением царя. Если отнять это расположение, влияние Никона исчезнет и власть его уменьшится.
Не так, однако, думал сам Никон. Он иначе не представлял себе патриаршей власти, как в тех размерах, в каких ему удавалось ее осуществлять. По его понятию, власть патриарха чрезвычайно высока, она даже выше верховной власти светской. Никон требовал полного невмешательства светской власти в духовные дела и вместе с тем оставлял за патриархом право на широкое участие и влияние в политических делах, в сфере же церковного управления Никон считал себя единым и полновластным владыкой. С подчиненным ему духовенством обращался сурово, держал себя гордо и недоступно, – словом, был настоящим деспотом в управлении клиром и паствой. Он был очень скор на тяжкие наказания, легко произносил проклятия на провинившихся и вообще не останавливался перед крутыми мерами. По энергии характера и по стремлению к власти Никона охотно сравнивают с Папою Григорием VII Гильдебрантом. Однако во время своего управления церковью Никон не истребил тех злоупотреблений и тягостей, которые легли на духовенство при его предшественнике Иосифе и вызывали жалобы. В 1658 году порядки, удержанные и вновь заведенные Никоном, вызвали любопытное челобитье царю на патриарха. Хотя оно было подано противниками новшеств, однако касается не только реформ Никона, но и его административных привычек и очень обстоятельно рисует Никона как администратора с несимпатичной стороны. По этому челобитью видно, что против него и в среде духовенства был большой ропот. Про Никона надо вообще заметить, что его любили отдельные лица, но личность его не возбуждала общей симпатии, хотя нравственная его мощь покоряла ему толпу.
До польской войны 1654 года симпатии юноши царя к Никону не колебались. Уезжая на войну, Алексей Михайлович отдал на попечение Никона и семью, и государство. Влияние Никона, казалось, все росло и росло, хотя царю были известны многие выходки Никона и то, как Никон отзывался о царской помощи, что она ему не надобна, и то, что Никон не жаловал Уложения, называя его проклятою книгою, исполненною беззаконий. Но во время войны царь возмужал, много увидел нового, развился и приобрел большую самостоятельность. Этому способствовали самые обстоятельства военной жизни, имевшей влияние на впечатлительную натуру царя, и то, что Алексей Михайлович в походах освободился от московских влияний и однообразной житейской обстановки в Москве; но, изменяясь сам, царь еще не изменял своих прежних отношений к старым друзьям. Он был очень хорош с Никоном, по-прежнему называл его своим другом. Однако между ними стали происходить размолвки. Одна такая размолвка случилась на Страстной неделе в 1656 году по поводу церковного вопроса (о порядке Богоявленского водоосвящения). Уличая Никона в том, что он слукавил, царь очень рассердился и в споре назвал Никона мужиком и глупым человеком. Но дружба их все еще продолжалась до июля 1658 года, до всем известного столкновения Хитрово с князем Мещерским на приеме грузинского царевича Теймураза. В июле 1658 года последовал внезапный разрыв.
В объяснении причины разрыва Никона с Алексеем Михайловичем исследователи несколько расходятся благодаря неполноте фактических данных об этом событии. Одни (Соловьев, митрополит Макарий) объясняют разрыв возмущением царя, с одной стороны, и резкостями в поведении Никона – с другой; у них дело представляется так, что охлаждение между царем и патриархом происходило постепенно и само по себе, незаметно привело к разрыву. Другие (Субботин, Гюббенет и покойный профессор Дерптского университета П.Е. Медовиков, написавший «Историческое значение царствования Алексея Михайловича») полагают, что к разрыву привели наветы и козни бояр, которым они склонны придавать в деле Никона очень существенное значение. Надо заметить, что С.М. Соловьев также не отрицает участия бояр в этом деле, но их интриги и «шептания», как фактор второстепенный, стоят у него на втором плане.
Когда царь не дал должной, по мнению Никона, расправы на Хитрово, обидевшего патриаршего боярина при въезде Теймураза, и перестал посещать патриаршее служение, Никон уехал в свой Воскресенский монастырь, отказавшись от патриаршества на Москве и не дождавшись объяснения с царем. Через несколько дней царь послал Трубецкого и Лопухина спросить у патриарха, как понимать его поведение: совсем ли он отказался от патриаршества или нет? Никон отвечал царю очень сдержанно, что он не считает себя патриархом на Москве, и дал свое благословение на выборы нового патриарха и на передачу патриарших дел во временное заведование Питирима, митрополита крутицкого. Никон затем просил прощения у Алексея Михайловича за свое удаление, и царь простил его. Поселясь в Воскресенском монастыре (от Москвы верстах в сорока на северо-запад), принадлежавшем Никону лично, он занялся хозяйством и постройками и просил Алексея Михайловича не оставлять его обители государевой милостыней. Царь, со своей стороны, милостиво обращался с Никоном, и отношения между ними не походили на ссору. Царю доносили, что Никон решительно не хотел быть в патриархах, и царь заботился об избрании нового патриарха на место Никона. В избрании патриарха тогда и заключался весь вопрос; дело обещало уладиться мирно; но скоро начались неудовольствия. Никон узнал, что светские люди разбирают патриаршие бумаги, оставленные в Москве, обиделся на это и написал по этому поводу государю письмо с массою упреков, жалуясь и на то, между прочим, что из Москвы к Никону никому не позволяют ездить. Затем он стал жаловаться, что его не считают патриархом, и очень рассердился на митрополита Питирима за то, что тот решился заменить собою патриарха в известной церемонии шествия на осляти (весною 1659 года). По этому поводу Никон заявил, что он не желает оставаться патриархом на Москве, но опять не сложил с себя патриаршего сана. Выходило так, что Никон, не будучи патриархом московским, был все же патриархом русской церкви и считал себя вправе вмешиваться в церковные дела; если бы на Москве избрали нового патриарха, то в русской церкви настало бы двупатриаршество. В Москве не знали, что делать, и не решались избирать нового пастыря.
Летом 1659 года Никон неожиданно приехал в Москву, недолго там пробыл, был принят царем с большою честью, но объяснений и примирения между ними не произошло, отношения оставались неопределенными, и дело не распутывалось. Осенью того же 1659 года Никон с позволения царя поехал навестить два других своих монастыря: Иверский (на Валдайском озере) и Крестный (близ Онеги). Только теперь, в долгое отсутствие Никона, решился царь собрать Духовный собор, чтобы обдумать положение дел и решить, что делать. В феврале 1660 года начало свои заседания русское духовенство и по рассмотрении дел определило, что Никон должен быть лишен патриаршества и священства по правилам святых апостолов и Соборов, как пастырь, своею волею оставивший паству. Царь, не вполне доверяя правильности приговора, пригласил на Собор и греческих иерархов, бывших тогда в Москве. Греки подтвердили правильность соборного приговора и нашли ему новые оправдания в церковных правилах. Но ученый киевлянин Епифаний Славеницкий не согласился с приговором Собора и подал царю особое мнение, уличая церковь в неверном толковании церковных правил и доказывая, что у Никона нельзя отнять священства, хотя и должно лишить его патриаршества. Авторитет греков был, таким образом, поколеблен в глазах царя, и он медлил приводить в исполнение соборный приговор, тем более что многие члены Собора (греки) склонны были оказать Никону снисхождение и просили об этом государя. Итак, попытка распутать дело с помощью Собора не удалась, и Москва оставалась без патриарха.
Никон же продолжал считать себя патриархом и высказывал, что в Москве новый патриарх должен быть поставлен им самим. Он возвратился в Воскресенский монастырь, узнал, конечно, о приговоре Собора, о своем низложении и понял, что теперь ему не легко возвратить утраченную власть. Удаляясь из Москвы, он рассчитывал, что его будут умолять о возвращении на патриарший престол, но этого не случилось, а Собор 1660 года показал ему окончательно, что в Москве его просить не будут. Что влияние Никона пало совсем, это увидели и другие: сосед Никона по земле, окольничий Боборыкин, вступил с ним в тяжбу, не уступая куска земли когда-то всесильному патриарху. Недовольный тем, что Боборыкину дали суд на патриарха, Никон пишет царю письмо, полное укоризн и тяжелых обвинений. В то же время он не ладит с Питиримом, мало обращавшим внимания на бывшего патриарха, и даже предает его анафеме. Вообще Никон, не ожидавший невыгодного для себя оборота дела, теряет самообладание и слишком волнуется от тех неприятностей и уколов, какие постигают его, как всякого павшего видного деятеля. Но до 1662 года против Никона не предпринимают ничего решительного, хотя резкие выходки его все больше и больше вооружают против него прежнего друга, царя Алексея.
В 1662 году приехал в Москву отставленный от своей должности газский митрополит Паисий Лигарид, очень образованный грек, много скитавшийся по Востоку и приехавший в Москву с целью лучше себя обеспечить. В XVII веке греческое духовенство очень охотно посещало Москву с подобными намерениями. Ловкий дипломат Паисий скоро успел приобрести в Москве друзей и влияние. Всмотревшись в отношения царя и патриарха, он без труда заметил, что звезда Никона уже померкла, и понял, на чью сторону ему должно стать, – он стал против Никона, хотя сам приехал в Москву по его милостивому и любезному письму. Сперва по приезде своем вступил он в переписку с Никоном, обещал ему награду на небесах за его «неповинные страдания», но уговаривал вместе с тем Никона смириться перед царем. Но уже с первых дней он советовал царю не медлить с патриархом, требовать от него покорности и низложить его, если не покорится и не «воздержится от дел патриарших». Как ученейшему человеку, Лигариду предложили в Москве от имени боярина Стрешнева (врага Никона) до тридцати вопросов о поведении Никона, с тем чтобы Паисий решил, правильно ли поступил патриарх. И Лигарид все вопросы решил не в пользу Никона. Узнав его ответы, Никон около года трудился над возражениями и написал в ответ Лигариду целую книгу страстных и очень метких оправданий.
Очевидно, под влиянием Лигарида, царь Алексей Михайлович в конце 1662 года решил созвать второй Собор о Никоне. Он велел архиепископу рязанскому Иллариону составить для Собора как бы обвинительный акт, «всякие вины» Никона собрать и приказал звать на Собор восточных патриархов.
Никон, подавленный отношением царя к нему, и раньше искал мира, посылая к царю письма и прося его перемениться к нему «Господа ради», теперь же он решил тайком приехать в Москву и приехал ночью (на Рождество 1662 года), чтобы примириться с государем и предотвратить Собор, но тою же ночью уехал обратно, извещенный, вероятно, своими московскими друзьями, что его попытка будет напрасною. Видя, что примирение невозможно, Никон снова переменил поведение. Летом 1663 года он произнес на упомянутого Боборыкина (дело с которым у него продолжалось) такую двусмысленную анафему, что Боборыкин мог ее применить к самому царю с царским семейством, что он и сделал, не преминув донести в Москву. Царь чрезвычайно огорчился этим событием и тем, что на следствии по этому делу Никон вел себя очень заносчиво и наговорил много непристойных речей на царя. Об этом, впрочем, постарались сами следователи, выводя патриарха из себя своими вопросами и своим недоверием к нему. Если царь Алексей Михайлович сохранил еще какое-нибудь расположение к Никону, то после этого случая оно должно было исчезнуть вовсе.
Восточные патриархи, приглашение которым было послано в декабре 1662 года, прислали свои ответы только в мае 1664 года. Сами не поехали в Москву, но очень обстоятельно ответили царю на те вопросы, какие царь послал им о деле Никона одновременно со своим приглашением. Они осудили поведение Никона и признали, что патриарха может судить и Поместный (русский) собор, почему присутствие их в Москве представлялось им излишним. Но царь Алексей Михайлович непременно желал, чтобы в Москву приехали сами патриархи, и отправил им вторичное приглашение. Очень понятно это желание царя разобрать дело Никона с помощью высших авторитетов церкви: он хотел, чтобы в будущем уже не оставалось места сомнениям и не было возможности для Никона протестовать против Собора.
Но Никон не желал Собора, понимая, что Собор обратится на него. Он показывал вид, что Собор для него не страшен, но в то же время сделал открыто и гласно первый шаг к примирению, чтобы этим уничтожить надобность Собора: он решился с помощью и, может быть, по мысли некоторых своих друзей (боярина Н.И. Зюзина) приехать в Москву патриархом, – так, как когда-то уехал из нее. Ночью на 1 декабря 1664 года он неожиданно явился на утреню в Успенский собор, принял участие в богослужении как патриарх и послал известить государя о своем приходе, говоря: «Сшел я с престола никем не гоним, теперь пришел на престол никем не званный». Однако государь, посоветовавшись с духовенством и боярами, собранными тотчас же во дворец, не пошел к Никону и приказал ему уехать из Москвы. Еще до рассвета уехал Никон, отрясая прах от ног своих, понимая окончательное свое падение. Дело о приезде его было расследовано, и Зюзин поплатился ссылкою. Никону приходилось ожидать патриаршего суда над собою. В 1665 году он тайком отправил патриархам послание, оправдывая в нем свое поведение, чтобы патриархи могли правильнее судить о его деле; но это послание было перехвачено и на суде служило вескою уликою против Никона, потому что было резко написано.
Только осенью 1666 года приехали в Москву патриархи: александрийский, Паисий, и антиохийский, Макарий (константинопольский и иерусалимский сами не приехали, но прислали свое согласие на приезд двух первых и на суд Никона). В ноябре 1666 года начался Собор, на который был вызван и Никон. Он держал себя как обиженный, но признал Собор правильным; оправдывался он гордо и заносчиво, но повиновался Собору. Обвинял его сам царь, со слезами перечисляя «обиды» Никона. В декабре постановили приговор Никону, сняли с него знаки патриаршества и отправили его в ссылку в Ферапонтов Белозерский монастырь. Так окончилось дело патриарха Никона.
Не спокойно выслушал Никон свой приговор: он стал жестоко бранить греческое духовенство, называя греков бродягами. «Ходите всюду за милостынею», – говорил он им и с ирониею советовал поделить им между собою золото и жемчуг с его патриаршего клобука и панагии. Ирония Никона многим тогда была близка и понятна. Греки действительно «всюду ходили за милостынею»; потрудившись над осуждением Никона в угоду могущественнейшему монарху и радуясь совершению правосудия, не забывали они при этом высказывать надежду, что и теперь не оскудеет к ним милость царская. В видах этой милости они и до Собора, и на Соборе 1666 года старались возвеличить царскую власть и утвердить ее авторитет даже в делах церкви, ставя в вину Никону его стремление к самостоятельности в сфере церковной. Никон, заносчивый, непоследовательный и много погрешивший, симпатичнее для нас в своем падении, чем греки с своими заботами о царской милости.
Собор единогласно осудил Никона, но когда стали формулировать приговор над ним, то произошло на Соборе крупное разногласие по вопросу об отношениях властей, светской и духовной. В приговоре, редактированном греками, слишком явно и резко проводились тенденции в пользу первой: греки ставили светскую власть авторитетом в делах церкви и веры, и против этого восстали некоторые русские иерархи (как раз бывшие враги Никона), за что они и подверглись церковному наказанию. Таким образом, вопрос об отношении властей принципиально был поднят на Соборе 1666–1667 годов и был решен Собором в пользу светской власти.
Этот вопрос необходимо должен был возбудиться на этом Соборе: он был весьма существенным в деле Никона и проглядывал гораздо раньше Собора 1666 года. Никон боролся и пал не только из-за личной ссоры, но и из-за принципа, который он проводил. Во всех речах и посланиях Никона прямо сказывается этот принцип, и его чувствовал сам царь Алексей Михайлович, когда (в 1662 году в вопросах Стрешнева Лигариду и в 1664 году в вопросах патриархам) ставил вопросы о пространстве власти царской и архипастырской. Никон крепко отстаивал то положение, что церковное положение должно быть свободно от всякого вмешательства светской власти, а церковная власть должна иметь влияние в политических делах. Это воззрение рождалось в Никоне из высокого представления о церкви как руководительнице высших интересов общества; представители церкви, по мысли Никона, тем самым должны стоять выше прочих властей. Но такие взгляды ставили Никона в полный разлад с действительностью; в его время, как он думал, государство возобладало над церковью, и необходимо было возвратить церкви ее должное положение – к этому и шла его деятельность. По этому самому распря Никона с царем не была только личною ссорою друзей, но вышла за ее пределы; в этой распре царь и патриарх являлись представителями двух противоположных начал. Никон потому и пал, что историческое значение нашей жизни не давало места его мечтам, и осуществлял он их, будучи патриархом, лишь постольку, поскольку ему это позволяло расположение царя. В нашей истории церковь никогда не подавляла и не становилась выше государства, и представители ее и сам митрополит Филипп Колычев (которого так чтил Никон) пользовались только нравственной силой. А теперь, в 1666-1667 годах, Собор православных иерархов сознательно поставил государство выше церкви.
Культурная реформа при Алексее Михайловиче
В царствование Алексея Михайловича важно отметить еще несколько фактов, которые отчасти характеризуют нам настроение общества того времени. При Алексее Михайловиче, несомненно, существовало сильное общественное движение – с ним в некоторых его проявлениях мы уже познакомились; мы видели, например, какие протесты вызвали экономические и церковные меры того времени. Но мы не касались одной стороны этого движения – движения культурного. Замечая это последнее, один исследователь говорит о времени Алексея Михайловича, что тогда боролось два общественных направления и борьба велась «во имя самых задушевных интересов и стремлений и потому отличалась полным трагизмом». Культурные новшества спорили тогда с неприкосновенностью старых идеалов; они касались всех сторон жизни и кое-где побеждали. Но исследователь, который захотел бы нам представить полную картину борьбы старого с новым, оказался бы в затруднительном положении, так как борьба эта оставила мало литературных следов. Нам приходится только отрывочно познакомиться с разными течениями общественной жизни и только наметить главных ее представителей.
До XV века Русь в церковном отношении была подчинена константинопольскому патриарху, а на греческого императора (цезаря, царя) смотрели как на верховного государя православного. Флорентийская уния в 1439 году греков с католичеством заронила в русских сомнение в чистоте греческого исповедания. Падение Константинополя (1453) русские рассматривали как Божье наказание грекам за потерю православия. В XV веке исчез, таким образом, православный греческий царь, померкло греческое православие от унии и господства неверных турок. А в это время Московское княжество объединило Русь, государь московский достиг большого могущества, митрополит московский был пастырем свободной и сильной страны. Для русских патриотов было ясно, что Москва должна наследовать Константинополю, должна иметь и царя (цезаря), и патриарха. Высказанная на рубеже XV и XVI веков мысль овладела умами и была осуществлена правительством: в 1547 году Иван IV стал царем, а в 1589 году московский митрополит – патриархом. Но, вызвав прогрессивное движение, та же мысль в дальнейшем своем развитии повела к консервативным взглядам. Если могущественная Греция пала благодаря ереси, то падет и Москва, когда потеряет чистоту веры. Стало быть, необходимо беречь эту чистоту и не допускать перемен, способных ее нарушить. Отсюда, естественно, возникло старание сохранить благочестивую старину. Необразованный ум тогдашних мыслителей не умел отличить догмата от внешнего обряда, и обряд, даже мелкий, стали ревниво оберегать как залог вечного правоверия и национального благоденствия. С обрядом смешали обычай и берегли обычаи светские, как обряды церковные. Это охранительное направление мысли владело многими передовыми людьми и глубоко проникало в массу. Такое направление мысли многие и считают характерной чертой московского общества, даже единственным содержанием его умственной жизни до Петра.
Стремление к самобытности и довольство косностью развивалось на Руси как-то параллельно с некоторым стремлением к подражанию чужому. Влияние западноевропейской образованности возникло на Руси из практических потребностей страны, которых не могли удовлетворить своими средствами.
Нужда заставляла правительство звать иноземцев. Но, призывая их и даже лаская, правительство в то же время оберегало от них чистоту национальных верований и жизни. Однако знакомство с иностранцами было все же источником новшеств. Превосходство их культур неотразимо влияло на наших предков, и образовательное движение проявилось на Руси еще в XVI веке, хотя и на отдельных личностях (Вассиан Патрикеев и др.). Сам Грозный не мог не чувствовать нужды в образовании; за образование крепко стоит и политический его противник – князь Курбский. Борис Годунов представляется нам уже прямым другом европейской культуры. Лжедимитрий и смута гораздо ближе познакомили Русь «с латынниками и лютеранами», и в XVII веке в Москве появилось и осело очень много военных, торговых и промышленных иностранцев, пользовавшихся большими торговыми привилегиями и громадным экономическим влиянием в стране. С ними ближе познакомились москвичи, и иностранное влияние таким образом усиливалось. Хотя в нашей литературе и существует мнение, что будто бы насилия иностранцев во время смуты окончательно отвратили русских от духовного общения с иностранцами, однако никогда прежде московские люди не сближались так с западными европейцами, не перенимали у них так часто различных мелочей быта, не переводили столько иностранных книг, как в XVII веке. Общеизвестные факты того времени ясно говорят нам не только о практической помощи со стороны иноземцев московскому правительству, но и об умственном, культурном влиянии западного люда, осевшего в Москве, на московскую среду. Это влияние, уже заметное при царе Алексее, в XVII веке (половине), конечно, образовалось исподволь, не сразу, и существовало ранее царя Алексея, при его отце. Типичным носителем чуждых влияний в их раннюю пору был князь Иван Андреевич Хворостинин (умер в 1625 году) – еретик, подпавший под влияние сначала католичества, потом какой-то крайней секты, а затем раскаявшийся и даже постригшийся в монахи. Но это была первая ласточка культурной весны.
В половине же XVII века рядом с культурными западноевропейцами появляются в Москве киевские схоластики и оседают византийские ученые монахи. С той поры три чуждых московскому складу влияния действуют на москвичей: влияние русских-киевлян, более чужих греков и совсем чужих немцев. Их близкое присутствие сказывалось все более и более и при Алексее Михайловиче стало вопросом дня. Все они, несомненно, влияли на русских, заставляли их присматриваться к себе все пристальнее и пристальнее и делили русское общество на два лагеря: людей старозаветных и новых. Одни отворачивались от новых веяний, как от «прелести бесовской», другие же всей душой шли навстречу образованию и культуре, мечтали «прелесть бесовскую» ввести в жизнь, думали о реформе. Но оба лагеря не представляли в себе цельных направлений, а дробились на много групп, и поставить эти группы хоть в какой-нибудь порядок очень трудно. Легко определить каждую отдельную личность XVII века, старый это или новый человек, но трудно соединить их pia desideria в цельную программу. Каждый думал совсем по-своему, и нельзя заметить в хаосе мнений, какой тогда был, сколько-нибудь определенные общественные течения.



