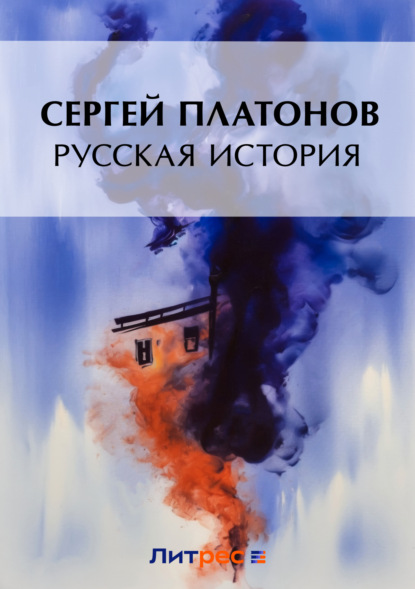 Полная версия
Полная версияРусская история
При разногласии исследователей и неполноте исторических данных составить себе определенное мнение о личности названного Димитрия трудно. Большинство историков признает в нем Григория Отрепьева; Костомаров прямо говорит, что ничего не знает о его личности; а Иконников признает в нем настоящего царевича. Бесспорно, однако, то, что Отрепьев участвовал в этом замысле; легко, может быть, что роль его ограничивалась пропагандой в пользу Самозванца и была подобна роли Молчанова при втором Самозванце. (Есть известия, что Отрепьев приехал в Москву вместе с Лжедимитрием, а потом был сослан им за пьянство.) За наиболее верное можно также принять и то, что Лжедимитрий – затея московская, что это подставное лицо верило в свое царственное происхождение и свое восшествие на престол считало делом вполне справедливым и честным.
Но остановимся подробно на обычных рассказах о странствованиях Самозванца на Руси и в Польше – в них трудно отличить быль от сказки. Обыкновенно об Отрепьеве повествуют так: в молодости он живал во дворце у Романовых и у князей Черкасских, странствовал по разным монастырям, приютился в Чудове монастыре и был взят к патриарху Иову для книжного письма. Потом он бежал в Литву, пропадал несколько времени безвестно и вновь выплыл, явившись слугою у Вишневецкого; там во время болезни открыл свое царское происхождение. Вишневецкие и Мнишек первые пустили в ход Самозванца в польском обществе. Как только Самозванец стал известен, около него явились францисканцы и овладели его умом, склонив его в латинство, иезуиты продолжали их дело, а ловкая панна Марина Мнишек завладела сердцем молодого царевича.
Будучи представлен к польскому двору и признан им в качестве царевича, Самозванец получает поддержку, во-первых, в Римской курии, в глазах которой он служит прекрасным предлогом к открытию латинской пропаганды в Московской Руси; во-вторых, в польском правительстве, для которого Самозванец казался очень удобным средством или приобрести влияние в Москве (в случае удачи Самозванца), или произвести смуту и этим ослабить сильную соседку, в-третьих, в бродячем населении южных степей и в известной части польского общества, деморализованной и склонной к авантюризму. При этом нужно, однако, заметить, что в своем целом польское общество сдержанно относилось к делу Самозванца и не увлекалось его личностью и рассказами. О приключениях московского царевича канцлер и гетман Ян Замойский с полным недоверием выражался: «Это комедия Плавта или Теренция, что ли?». Не верили Самозванцу лучшие части польского общества, не верил ему и польский сейм 1605 года, который запретил полякам поддерживать Самозванца и решил их за это наказывать. Хотя Сигизмунд и не держался этих постановлений сейма, однако он и сам не решался открыто и официально поддерживать Самозванца и ограничился тем, что давал ему денежную субсидию и позволил вербовать в свою дружину охочих людей. Яснее выражала свои симпатии к «несчастному царевичу» Римская курия. С такой поддержкой, с войском из поляков, а главным образом казаков, Димитрий выступил на Русь и имел успех в южных областях Московской Руси: там охотно признавали его. Некоторые отдельные стычки Самозванца с московскими войсками ясно показали, что Самозванец с его жалкими отрядами никогда бы не достиг Москвы, если бы Борисово войско не было в каком-то нравственном недоумении; имя царевича Димитрия, последней ветви великого царского рода, лишало московские войска всякой нравственной опоры; не будучи в состоянии проверить слухи о подлинности этого воскресшего царевича, московские люди готовы были верить в него и не могли драться против законного царя по своим религиозным и политическим взглядам. А боярство, легко может быть, было просто радо успехам Самозванца и давало ему возможность торжествовать над царскими войсками, в успехе Лжедимитрия предвидя гибель ненавистных Годуновых.
А гибель Годуновых была близка. В то время, когда положение дел в северном крае было очень неопределенно, когда слабый силами Лжедимитрий, усиливаясь час от часу от бездействия царских воевод, становился все опаснее и опаснее, умирает царь Борис с горьким сознанием, что он и его семья лишены всякой почвы под ногами и побеждены призраком законного царя. При сыне Бориса, когда не стало обаяния сильной личности Бориса, дела Самозванца пошли и скорее, и лучше. Боярство начало себя держать более определенно, новый воевода – Басманов – со всем войском прямо передался на сторону Димитрия. Самозванца признали настоящим царем все высшие боярские роды, и он триумфальным шествием двинулся к Москве.
Настроение умов в самой Москве было очень шатко. 1 июня 1605 года в Москву явились от Самозванца Плещеев и Пушкин, остановились в одной из московских слобод и читали там грамоту, адресованную москвичам. В грамоте описывалась вся история царевича, его спасение, военные успехи; грамота кончалась обещанием народу всевозможных льгот. Плещеева и Пушкина народ повлек в Китай-город, где снова читали грамоту на Красной площади. Толпа не знала, чему верить в этом деле, и решила спросить Василия Шуйского, который вел следственное дело об убийстве Димитрия и лучше других знал все обстоятельства смерти царевича Димитрия. Шуйский вышел, говорят, к народу, совершенно отрекся от своих прежних показаний и уверял, что Борис послал убить царевича, но царевича спасли, а был убит поповский сын. Тогда народ бросился в Кремль, схватил царя Феодора с матерью и сестрой и перевел их в прежний Борисов боярский дом, а затем начал грабить иноземцев – «Борисовых приятелей». Вскоре затем приехали от Самозванца в Москву князья Голицын и Масальский, чтобы «покончить» с Годуновыми. Они сослали патриарха Иова в Старицу, убили царя Феодора и его мать, а его родню подвергли ссылке и заточению. Семен Годунов был задушен. Так кончилось время Годуновых. 20 июня 1605 года Димитрий с торжеством въехал в Москву при общем восторге уверовавших в него москвичей. Через четыре дня (24 июня) был поставлен новый патриарх, грек Игнатий, один из первых признавший Самозванца. Скоро были возвращены из ссылки Нагие и Романовы и заняли почетное место при дворе. Филарет был поставлен митрополитом ростовским. За инокиней Марфой Нагой, матерью Димитрия, ездил знаменитый впоследствии князь М.В. Скопин-Шуйский. Признание Самозванца со стороны Марфы за сына и царевича должно было окончательно утвердить его на московском престоле, и она признала его. В июле ее привезли в Москву, и произошло первое трогательное свидание с ней Лжедимитрия. Инокиня Марфа прекрасно представилась нежной матерью, так что его нежность при встрече с ней могла быть вполне искренна. Но совершенно иначе представляется поведение Марфы. Внешность Самозванца была так исключительна, что, кажется, и самая слабая память не могла смешать его с покойным Димитрием. Для Марфы это тем более немыслимо, что она не разлучалась со своим сыном, присутствовала при его смерти, отчаянно его оплакивала. В нем были надежды всей ее жизни, она его берегла как зеницу ока, и ей ли было его не знать? Ясно, что нежность ее к Самозванцу истекала из того, что этот человек, воскрешая в себе ее сына, воскрешал для нее то положение царской матери, о котором она мечтала в угличском заточении. Для этого положения она и решилась на всенародное притворство, слабодушно опасаясь возможности новой опалы в том случае, если бы она оттолкнула от себя самозваного сына.
В то самое время, когда Марфа, признавая подлинность Самозванца, способствовала его окончательному торжеству и утверждала его на престоле, Василий Шуйский ему уже изменил. Этот человек не стеснялся менять свои показания в деле Димитрия: в 1591 году он установил факт самоубийства Димитрия и невиновность Бориса; после смерти Годунова перед народом обвинял его в убийстве, признал Самозванца Димитрием и этим вызвал свержение Годуновых. Но едва Лжедимитрий был признан Москвою, как Шуйский начал против него интригу, объявляя его самозванцем. Интрига была вовремя открыта новым царем, и он отдал Шуйского с братьями на суд выборным людям, Земскому собору. На Соборе, вероятно составленном из одних москвичей, никто «не пособствовал» Шуйским, как выражается летопись, но «все на них кричали» – и духовенство, и «бояре и простые люди». Шуйские были осуждены и отправлены в ссылку, но очень скоро прощены Лжедимитрием. Это прощение в таком щекотливом для Самозванца деле, как вопрос его подлинности, равно и то обстоятельство, что такое дело было отдано на суд народу, ясно показывает, что Самозванец верил, что он прирожденный, истинный царевич, иначе он не рискнул бы поставить такой вопрос на рассмотрение народа, знавшего и уважавшего Шуйских за их постоянную близость к московским царям.
Москвичи мало-помалу знакомились с личностью нового царя. Характер и поведение царя Димитрия производили различное впечатление: перед москвичами, по воззрениям того времени, был человек образованный, но невоспитанный; или воспитанный, да не по московскому складу. Он не умел держать себя сообразно своему царскому сану: не признавал необходимости того этикета, «чина», какой окружал московских царей; он любил молодечествовать, не спал после обеда, вместо этого запросто бродил по Москве. Не умел он держать себя и по православному обычаю, не посещал храмов, любил сам одеваться по-польски, по-польски же одевал свою стражу, возился с поляками и очень их любил, от него пахло ненавистным Москве латинством и Польшей.
Но и с польской точки зрения это был невоспитанный человек. Он был необразован, плохо владел польским языком, еще плоше – латинским, писал «inperator» вместо «imperator». Такую особу, какой была Марина Мнишек, личными достоинствами он, конечно, прельстить не мог. Он был очень некрасив: разной длины руки, большая бородавка на лице, некрасивый, большой нос, волосы торчком, несимпатичное выражение лица, лишенная талии, неизящная фигура – вот какова была внешность Самозванца. Брошенный судьбой в Польшу, умный и переимчивый, без тени расчета в своих поступках, он понахватался в Польше внешней «цивилизации», кое-чему научился и, попав на престол, проявил на нем любовь и к Польше, и к науке, и к широким политическим замыслам вместе со вкусами степного гуляки. В своей сумасбродной, лишенной всяких традиций голове, он питал утопические планы завоевания Турции, готовился к этому завоеванию и искал союзников в Европе. Но в этой странной натуре заметен был большой ум. Этот ум проявлялся и во внутренних делах, и во внешней политике. Следя за ходом дел в Боярской думе, Самозванец, по преданию, удивлял бояр замечательной остротой ума и соображения. Он легко решал те дела, о которых долго-долго думали и долго спорили бояре. В дипломатических своих сношениях проявлял много политического такта. Чрезвычайно многим обязанный панам и Сигизмунду, он был с ними, по видимости, в очень хороших отношениях, уверял их в неизменных чувствах преданности, но вовсе не спешил подчинить русскую церковь папству, а русскую политику – влиянию польской дипломатии. Будучи в Польше, он сам принял католичество и надавал массу самых широких обещаний королю и Папе, но в Москве забыл и католичество, и свои обязательства, а когда ему о них напоминали, он отвечал на это предложением союза против турок: он мечтал об изгнании их из Европы.
Но для его увлекающейся натуры гораздо важнее всех политических дел было его влечение к Марине; оно отражалось даже на его дипломатических делах. Марину он ждал в Москве с полным нетерпением. В ноябре 1605 года был совершен в Кракове обряд их обручения, причем место жениха занимал царский посол Власьев. Этот Власьев во время обручения поразил и насмешил поляков своеобразием манер. Так, во время обручения, когда по обряду спросили не давал ли Димитрий кому-нибудь обещания, кроме Марины, он отвечал: «А мне как знать? О том мне ничего не наказано». В Москву, однако, Марина приехала только 2 мая 1606 года, а 8-го происходила свадьба. Обряд был совершен по старому русскому обычаю, но русских неприятно поразило здесь присутствие на свадьбе поляков и несоблюдение некоторых – хотя и мелких – обрядностей. Не понравилось народу и поведение польской свиты Мнишков, наглое и высокомерное.
Царь Димитрий с его польскими симпатиями не производил уже прежнего обаяния на народ, хотя против него и не было общего определенного возбуждения. Не им народ был недоволен, а его приятелями-поляками; однако это неудовольствие пока не высказывалось открыто.
Лжедимитрий сослужил свою службу, к которой предназначался своими творцами, уже в момент своего воцарения, когда умер последний Годунов – Феодор Борисович. С минуты его торжества в нем боярство уже не нуждалось. Он стал как бы орудием, отслужившим свою службу и никому более не нужным, даже лишней обузой, устранить которую было бы желательно, ибо, если ее устранить, путь к престолу будет свободен достойнейшим в царстве.
И устранить это препятствие бояре стараются, по-видимому, с первых же дней царствования Самозванца. Как интриговали они против Бориса, так теперь открывают поход на Лжедимитрия. Во главе их стал теперь Шуйский, как прежде, по мнению некоторых, стоял Богдан Бельский. Но на первый раз Шуйские слишком поторопились, чуть было не погибли и, как мы видели, были сосланы.
Урок этот не пропал им даром: весною 1606 года В.И. Шуйский вместе с Голицыным начали действовать гораздо осторожнее; они успели привлечь к себе восемнадцать тысяч войска, стоявшего около Москвы; в ночь с 16 на 17 мая этот отряд был введен в Москву, а там у Шуйского было уже достаточно сочувствующих. Однако заговорщики, зная, что далеко не все в Москве достаточно настроены против Самозванца, сочли нужным обмануть народ и бунт подняли якобы за царя, против поляков, его обижавших. Но дело скоро объяснилось. Царь был объявлен самозванцем и убит 17 мая утром. «Истинный царевич», которого еще так недавно трогательно встречали и спасению которого так радовались, сделался «расстригой», «еретиком» и «польским свистуном». Во время этого переворота был свергнут патриарх Игнатий и было убито от двух до трех тысяч русских и поляков. Московская чернь начинала уже приобретать вкус к подобного рода делам.
Второй период смуты: разрушение государственного порядка
Воцарение В.И. Шуйского
Москва осталась без царя. По удачному выражению Костомарова, «Димитрий уничтожил Годуновых и сам исчез, как призрак, оставив за собою страшную пропасть, чуть было не поглотившую Московское государство». Действительно, после смерти Феодора была хозяином Ирина, а еще более Борис; по смерти Годуновых – Димитрий, а после него не было никого или, вернее, готовилась хозяйничать боярская среда – на поле битвы она осталась единой победительницей. Сохранилось известие, что еще до свержения Димитрия бояре, восставшие на Самозванца, сделали уговор, что тот из них, кому Бог даст быть царем, не будет мстить за прежние «досады», а должен «по общему совету» управлять Русским государством. Очевидно, мысль об ограничении, в первый раз всплывшая еще при Борисе в 1598 году, теперь была снова вспомянута. Так как из своей братии царь мог быть не сладок боярству, как не сладок был ему Борис с 1601 года, то боярство желало гарантий своего положения, с одной стороны, а с другой – участия в управлении. Но тот же факт избрания Бориса должен был привести на память боярам, кроме приятных им гарантий, и то еще, что Борис был избран на царство Собором всей земли. А это соборное избрание было в данную минуту совсем нежелательным прецедентом для боярства, как среды, получившей всю власть в свои руки. Поэтому обошлись без Собора.
Москва после переворота не скоро пришла в себя. И 17 и 18 мая настроение в городе было необычное. Ранним утром 19 мая народ собрался на Красной площади, духовенство и бояре предложили народу избрать патриарха, который бы разослал грамоты для созвания «совестных людей» на избрание царя, но в толпе закричали, что нужнее царь и царем должен быть В.И. Шуйский. Такому заявлению из толпы никто не спешил противоречить, и Шуйский был избран царем. Впрочем, трудно здесь сказать «избран» Шуйский, по счастливому выражению современников просто был выкрикнут своими доброхотами, и это не прошло в народе незамеченным, хотя правительство Шуйского и хотело представить его избрание делом всей земли.
С нескрываемым чувством неудовольствия говорит об избрании Шуйского летописец, что не только в других городах не знали, «да и на Москве не ведали многие люди», как выбирали Шуйского. И рядом с этим известием встречается у того же летописца очень любопытная заметка, что Шуйский при своем венчании на царство в Успенском соборе вздумал присягать всенародно в том, «чтобы ни над кем не сделать без Собору никакого дурна», то есть чтобы суд творить и управлять при участии Земского собора, по прямому смыслу летописи. Но бояре и другие люди, бывшие в церкви, стали будто бы говорить Шуйскому, что этого на Руси не повелось и чтобы он новизны не вводил. Сопоставляя это летописное сообщение с дошедшею до нас крестоцеловальною записью Шуйского, на которой он присягал в Соборе, мы замечаем между этими двумя документами существенную разницу в смысле их показаний. В записи дело представляется иначе: о Соборе там не упоминается ни словом, а новый царь говорит: «…поволил есми яз… целовати крест на том, что мне, великому государю, всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предати и вотчин, и дворов, и животов у братьи их, и у жен, и у детей не отымати, будет которые с ними в мысли не были, также у гостей и у торговых и у черных людей, хотя который по суду и по сыску доидет и до смертныя вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не отымати, будет с ними они в той вине невинны. Да и доводов ложных мне, великому государю, всякого не слушати, а сыскивати всякими сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтобы в том православное христианство безвинно не гибло; а кто на кого солжет, и, сыскав того, казнити, смотря по вине его».
В этих словах обыкновенно видят условия ограничений, которые были предложены Шуйскому боярством. Если точнее формулировать эту присягу Шуйского, то мы можем свести ее к трем пунктам:
1. Царь Шуйский не имеет власти никого лишать жизни без приговора Думы. Как мы уже знаем, существует известие, что бояре условились еще до избрания царя «общим советом… царством управлять». Но если летописец не ошибся и в Успенском соборе Шуйский действительно присягал на имя Собора, а не Боярской думы, то мы имеем право предполагать, что это с его стороны было попыткой заменить боярское ограничение ограничением всей земли. Однако эта попытка, если она была, оказалась неудачной. Народ отверг ограничение, добровольно на себя налагаемое Шуйским, а бояре от своего уговора не отказались, и в грамотах Шуйского ограничительное значение придается именно Боярской думе.
2. Далее В.И. Шуйский целовал крест на том, что он вместе с виновными в каком-либо преступлении не будет подвергать гонению их невинную родню. Это обязательство Шуйского одинаково относится как к боярству, так и к прочим чинам, служилым и тяглым. Обычай преследования целого рода за проступок одного его члена в делах политических существовал в Москве; его держались и Борис, и другие государи. Теперь постарались об отмене этого обычая и приняли во внимание интересы не только боярства, но и прочих людей.
3. Наконец, В.И. Шуйский обязывался не давать веры доносам, не проверив их тщательным следствием; если донос окажется несправедливым, то доносчик должен быть наказан. В этом пункте присяги нового царя слышится нам намек на доносы времени Годунова, когда они были возведены в систему и являлись величайшим злом.
Этими тремя условиями исчерпываются все обещания Шуйского. Во всей только что разобранной записи трудно найти действительное ограничение царского полновластия, а можно видеть только отказ этого полновластия от недостойных способов его проявления; царь обещает лишь воздерживаться от причуд личного произвола и действовать посредством суда бояр, который существовал одинаково во все времена Московского государства и был всегда правоохранительным и правообразовательным учреждением, не ограничивающим, однако, власти царя.
Итак, Шуйский вступил на престол не законным избранием земли, а умыслом бояр, от которых он и должен был стать в зависимость. Переворот – 19 мая 1606 года случился так неожиданно для всей страны и произошел так быстро, что для земли должны были казаться всем необъяснимою новостью и самозванство Димитрия, и его свержение и выбор Шуйского. Все эти происшествия упали как снег на голову, и стране необходимо было показать законность замены царя Димитрия царем Василием. Это и старался сделать Шуйский со своим правительством, разослав в города тотчас по воцарении окружные грамоты от своего имени, от имени бояр и от имени царицы Марии Нагой, то есть инокини Марфы. В этих грамотах царь Василий старается доказать народу: 1) что свергнутый царь был самозванец, 2) что он, Шуйский, имеет действительные права на престоле и 3) что избран он законно, а не сам пожаловал себя в цари.
Что Димитрий был самозванец, объявлял в своих грамотах сам В.И. Шуйский. Свергнутого царя Димитрия он называл Гришкою Отрепьевым и доказывал это подбором фактов, не особенно строгим, как можно в этом убедиться теперь. То же доказывали в своих грамотах бояре и другие московские люди, причем в подборе фактов и они не особенно стеснялись; доказывала это в особой грамоте и Марфа Нагая. Она сознается, что Гришка Отрепьев устрашил ее угрозами и что признала она его страха ради, но в то же время пишет (а вернее, за нее пишут другие), что она тайно говорила боярам о его самозванстве, а теперь свидетельствует об этом всенародно.
Но слушая все эти грамоты, русские люди знали, что Шуйский постоянно переметывался со стороны в сторону в этом деле, что сам же он заставил Москву уверовать в подлинность царя Димитрия, что Марфа – достойная сотрудница Шуйского и такой же, как он, образец политической безнравственности того времени: когда-то с восторгом принимала ласки Самозванца и очень тепло на них отвечала. При таких обстоятельствах много оставалось места недоразумениям и сомнениям, и их нельзя было рассеять двумя-тремя грамотами. Это, конечно, понимал и сам Шуйский. Он в июне 1606 года, тотчас же по вступлении на престол, помимо всяких других доказательств самозванства прежнего царя, канонизирует царевича Димитрия и 3 июня торжественно переносит его мощи из Углича в Москву, в Архангельский собор, обращая таким образом это религиозное торжество в средство политического убеждения.
Второе, что старался доказать Шуйский, – это прирожденные свои права на престол. Здесь он не только опирается на простое родство с угасшей династией, но и старается доказать свое старшинство перед родом московских царей Даниловичей. Род Шуйских, как и род князей московских, принадлежал к прямому потомству Александра Ярославича Невского, и Шуйские действительно производили себя от старшей, сравнительно с московскими Даниловичами, линии суздальских князей. Но это отдаленное старшинство мало теперь значило в глазах народа и одно – само по себе – не могло оправдать воцарения Шуйского. Для этого необходимо было участие воли народной, санкция Земского собора, а этим-то новый царь и пренебрег.
Однако, несмотря на это, в грамотах своих к народу царь Василий, кроме самозванства Димитрия и прав на престол, старается доказать еще правильность и законность своего выбора. Он пишет, что «учинился на отчине прародителей своих избранием всех людей Московского государства». В XVI и XVII веках наши предки государствами называли те области, которые когда-то были самостоятельными политическими единицами и затем вошли в состав Московского государства. С этой точки зрения тогда существовали Новгородское государство, Казанское государство, а Московское государство часто означало собственно Москву с ее уездом. Если же хотели выразить понятие всего государства в нашем смысле, то говорили: «Все великие государства Российского царствия» или просто «Российское царство». Любопытно, что Шуйский совсем не употреблял этих последних выражений, говоря об избрании своем; выбирали его «всякие люди Московского государства», а не «все люди всех государств… Российского царствия», как бы следовало ему сказать и как писали и говорили при избрании Михаила Феодоровича в 1613 году. В этом, пожалуй, можно видеть осторожность со стороны Шуйского. Он как будто хотел обмануть наполовину и не хотел обманывать совсем; но обмануть законностью своего избрания Шуйскому не удалось. Для народа, конечно, не могла остаться тайной настоящая обстановка избрания Шуйского: вся Москва до малого ребенка знала, что посажен Василий не всем народом, а своей кликой и что его не избрали, а выкрикнули. В избрании и поведении Шуйского была непозволительная фальшь, и эту фальшь не могли не чувствовать московские люди.
Много было обстоятельств, мешавших народу относиться доверчиво к новому правительству. Личность нового царя далеко не была так популярна, как личность Бориса. Новый царь захватил престол, не дожидаясь Земского собора, а многие помнили, что Борис ожидал этого Собора шесть недель. Новый царь очень сбивчиво и темно говорил как о Самозванце, так и о свержении Димитрия, про которого сам же прежде свидетельствовал, что это истинный царевич. Наконец, необычность самих событий, разыгравшихся в Москве, способна была возбудить много толков и сомнений. Все это смущало народ и лишало новое правительство твердой опоры в народе. Силою самих обстоятельств Шуйский должен был при своем воцарении опереться на боярскую партию и не мог опереться на весь народ; в этом и заключалось его несчастие. Народ, признавая Шуйского царем, не был соединен с ним той нравственной связью, той симпатией, которая одна в состоянии сообщить власти несокрушимую силу. Шуйский не был народом посажен на царство и сел на него сам, и народная масса, смотря на него косо, чуждалась его, давала возможность свободно бродить всем дурным общественным сокам. Это брожение, направляясь против порядка вообще, тем самым направлялось против Шуйского как представителя этого порядка, хотя, может быть, представителя и неудачного.



