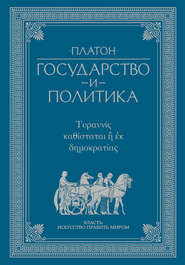
Полная версия:
Государство и политика
Проф. В. Н. Карпов
Книга первая
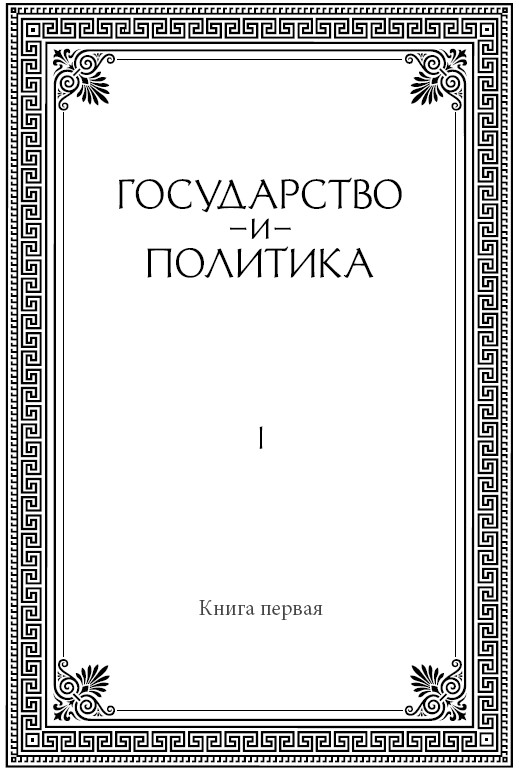
Содержание первой книги
ЛИЦА РАЗГОВАРИВАЮЩИЕ: СОКРАТ, ГЛАВКОН, ПОЛЕМАРХ, ТРАЗИМАХ, АДИМАНТ, КЕФАЛ.
Первая книга Платонова «Государства» начинается дружескою беседою Сократа с стариком Кефалом – о старости, и – когда по этому поводу было замечено, что человек, проведший жизнь праведно и свято, наслаждается спокойною и веселою старостью, – возник у них вопрос: что называется праведностью или правдою? Р. 327–331 С. После сего Кефал уходит, и о постановленном предмете начинает рассуждать с Сократом сын Кефала, Полемарх. Этот правду определяет так, что называет ее добродетелью, отдающею всякому свое. Но Сократ находит, что его определение в человеке справедливом не предполагает довольно осмотрительности; потому что в таком случае вещь, вверенную нам для сохранения человеком здравомыслящим, возвратить ему тогда, когда он сошел с ума, значило бы поступить справедливо. Р. 331 С – 332 А. Посему Полемарх, изменив свое мнение, видит теперь справедливость в том, чтобы благотворить друзьям и делать зло врагам. Но Сократ отвергает и это определение: предлагая Полемарху вопрос за вопросом, он незаметно приводит своего собеседника к заключению противному, что человек справедливый был бы несправедлив, если бы стал вредить кому-нибудь. Р. 332 А – 336 А. После того в беседу с Сократом вступает софист Тразимах и утверждает, что справедливость есть не что иное, как действие, полезное мужественнейшему и превосходнейшему. Но Сократ опровергает и это мнение, – притом многими доказательствами, и учит, что человек справедливый, заведывая общественными делами и имея силу в государстве, должен смотреть не на личную свою, а на общую пользу, или на благосостояние тех, которыми он управляет. Р. 336 А – 342 Е. Тразимах, однако ж, за такой взгляд сильно укоряет Сократа, почитая подобную деятельность глупою, и, чтобы своему понятию о справедливости придать более веса, начинает великими похвалами превозносить несправедливость, говоря, что последняя приносит человеку гораздо больше выгоды, чем первая. Р. 342 Е – 344 С. Сократ, конечно, не соглашается с этим и подробно раскрывает, что несправедливость и не полезнее, и не счастливее справедливости. Р. 344 С – 354.
Проф. В. Н. Карпов
Книга перваяВчера я с Главконом[20], сыном Аристона, сошел в Пирей[21] поклониться божеству[22], а вместе посмотреть, как будет идти праздник, совершаемый ныне в первый раз. И мне показалось, что церемония выполнена здешними жителями столь же хорошо и благоприлично, как будто бы выполняли ее сами фракияне. Поклонившись и посмотревши, мы отправились назад в город. Тут Полемарх, сын Кефалов[23], увидев издали, что мы спешим домой, приказал своему мальчику догнать нас и просить, чтобы мы подождали. Мальчик, схватив меня сзади за плащ, сказал:
– Полемарх просит вас подождать.
А я обернулся и спросил: где же он?
– Он назади, идет сюда, – отвечал мальчик, – подождите, сделайте милость.
– Хорошо, подождем, – сказал Главкон.
Немного спустя к нам присоединились и Полемарх, и Адимант, сын Главкона, и Никират[24], сын Никиаса, и некоторые другие, возвращавшиеся с церемонии. Тогда Полемарх сказал:
– Сократ! Вы, кажется, спешите в город.
– Тебе не худо кажется, – отвечал я.
– А видишь ли, сколько нас?[25] – прибавил он.
– Как не видеть?
– Так вам, говорит, надобно или быть посильнее этого общества, или остаться здесь.
– Но есть еще одно, – возразил я, – убедить вас, что должно дать нам отпуск.
– А разве возможно убедить тех, которые не слушают? – подхватил он.
– Совершенно невозможно, – отвечал Главкон.
– Будьте же уверены, – сказал он, – что мы слушать вас не станем.
– Ужели вы не знаете, – примолвил Адимант, – что вечером в честь божества будет бег с факелами[26] на конях?
– На конях? – воскликнул я. – Да это новость: то есть, обгоняя друг друга на конях, будут передавать[27] один другому факелы? Или как ты говоришь?
– Именно так, – отвечал Полемарх; – и сверх того устроят ночные увеселения, которые стоит посмотреть. После ужина мы увидим их и, встретив там много молодых людей, будем разговаривать с ними. Останьтесь-ка, не упрямьтесь.
– Да, приходится остаться, – сказал Главкон.
– Если угодно, пусть так и будет, – примолвил я.
Итак, мы пошли в дом к Полемарху и встретили там Полемарховых братьев – Лизиаса и Эвтидема, вместе с Халкидонцем Тразимахом[28], Пеанцем Хармантидом и Клитофоном Аристонимовым. Тут же был и отец Полемарха – Кефал. Он показался мне очень устаревшим; ибо прошло много времени с тех пор, как я не видел его. Старик сидел увенчанный на мягком, покрытом подушкой стуле[29], потому что приносил жертву на домашнем жертвеннике. Мы уселись подле него, так как здесь вокруг стояли стулья. Увидев меня, он тотчас сделал мне приветствие и сказал:
– Сократ! Ты ныне редко жалуешь к нам в Пирей, а надобно. Если бы я имел довольно силы легко ходить в город, то тебе хоть бы и не бывать здесь; тогда мы сами посещали бы тебя. А теперь ты должен приходить к нам чаще; ибо знай, что чем более чуждыми становятся для меня удовольствия телесные, тем сильнее возрастает во мне желание и удовольствие беседовать. И так не отказывайся, но и занимайся-таки с этими молодыми людьми, да не забывай навещать и нас, как друзей и коротких знакомых.
– Как же мне приятно, Кефал, беседовать с глубокими старцами, – сказал я, – они уже прошли тот путь, которым идти, может быть, понадобится и нам; а потому у них то, думаю, должно спрашивать, каков он – ухабист и труден или легок и ровен. Особенно тебе я охотно верил бы в этом отношении; потому что ты уже в том возрасте, который поэты называют порогом старости. Что же, трудна эта часть жизни? как ты скажешь?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
С каким упорством спорили об этом еще в древности, можно видеть из рассужденийПрокла в его Commentar, ad Plat. Polit, p. 309 sqq. Между новейшими особенно замечательны в этом отношении Клейкер (Praefat. ad Polit. Plat.), Тидеман (Argumentt. dialogg. Plat. p. 171 sqq.), Моргенштерн (Commentt. d. Plat. Republ. p. 1794), Теннеман (System, philosoph. Plat. T. IV, 173 sqq.), Шлейермахер (Platons Werke vol. III. P. 1, p. 3 – 72), Зюземиль (Die Genetische Entwickelung 2 Th. p. 58), Штальбом (Platonis dialogi selecti Vol. III. sect. 1), которого взгляд нам особенно нравится, и мы поэтому большею частью будем держаться образа его мыслей.
2
См. р. 20 D – 25 D. Сн. Crit. р. 103 D.
3
См. L. IV, р. 440 A sqq. IX, р. 580 sqq.
4
См. L. IV, р. 444. D. Е. Это здоровье души называется также гармонией. См. р. 443 D. Е. Phaedon. р. 93.Е.
5
См. L. IX, р. 591 Е. р. 592. Е, где такое настроение души Платон называет также τὴν ἐν αὑτῷ ποςιτείαν и τὴν ἐαυτοῦ πόςιν. См. L. X, p. 608 B.
6
Прежде Платона, сочинение о наилучшем обществе писал Иппопотам Милетянин, писали, как говорит Аристотель (de Rep. 11. 8), и многие Пифагорейцы. Чем воспользовался от них Платон, определенно сказать нельзя. Невозможно безусловно верить иДиогену Лаерцию (L. III. Sect. 37 и 57), который рассказывает, что почти вся Платонова «Политика», по словам Аристоксена, содержалась в Протагоровых антилогиях.
7
Об этом философ весьма подробно говорит в книге второй. Объясняя излагаемое здесь учение Платона, Моргенштерн справедливо замечает, что целью такого учения было оградить от влияния поэзии народную нравственность. Те же самые положения Платон защищает и в кн. Legg. II. р. 658 Е. sqq., где доказывает, что благонравное общество не должно допускать в этом отношении никаких нововведений, как бывало у египтян, которые поэтам, музыкантам, живописцам и др. предписывали известные законы и нарушать их не позволяли.
8
Впрочем, Платон даже сознательно желал создать государство именно греческое, приноровленное к нравам и обычаям греков, в чем сам сознается L. V. р. 470 Е.
9
Этот взгляд принадлежал особенно пифагорейцам. Так, Архит (ар. Stob. Eclogg. Eth. XLI p. 267. sq. XLIV p. 311), говорят, писал περὶ νόμου καὶ δικαιοσύνης.
10
См. Plat. Legg, IX. p. 859. С. p. 876 A – E; a особенно Legg. У. p. 739 A – E. Cm. Aristot. Polit. IV. 6, который различает ποςιτείαν την ἀριστην, οὔσαν μάςιστα.κατ’ εὐχήν, то есть представляемую только в уме и неосуществимую τήν ὲκ τῶν ὑποκειμένων ἀρίστην, то есть наилучшую под внешними условиями, какая описана в Платоновых законах, и τὴν ἐξ ὑποϑέσεως ποςιτείαν, то есть общество, какое бывает, когда кто желает улучшить и утвердить его. Итак, Платон в своей «Политике» начертал государство совершеннейшее, какое может быть только представляемо в уме, как он сам говорит в L. V. р. 473 A. L. IX. р. 592 A. В, al. Поэтому, так как для граждан с наилучшими свойствами души не требуется никакого внешнего законодательства, то в этой «Политике» внешних, понудительных законов и не предложено, как предложены они в сочинении о Законах.
11
Из указанного места Legg. V р. 739. Е видно, что Платон надеялся описать его: τρίτην δέ μετὰ ταῦτα, ἐάν Ѳεὸς ἐϑέςη, διαπερανούμεϑα. Сравн. Boeckh. in Min. et Legg. p. 67. Dilthey. Exam. Platonicorum librorum de Legibus p. 10 sqq.
12
IV. 424 A. V. 464 В. Cicer. de Officiis 1, 16. de Legibus 1, 16. Muret. ad Aristot. Ethic. VIII, 9. T. III. p. 456. Morgenstern. p. 216 sqq. Geer. Diatrib. in Piat, polit, princip. p. 179 sqq.
13
См. Legg. 1 р. 637. С. Aristot. Polit. 11, 7.
14
Meiners. Gesch. d. Wiss. in Gr. u. Röm. Th. II. S. 71 ff. Vermischt. Schrift. Th. I. s. 321 ff. Schlegel in Berlin. Monatsschr. 26 B. S. 56 ff. Сравн. Legg. 1. 637 C. de Rep V. 452 C. D.
15
Herodot. IV. 104. 180. Strab. XI p. 798. Diod. Sic. II. 58. III. 15. 24. 32. 35.
16
Сравн. Plotin. Ennead. 1. 2, 8, 11. С.
17
О пифагорейском характере «Политики» много говорит Аст в своем сочинении de vita et scriptis Piat, p. 354 sqq.
18
Diog Laert. III, 37, Dionys. de Compos. Verbor. c. 25. Quint. Inst. Orat. VIII, 6, 64. Muret. Var. Lectt. IX, 5. XVIII, 8.
19
Недостоверность этого сказания была уже доказываема Бэкком (de Simultate, quae Platoni cum Xenophonte intercessisse dicitur, p. 20) и Астом (de Vit. et Script. Plat. 1. c.). Мы заметим только, что из первых двух книг Ксенофонт не мог составить полного понятия о Платоновом Государстве и его правлении.
20
Главкон и Адимант, сыновья Аристона и Периктионы, были братья Платона: судя по тому, как в этой книге изображаются нравственные их свойства, надобно полагать, что Платон очень любил их. Groen vап Prinsterer Prosopogr. Platon, p. 207 sqq.
21
Весь этот разговор представляется происходившим в Пирее, в доме Кефала. Сократ рассказывает здесь Тимею, Критиасу, Гермократу и какому-то четвертому лицу безымянному о том, что заставило его идти в Пирей. Простоте и естественности этого вступления удивлялись еще древние. Оно, после смерти Платона, найдено было на его таблице с разными поправками и перестановками слов. Diog. Laert. III. 37.
22
Под божеством схолиаст и другие неправильно понимают здесь Палладу, в честь которой совершаемы были панафинеи. Напротив, Платон разумеет богиню Вендину или Вендиду, которой посвященные праздники назывались вендидиями и принесены были в Афины из Фракии. По свидетельству Прокла (in Timaeum р. 9. v. 27), вендидии совершаемы были в двадцатый день месяца Таргелиона, в Пирее, за два дня пред празднованием меньших панафиней, которые посвящались Диане, по-фракийски называвшейся Вендин. У. Ruhnken. ad Timaei Glossar. p. 62. Creuzer. Symb. T. II. p. 129 sqq. Что этот разговор происходил во время вендидий, видно как из начала его, так и из конца первой книги, где говорится: ταῦτα δή σοι, ἔφη, Σώκρατες, εἰθιάσθω ἐν τοῖς Βενδιδείοις.
23
Кефал – ритор, родом сиракузянин или, по мнению некоторых, туриец, переселившийся в Афины, по убеждению Перикла, и пользовавшийся его гостеприимством. У Кефала были сыновья: Полемарх, Эвтидем, Врахит и знаменитый оратор Лизиас. Dionys. Halicam. et Plulavch. in vita Lysiae. Полемарху, o котором здесь говорится, поставленные лакедемонянами тридцать тиранов присудили выпить яд. Muretus. Conf. Taylor. Vita Lys. T. VI p. 103 sqq.
24
Никират был отец известного греческого полководца Никиаса, командовавшего афинским войском во время Пелопоннесской войны. Thucyd. и Plutarch. От этого Никирата надобно отличать сына Никиасова, который был тоже Никират. О нем упоминается в «Лахесе» как о мальчике, требующем еще воспитания; а здесь, в «Государстве», является он уже совершеннолетним молодым человеком. Этим соображением можно доказывать, что «Государство» написано Платоном много позднее, чем «Лахес».
25
Ὅρᾶς οὖν ὅσοι ἐσμέν— шутливая угроза. Подобные выражения угрозы см. Phileb. р. 16 А. ἆρα ὦ Σώκρατες, οὐχ ὁρᾶς ἡμῶν τὸ πςῆθος, ὅτι νέοι πάντες ἐσμέν, καὶ οὐ φοΒεῖ…. Phaedr. ρ. 236 C. Horat. Satyr. 1, 4 extr. Cui si concedere nolis, multa – veniat manus, auxilio quae sit mihi; nam multo plures sumus.
26
Об этом религиозном беге с факелами рассказывают так: у афинян был род состязания, называемый ςαμπαδουχία и ςαμπαδοδρομία. Зажигали факелы огнем с жертвенника и, держа их в руках, бежали, сколько могли, долее и быстрее. Те, у кого факелы погасали или которые отставали от бегущих и до определенного места достигали позднее, почитались побежденными. См. Pausan. in Atticis (с. 30 § 2). Такое состязание обыкновенно происходило в праздник Прометея, который схватил огонь пуком деревянных прутьев, чтобы он не погас, и перенес его с неба на землю. Подобный бег с огнем бывал и в праздник Вулкана, так как его признавали богом огня. То же совершалось и в праздник Минервы, которой приписывали попечение о науках и искусствах, имеющих нужду в огне. Но почему этот обычай перенесен был и на праздник Дианы? Не потому ли, что Диана у греков была одно с Селиною (луною), которая ночью светит, будто лампада, отчего и называли ее νυκτιςαπῆ, или, как у Горация, noctiluca? И почему опять в праздник Дианы совершаем был этот бег на конях? Не потому ли, что Диану греки представляли везомою по небу конями? Ovidius. Altaque volantes Luna vehebat equos. Propertius. Quamvis labentes premeret mihi somnus ocellos, et mediis coelo Luna ruberet equis.
27
Бегущие, пробежав поприще, передавали свои факелы, по порядку, другим. Отсюда – та прекрасная мысль Платона, Legg. VI р. 776 В: «Рождающие и воспитывающие детей передают им последовательно жизнь, будто факелы». Лукреций Lib. II, v. 78, выразил ее так: Inque brevi spatio mutantur saecla animantum, et quasi cursores vitae lampada tradunt.
28
Софист Тразимах был родом из вифинского города Халкидона и, по словам Цицерона (Orat. 52), первый изобрел правильный склад речи прозаической (numerum oratorium), потому что обладал удивительным даром слова (Pliaedr. р. 267 Т). Так как его красноречие не могло не нравиться юношам, то упоминаемые здесь Хармантид и Клитофон, вероятно, были его ученики.
29
Совершавшие жертвоприношение обыкновенно возлагали на себя венок. Жертвенники устроялись на открытом воздухе, среди двора или внутри домашних зданий, и имелись в каждом доме. Xenoph. Mem. I, 1. Aristoph. Рас. v. 941. Virgil. Aeneid. II, v. 512.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

