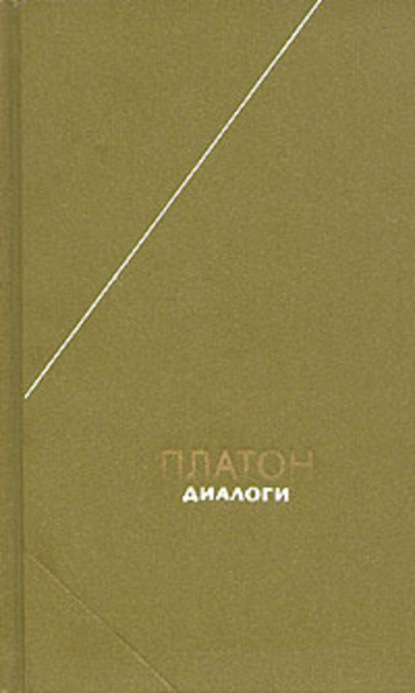 Полная версия
Полная версияДиалоги
XXII
Причины болезней многочисленны. Во-первых, избыток и недостаток элементов, а также переход их в несвойственные им места. Во-вторых, рождение однородного в обратном порядке, например когда из плоти выделяется кровь, желчь или слизь, – это означает не что иное, как разложение плоти. Именно слизь представляет собой разложение молодой плоти, пот и слезы – своего рода сыворотку слизи. Слизь, выступая наружу, вызывает сыпь и лишаи, а смешавшись внутри с черной кровью, возбуждает так называемую священную болезнь; едкая и соленая слизь есть причина катаров; все воспаления вызываются желчью, и вообще желчь и флегма вызывают тысячи разнообразных недугов. Непрерывная лихорадка возникает от избытка огня, ежедневная – воздуха, трехдневная – воды, четырехдневная – земли.
XXIII
Теперь следует сказать о душе; хотя может показаться, что мы повторяемся, начнем со следующего. Как мы уже показали, боги, созидавшие смертные роды, получили от первого бога бессмертную человеческую душу и прибавили к ней две смертные части. Чтобы божественная и бессмертная часть души не была подавлена ничтожеством смертной части, они поместили ее как бы в крепости человеческого тела и, предназначив ее для управления и господства, уделили ей место в голове, форма которой подобна форме мироздания; остальное тело они предназначили для подчинения ей, прирастив его в качестве носителя, и в разных частях его поместили прочие смертные части души.
Пылкое начало они поместили в сердце, вожделеющее – в средней области, между пупком и диафрагмой, связав его, словно некоего бешеного и дикого зверька. В помощь сердцу они приспособили легкие, сделав их мягкими, бескровными и пористыми наподобие губки ради смягчения ударов закипающего гневом сердца. Печень благодаря имеющейся у нее сладости и горечи пробуждает вожделеющее начало души и укрощает его; кроме того, печень вызывает пророческие сны, поскольку она, будучи гладкой, плотной и лоснящейся, отражает идущую от ума силу. Селезенка помогает печени, очищая ее и придавая ей лоск; она вбирает в себя вредные выделения, возникающие от некоторых болезней печени.
XXIV
Что три части души соответствуют трем ее силам и что части эти занимают свои места в соответствии с определенным замыслом, можно усмотреть из следующего. Во-первых, то, что от природы разделено, является разным; а чувства и разум разделены от природы, раз одно относится к мышлению, а другое – к страданиям и удовольствиям; кроме того, чувства есть и у животных.
Так как чувства и разум действительно разные от природы, они должны и помещаться отдельно, поскольку в конечном счете они приходят в столкновение друг с другом; но ничто не может прийти в столкновение с самим собой, и противоположное друг другу не может одновременно находиться в одном и том же месте.
На примере Медеи видно, как пыл страстей приходит в столкновение с рассудком; она говорит так:
Я знаю, что злодейство мной задумано,Но пыл страстей сильнее понимания36.И в Лаие, похищающем Хрисиппа, страсть также приходит в столкновение с рассудком; он говорит так:
В том для людей несчастье величайшее,Что дурно поступают, благо ведая[37].О том, что разум отличается от чувств, можно судить и на основании того, что разум и чувства воспитываются по-разному; первый – с помощью обучения, а вторые – с помощью усвоения хороших привычек.
XXV
Бессмертие души Платон доказывает следующим способом38. Душа привносит жизнь в то, во что входит, поскольку жизнь – ее естественное свойство; то, что приносит жизнь другому, само не может принять смерти, а таковое бессмертно. Если душа бессмертна, она и неуничтожима: она есть бестелесная сущность, неизменная в своем существе, умопостигаемая, невидимая и единовидная; тем самым она несоставная, неразрушимая, недробимая. Тело – полная тому противоположность: воспринимаемое чувствами, видимое, дробимое, составленное из разных видов. Именно поэтому душа, входя благодаря телу в соприкосновение с чувственным миром, теряется, тревожится и словно пьянеет; а в умопостигаемом, оказываясь сама по себе, она укрепляется и успокаивается. Она не может быть подобна тому, что ее тревожит: следовательно, она более сходна с умопостигаемым, которое недробимо и неуничтожимо. Кроме того, душа есть естественное ведущее начало, а таковое подобно богу; поэтому, будучи подобной богу, душа неуничтожима и нетленна.
Непосредственно противоположные начала, причем противоположные не сами по себе, а как свойства, обычно рождаются одно из другого. То, что люди называют жизнью, противоположно мертвому; как смерть есть отделение души от тела, так жизнь есть соединение души, которая, несомненно, существовала прежде, и тела; и если душа будет существовать после смерти и существовала до встречи с телом, то, вероятнее всего, она вечна, поскольку невозможно помыслить ничего способного ее разрушить.
Кроме того, душа должна быть бессмертной, если научение есть припоминание; а к мысли о том, что научение есть припоминание39, можно прийти на основе того, что научение не может осуществляться иначе, как через припоминание некогда узнанного. В самом деле, если мы составляем общее понятие, исходя из общих свойств отдельных вещей, как можем мы перебрать все отдельные вещи, которых бесконечно много? Или как [постигнем общее] из рассмотрения немногих? Никак, поскольку в этом случае неизбежны ошибки; тому пример – суждение «Только обладающее дыханием есть живое существо». И самое главное, как могли бы существовать понятия? Итак, мы в порядке припоминания мыслим на основе крохотных проблесков, по некоторым отдельным признакам припоминая, о чем давно знаем, но что забыли по воплощении.
Кроме того, душу не разрушает ее собственная порочность, она не может разрушиться от порочности другого и вообще от другого; а раз так, она должна быть бессмертной. Кроме того, самодвижное начало обладает вечным движением, а таковое бессмертно; но душа как раз самодвижна; как самодвижное, она есть начало всякого движения и возникновения, а как начало, она есть нечто нерожденное и негибнущее. Следовательно, такова всякая душа – не только мировая, но и человеческая, поскольку обе они созданы из одной и той же смеси. Платон называет душу самодвижной40, поскольку ей свойственна жизнь, вечно деятельная в себе самой.
Что бессмертны души разумных существ – это у Платона можно считать твердо установленным; а вот бессмертие душ существ неразумных сомнительно. И по всей вероятности, души неразумных существ, ведомые чистой видимостью и не обладающие ни рассудком, ни способностью суждения, ни доказанными положениями и выводами из них, ни общими разделениями и совершенно лишенные, таким образом, понятия об умопостигаемом и по существу отличные от разумных существ, смертны и тленны.
Из положения о бессмертии душ следует, что они внедряются в тела и срастаются с зародышами, способствуя их созреванию; меняют многие тела – человеческие и другие – или дождавшись прошествия отмеренного им числа лет, или по воле богов, или из-за невоздержности, или из-за приверженности к телу; душа и тело в каком-то смысле приспособлены друг к Другу, как огонь и смола.
И душа богов обладает способностью суждения (которую можно назвать также способностью понимания), побудительной способностью (которую можно именовать воодушевлением) и способностью присвоения. Эти способности имеются и у человеческих душ, но после воплощения они некоторым образом преобразуются: способность присвоения становится вожделением, а побудительная способность – пылким началом.
XXVI
Мнение Платона о роке таково. Все, говорит он, подчиняется року, но не все им предопределено, ибо действие рока подобно закону, который не может сказать, что один совершит одно, с другим случится другое и так далее до бесконечности, поскольку бесконечно число рождающихся и бесконечны обстоятельства, в которых они оказываются; в таком случае не будет места ни для нашей воли, ни для наших представлений о похвальном, порицаемом и тому подобном; но рок говорит, что при выборе такой-то жизни и по свершении таких-то поступков для души воспоследует то-то[41].
Таким образом, душа свободна от принуждения и в ее воле сделать что-то или не сделать; здесь необходимость отсутствует, но неизбежность последствий поступка определяется роком, например за добровольным поступком «Парис похитит Елену» последует «из-за Елены эллины начнут войну». Таково же пророчество Аполлона Лаию:
Зачнешь дитя – убьет тебя родившийся42;здесь говорится о Лаии и о том, что он может родить дитя, а последствие этого предопределено роком.
Природа возможного помещается где-то между истиной и ложью; на этой по природе неопределенной возможности и основывается наша свободная воля. Истиной или ложью будет то, что получится после нашего выбора, а возможное отлично от называемого наличным, или действительным43. Возможное обозначает некую способность к чему-либо, но не его наличие. Так, можно сказать, что ребенок есть в возможности грамматик, флейтист или плотник, но у него тогда будет в наличии одно или два из этих искусств, когда он обучится и приобретет какой-либо навык, а в действительности тогда, когда он будет действовать в соответствии с приобретенным навыком. Но возможное не есть что-либо из этого, а то неопределившееся и зависящее от нашей воли, что становится истинным или ложным в зависимости от того, какая из наших наклонностей возьмет верх.
XXVII
Данная глава посвящена платоновской этике. Он полагает, что драгоценнейшее и величайшее благо нелегко найти, а найдя – трудно объяснить всем. Это он изложил в беседе «О благе» избранным и особенно близким ему ученикам. Что же касается человеческого блага, то внимательному читателю его сочинений ясно, что он считает им науку и созерцание первого блага, которое можно определить как бога и первый ум.
Все то, что считается человеческим благом, заслуживает такого имени в меру его причастности к первому и драгоценнейшему благу, точно так же как сладкое и теплое получают свое имя от первых сладости и теплоты. В нас неким подобием его оказывается ум и способность рассуждения, в силу чего наше благо так хорошо, возвышенно, привлекательно, соразмерно и божественно. Что же касается остальных так называемых благ, каковы для большинства здоровье, красота, сила, богатство и тому подобное, то все это является благом не безусловно, а только в том случае, когда пользование этим неразрывно с добродетелью, без которой это остается всего лишь в разряде вещественном и при дурном употреблении оказывается злом; в таком случае Платон называет все это тленными благами.
Платон не относит к числу доступных человеку благ счастье: последнее доступно божеству, а людям – лишь в виде загробного блаженства. Потому Платон и говорит, что по существу философские души44 преисполнены великим и удивительным и по отрешении от тела они становятся сотрапезниками богов и созерцают луг истины, поскольку уже при жизни им вожделенно знание ее и выше всего они ценят стремление к нему. Благодаря этому они как бы очищают и восстанавливают некое зрение души, потускневшее и ослабленное, которое, однако, следует беречь больше, нежели тысячу телесных очей, и оказываются в состоянии вознестись ко всему разумному.
А неразумные, по мнению Платона, подобны никогда не видевшим ясного света обитателям подземных пещер: они видят некие неясные тени наших тел и думают, будто это – подлинное постижение бытия. И как те, выбравшись из мрака и оказавшись в чистом свете, понятным образом меняют свое мнение о том, что видели раньше, и в первую очередь понимают собственное заблуждение, точно так же и неразумные, перейдя из мрака здешней жизни к истинно божественному и прекрасному, начинают презирать то, чем раньше восхищались, и исполняются неодолимым стремлением созерцать тамошнее, ибо только там прекрасное тождественно с благом и добродетели довольно для счастья. Что благо есть знание первого и что это же – прекрасное, Платон разъясняет во всех своих сочинениях. Сжато это изложено в первой книге «Законов» примерно так: «Есть два рода благ: одни – человеческие, другие – божественные» и т. д.45 Когда некая отдельная вещь, непричастная сущности первого блага, по недоразумению также именуется благом, обладание ею, говорит Платон в «Евтидеме», есть наибольшее зло46.
Его положение о том, что добродетели благодетельны сами по себе, следует понимать как вывод из его положения о прекрасном как единственном благе: очень подробно и лучше всего он говорит об этом в «Государстве», во всех книгах этого диалога47. Обладатель того знания, о котором шла речь выше, – великий удачник и счастливец, причем не только в том случае, когда ему за это оказывают почести и награждают, но даже и в том, когда никому из людей это не известно и его преследуют так называемые беды: бесчестье, изгнание, смерть. И тот, кто обладает всем тем, что считается благом, – богатством, властью над великим царством, крепким телесным здоровьем и красотой, но при этом лишен того знания, ни в коем случае не счастливее его.
XXVIII
Из всего этого естественно вытекает положение Платона о том, что целью является посильное уподобление божеству. Он излагает это по-разному. Иной раз он говорит, что уподобиться божеству – значит быть разумным, справедливым и благочестивым, – так в «Теэтете»48. Потому и надо стремиться как можно быстрее бежать отсюда туда: бегство и означает посильное уподобление божеству, а уподобление заключается в том. чтобы стать справедливым и благочестивым благодаря размышлению. Он может ограничиться и справедливостью, как в последней книге «Государства»49; в самом деле, боги не оставят своим попечением того, кто предан стремлению стать справедливым и в меру человеческих сил уподобиться богу, ведя добродетельную жизнь.
В «Федоне» о том, что уподобиться божеству – значит быть рассудительным и справедливым, он говорит примерно так: «А самые счастливые и блаженные, уходящие самой лучшей дорогой, – это те, кто преуспел в добродетели, полезной народу и гражданам; имя ей – рассудительность и справедливость»50.
Иногда он говорит, что цель – уподобиться божеству, иногда – следовать, например: «Бог, в котором, по древнему учению, начало и конец» и т. д. Иногда – и то и другое, например: «Душа, которая следует божеству и уподобилась ему» и т. д. Но ведь благо есть и начало всякой пользы, и можно сказать, что оно – от бога; а такому началу соответствует цель, состоящая в уподоблении божеству, – я имею в виду, конечно, бога небесного, а не занебесного, клянусь Зевсом, который не обладает добродетелью, поскольку он выше ее. Поэтому правильно будет сказать, что несчастье есть демонская порча, а счастье – расположение демона.
Мы можем достичь богоподобия, если при соответствующих природных задатках приобретем хорошие привычки, будем должным образом наставлены и воспитаны в духе закона и, самое главное, если благодаря разуму и обучению усвоим те знания, которые позволяют удалиться от большинства людских забот и постоянно заниматься умопостигаемыми предметами. Если же нам предстоит посвящение в более высокие науки, то подготовкой и предварительным очищением демона в нас может стать музыка, арифметика, астрономия и геометрия; при этом мы должны следить за нашим телом и заниматься гимнастикой, которая закаляет тела как для войны, так и для мирных занятий.
XXIX
Добродетель есть вещь божественная, представляющая собой совершенное и наилучшее расположение души, благодаря которому человек приобретает благообразие, уравновешенность и основательность в речах и делах, причем как сам по себе, так и с точки зрения других. Различаются следующие добродетели: добродетели разума и те, что противостоят неразумной части души, каковы мужество и воздержность; из них мужество противостоит пылкости, воздержность – вожделению. Поскольку различны разум, пыл и вожделение, различно и их совершенство: совершенство разумной части – рассудительность, пылкой – мужество, вожделеющей – воздержность.
Благоразумие51 есть знание добра и зла, а еще того, что не является ни тем ни другим. Воздержность есть упорядоченность страстей и влечений и умение подчинить их ведущему началу, каковым является разум. Когда мы называем воздержность упорядоченностью и умением подчинять, мы представляем нечто вроде определенной способности, под воздействием которой влечения упорядочиваются и подчиняются естественному ведущему началу, т. е. разуму.
Мужество52 – сохранение представления о долге (dogmatos ennomou) перед лицом опасности и без таковой, т. е. некая способность сохранять представление о долге. Справедливость53 есть некое согласие названных добродетелей друг с другом, способность, благодаря которой три части души примиряются и приходят к согласию, причем каждая занимает место, соответствующее и подобающее ее достоинству. Таким образом, справедливость заключает в себе полноту совершенства трех добродетелей: благоразумия, мужества и воздержности. Правит разум, а остальные части души, соответствующим образом упорядоченные благодаря разуму, подчиняются ему; поэтому правильно положение о том, что добродетели взаимно дополняют друг друга.
В самом деле, мужество, будучи сохранением представления о долге, сохраняет и правильное понятие, поскольку представление о долге есть некое правильное понятие; а правильное понятие возникает от разумности. В свою очередь разумность связана также и с мужеством: ведь она является знанием добра, а никто не может увидеть, где добро, если смотрит, подчиняясь трусости и другим страстям, с нею связанным. Так же не может быть разумным человек разнузданный и вообще тот, кто, побежденный той или иной страстью, совершает нечто вопреки правильному понятию. Платон считает это воздействием незнания и неразумия; вот почему не может быть разумным тот, кто разнуздан и труслив. Итак, совершенные добродетели нераздельны друг с другом.
XXX
Но мы говорим о добродетелях и в другом смысле, называя, например, даровитость или успехи, ведущие к добродетели, тем же именем, что и совершенные добродетели, по сходству с ними. Так мы называем мужественными воинов, а иной раз говорим, что некоторые храбры, хотя и неразумны. Очевидно, что совершенные добродетели не усиливаются и не ослабевают, а вот порочность может быть сильнее и слабее, например этот неразумнее или несправедливее, нежели тот. Но в то же время пороки не взаимосвязаны друг с другом, поскольку одни противоречат другим и не могут сочетаться в одном и том же человеке. Так, дерзость противоречит трусости, мотовство – скупости; кроме того, не может быть человека, одержимого всеми пороками, как не может быть тела, имеющего в себе все телесные недостатки.
Еще следует допускать некое среднее состояние между распущенностью и нравственной строгостью, поскольку не все люди либо безупречно строги, либо распущенны. Таковы те, кто довольствуется определенными успехами в нравственной области. Но ведь и в самом деле нелегко перейти от порока к добродетели: расстояние между этими крайностями велико и преодолеть его трудно.
Из добродетелей одни нужно считать главными, а другие – второстепенными; главные связаны с разумным началом, от которого получают совершенство и остальные, а второстепенные – с чувственными. Эти последние ведут к прекрасному благодаря разуму, а не сами по себе, поскольку сами по себе они разумом не обладают, а получают его благодаря разумности при соответствующем образе жизни и воспитании. И поскольку ни знание, ни искусство не могут образоваться ни в какой другой части души, кроме разумной, оказывается невозможным обучить добродетелям, связанным с чувственностью, поскольку они – не искусства и не знания и не обладают собственным предметом. Поэтому разумность, будучи знанием, определяет, что свойственно каждой добродетели, наподобие кормчего, подсказывающего гребцам то, чего они не видят; и гребцы слушаются его, как и воин слушается полководца.
Порочность может быть большей и меньшей, и преступления неодинаковы, а одни большие, другие меньшие; поэтому правильно, что законодатели назначают за них то большее, то меньшее наказание. И хотя добродетели, конечно, суть нечто предельное в силу своего совершенства и сходства со справедливостью, их с другой точки зрения можно рассматривать как нечто среднее, поскольку если не каждой, то большинству из них соответствуют два порока, один из которых связан с избытком, а другой – с недостатком; например, щедрости противоположны: с одной стороны – мелочность, а с другой – мотовство.
В самом деле, неумеренность страстей возникает тогда, когда либо преступают меру должного, либо не достигают ее. Нельзя считать впечатлительным того, кто без гнева смотрит, как оскорбляют его родителей, и сдержанным того, кто гневается по всяким пустякам, – совсем наоборот. Точно так же следует считать бесчувственным того, кто не скорбит, когда его родители умирают, и угнетенным переживаниями и безмерно страдающим – того, кто готов умереть от скорби; умерен в страстях тот, кто скорбит, но соблюдает меру в переживаниях.
Кто буквально всего и очень сильно боится – труслив; кто ничего не боится – самонадеян; а мужествен тот, кто отважен и осторожен в меру; точно так же обстоит дело и со всем прочим. И поскольку в том, что касается страстей, умеренность – наилучшее, а умеренность есть не что иное, как середина между избытком и недостатком, такого рода добродетели существуют в этой середине потому, что они позволяют нам придерживаться в страстях среднего.
XXXI
Но такова же и добродетель, поскольку она также есть то, что в нашей воле и ничему не подвластно. В самом деле, порядочность не была бы чем-то похвальным, если бы она возникала от природы или доставалась в удел от бога. Добродетель должна быть чем-то добровольным, поскольку она возникает в силу некоего горячего, благородного и упорного устремления. А раз добродетель добровольна, значит, порочность невольна. Действительно, кто добровольно выберет величайшее из зол для достойнейшего и драгоценнейшего в себе? Когда кто-то устремляется к злу, исходно это устремление к злу не как к злу, но как к благу; и когда кто-то обращается к злу, с тем чтобы приобрести с помощью незначительного зла превосходящее его благо, он находится в совершенном заблуждении, но опять-таки совершает зло невольно, поскольку невозможно, чтобы кто-то устремлялся к злу, желая себе зла, а не в надежде на благо или не из страха перед большим злом.
Все несправедливые дела злого человека также оказываются невольными, потому что если несправедливость невольна, то совершение несправедливости должно быть невольным тем в большей степени, что несправедливое действие является большим злом, чем несправедливость, которая не проявляет себя. Но хотя несправедливые поступки и невольны, тех, кто их совершает, следует наказывать, причем неодинаково, поскольку неодинаков причиняемый ими вред; а сама невольность объясняется либо незнанием, либо аффектом, от чего можно избавить вразумлением, воспитанием, образованием и заботой.
Несправедливость – такое зло, что скорее следует избегать самому совершать несправедливые поступки, чем подвергаться несправедливости[54]: первое присуще порочному человеку, а второе – всего лишь слабому. Конечно, постыдно и то и другое, но совершать несправедливое настолько же хуже, насколько и позорнее; и преступнику лучше быть наказанным, как больному лучше доверить свое тело искусству врача, поскольку всякое наказание как раз и есть некое врачевание заблудшей души.
XXXII
Поскольку большинство добродетелей так или иначе связаны с аффектами, следует определить, что есть аффект. Аффект есть неразумное движение души, все равно к злу или к благу. Движение называется неразумным, потому что аффекты не суть ни суждения, ни мнения, но движения неразумных частей души: оно возникает в чувствующей части души и есть наша непроизвольная деятельность. Аффекты часто возникают в нас против воли и вызывают противодействие. Иной раз, даже зная, что с нами не происходит ничего печального, радостного или страшного, мы все же находимся под воздействием происходящего; этого мы не испытывали бы, если бы аффекты совпадали с суждениями, поскольку суждение мы можем отвергнуть, поняв относительно его, что так должно или не должно. Аффекты вызывает либо хорошее, либо дурное, поскольку при появлении безразличных предметов аффекта не возникает: все аффекты связаны с появлением хорошего либо дурного. Когда мы замечаем, что нам хорошо сейчас, мы радуемся, а к грядущему благу стремимся; когда же мы замечаем, что нам плохо, мы огорчаемся и боимся грядущего зла.



