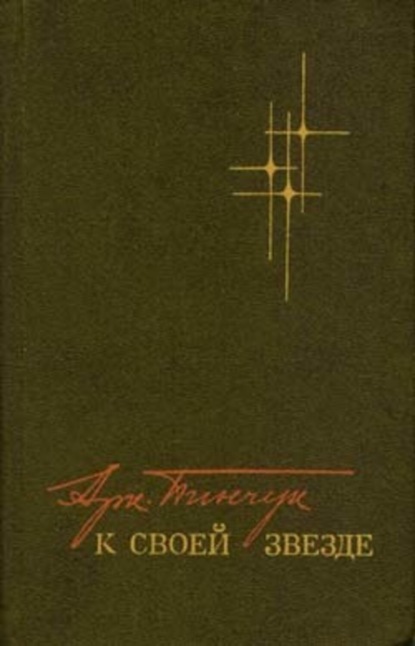 Полная версия
Полная версияК своей звезде
– Видимо, поначалу будут какие-то бытовые неудобства, – сказал Ефимов и вдруг остановился, повернул Нину к себе. – У тебя валенки есть?
– Нет.
– А шуба?
– Есть теплое пальто и сапожки меховые.
Он тихо усмехнулся.
– Ты это чему?
– Мне никогда ни о ком не приходилось заботиться. Видимо, это чертовски приятно.
– Ох, Федюшкин, Федюшкин, – вздохнула Нина. – Неужели все это будет?
– Будет, Нина, – сказал Ефимов твердо. – Еще десять лет назад я знал, что дождусь этого часа. И я его дождусь.
Они уже вышли на шоссе. Промчавшиеся с полным светом «Жигули» на мгновение выхватили из сумрака лицо Ефимова, глубокую складку у переносицы между широко поставленными глазами и плотно сжатые губы.
В ту ночь, перед сном, Нина с Юлей долго шептались. Увлеклись воспоминаниями о школьных временах. Нина радостно перебирала в памяти все связанное с Федором, рассказала о годах студенчества, о Ленке. Во втором часу Нина завела будильник и расслабленно вытянулась под легким одеялом. Как и Юля, она заснула не сразу, но они уже не возобновляли разговора, это грозило затянуться на всю ночь.
Сон к ней пришел похожий на летний ленинградский дождь – быстрый, освежающий, легкий. Она проснулась отдохнувшая, полная энергии и желания действовать. Чтобы будильник не всполошил дом, Нина перевела стрелку звонка на девять часов. Тихо оделась, написала на клочке бумаги большими буквами «спа-си-бо» и тихонько подошла к двери. Юля спала на своей раскладушке глубоко и безмятежно.
Ефимов ее ждал на одной из скамеечек детской площадки. Нине показалось, что он вообще никуда не уходил от дома.
– Федюшкин, ты всю ночь здесь просидел?
– Ничего, вот провожу тебя и отосплюсь. Сегодня выходной. Да и какой к черту сон, если рядом ты?
Прощалась Нина, убежденная в неминуемой скорой встрече. Она и предполагать не могла, какое испытание приготовила ей жизнь.
На вокзале в Ленинграде она столкнулась нос к носу со своей соседкой. Та посмотрела на Нину сочувственно и с испугом. И сердце у Нины похолодело и замерло: Ленка!
– Что с ней? – схватила она за плечи соседку. Мысли уже рванулись лавиной, диким табуном: «Вот, вот она, расплата тебе! Слишком много счастья! Не может так быть, это несправедливо! Кому-то крохи, а кому-то коробом! Жизнь без равновесия немыслима. Испила меда, глотай теперь горюшко горькое. Глотай, Ниночка, глотай…»
– Что с ней, говорите же?
– С кем? – еще больше испугалась соседка.
– Да с Ленкой, господи!
– Вы еще ничего не знаете?
– О боже мой! Да откуда же мне знать?
– У мужа вашего беда, – чуть ли не шепотом заговорила соседка. – А с Ленкой все хорошо. Ничего с ней. Погибла лаборантка у него. Пожар был в лаборатории, по его вине, говорят.
Нина старалась запомнить только одну фразу – «с Ленкой все хорошо», понять ее до конца, поверить. Остальное уже казалось не главным. Но уходящая тревога за дочь как бы освободила место для другой тревоги. Сразу всплыли слова о гибели лаборантки, о пожаре и о вине Олега.
И Нина вспомнила, как товарищи упрекали Олега за несовершенство установки, за тайное накопление и лаборатории гидролизного спирта, петролейного эфира, этилацетата. Нина была химиком и знала, как легко воспламеняются эти жидкости и какую таят в себе опасность. Но Олег отмахивался. Он спешил с докторской диссертацией и утверждал, что, если будет соблюдать всю казуистику параграфов, он никогда не дойдет до финиша.
«В конце концов, – рассуждал он, – результатами своего труда я заработал право на некоторую амплитуду неучитываемых движений…»
– Он пострадал? – К ней уже возвращалось самообладание.
– Не было его в лаборатории, экспериментировали студентки. – Соседка вдруг заторопилась. – На дачу спешу, там без продуктов мои сидят. Я же думала, вы знаете, потому и вернулись из командировки.
«Пусть и он так думает», – решила Нина и почти побежала к метро. Ей уже все казалось ясным, сердце билось ровно и уверенно, в плывущем из-под земли людском потоке она чувствовала себя значимой единицей, а не какой-то частичкой безликой массы, и все же тревога в ней безотчетно нарастала.
Нина была уверена, что после детского садика, где она увидит свою Ленку в полном здравии, она обязательно успокоится. Однако предчувствие беды преследовало ее.
Ей показалось, что и ключ вошел в скважину бесшумно, и дверь распахнулась, не издав ни единого звука, но сидевший в комнате офицер в милицейской форме сразу поднял на нее строгие глаза и только едва заметно кивнул в ответ на ее «здравствуйте».
Повернулся сидевший к ней спиной и Олег. Поразили Нину его глаза – измученные, виноватые, полные одиночества и растерянности. И Нина поняла, какое предчувствие вползало ей в душу: оставить Олега в такую минуту одного будет выше ее сил. Все обещания, данные себе и Ефимову, рассыпались как карточный домик.
Поняв это, Нина, не отводя взгляда от Олега, попыталась нащупать на стене какую-нибудь опору, ноги вдруг обмякли и не хотели держать ее. Но опоры не нашлось, и она сползла на пол с виноватой и беспомощной улыбкой на лице.
12
Когда истребитель вздрогнул и захлебнулся и его напряженное тело словно обмякло, Новиков не испытал страха, почувствовал только невероятную досаду. Он вслух чертыхнулся и уже совсем неожиданно для себя услышал собственный голос.
Потерявший тягу самолет еще несколько мгновений в полной тишине скользил, как привидение, над землей, используя силу инерции. И в эти мгновения летчику необходимо было прежде всего осмыслить случившееся. Затем оценить обстановку и принять решение. Но мозг сверлили нелепые вопросы: «Почему сегодня? Почему именно сегодня случилось это? Почему со мной?..»
Дефицит времени – это ощущение висело над Новиковым постоянно с того дня, как полк вернулся с переучивания. В его личных планах, так скрупулезно рассчитанных по минутам, все чаще и чаще оставались окошки, не заполненные словом «выполнено». Львиную долю часов и минут забирали полеты и все, что было впрямую связано с ними. То, что удавалось сделать в оставшееся время, тоже служило полетам, с той лишь разницей, что относилось к ним несколько опосредствованно.
Новиков видел: летчики после каждого вылета рвутся к разговору. Новый самолет на каждом очередном этапе его освоения задавал вопросы, требующие сиюминутного и четкого осмысления. Новые технические возможности истребителя-бомбардировщика открывали простор для фантазии, будоражили воображение. И если до переучивания в курилках, как правило, шел легкий бытовой разговор, теперь летчики возбужденно перелопачивали каждый элемент только что законченного вылета. Испытанные в воздухе ощущения требовали выхода, пережитые впечатления нуждались и оценках. Точность критериев решала многое. Верный навык необходимо навсегда зафиксировать, ошибочный – переосмыслить.
Участие в таких разговорах для Новикова было главным звеном его политической работы.
Лейтенант Колесников опять грубо посадил самолет. В чем причина – понять не может.
– Ну, давай разберем всю посадку по секундам…
Колесников медленно вспоминает все элементы своих действий, его правая рука повторяет каждое движение ручкой.
– Ближний привод… Бетонка почти рядом… Сейчас колеса коснутся земли.
Новиков замечает, как Колесников вытягивает шею, чтобы лучше «увидеть» полосу, его правая рука делает едва заметное движение к груди.
– Пойдем-ка к самолету.
Колесников садится в кабину, Новиков пристраивается на красной металлической стремянке.
– Ближний привод, – вновь повторяет лейтенант, вспоминая каждое движение. Его лицо напрягается, брови сходятся к переносице. – Сейчас колеса коснутся бетонки.
Он вытягивается на сиденье, чтобы улучшить обзор, и рука снова делает едва уловимое движение к груди.
– Все ясно! – Новиков доволен. – Сидишь, дорогой мой, низко. Как только начинаешь вытягивать шею, ручку берешь на себя. А машинка-то чувствительная. Чуть ручку тронул – она взмывает, потом плюхается.
Сиденье подняли, обзор улучшился. Очередную посадку Колесников произвел как по нотам.
Вчера на разборе полетов Волков лаконично, как всегда, но с плохо скрытым гневом сказал:
– Некоторые наши молодые летают, как на параде. Даже не замечают, что их перехватывают. Мало, сами мишенью служат, так и другим упрощают учебу.
Симптом опасный. Даже в период освоения нового самолета. Вдвойне опасный – в предложенных обстоятельствах. Освоить новый самолет – значит научиться не только его пилотировать, но и вести бой. Именно в этом суть отпущенного полку времени перед тем, как перебазировать его на Север.
И в маленькой, открытой всем ветрам курилке то и дело вспыхивает возбужденный разговор.
– Конечно, – говорит Новиков, ни к кому конкретно не обращаясь, – любая задача имеет несколько решений. Мы знаем примерно, где цель, знаем курс, время, знаем, что ее надо уничтожить. Один идет к цели наверняка, издали присматривается, не торопясь готовится к удару. И наносит его без промаха. Другой все расчеты делает заранее, в уме, подкрадывается к цели как лиса. И прежде чем ударить, заложит какой-нибудь отвлекающий маневр…
Летчики слушают, пытаясь угадать, о ком это замполит речь ведет. А Новиков нарочно тумана напускает.
– Разумеется, – говорит он, – и тот и другой правы. Для оценки точность первого очень хороша. Лихость второго окупится сторицей в настоящем бою, хотя сегодня он рискует промахнуться.
Горелову запланирован не выполненный несколько дней назад полет в облаках. А в небе, по закону подлости, лишь одинокие белые островки. Хоть сетями их вылавливай и тащи в зону. Руслан держится спокойно, но, естественно, понимает: зачет по такому полету если и будет выставлен, не принесет радости ни ему, ни командиру. Переиграть бы этот вылет, подобрать другую задачу, а где взять время, чтобы уговорить Волкова внести поправки в плановую таблицу? Нет его, времени, и все тут.
И все-таки Новиков находит какой-то резерв, чтобы почти на ходу кинуть командиру:
– Сами упрощаем условия, а потом возмущаемся.
– А где я возьму ему облака?
– Не валяй дурака, Иван Дмитриевич. Ты знаешь, как в таких случаях поступают.
Волков машет рукой – мол, черт с тобой, разрешаю. Теперь надо с комэском договориться, с руководителем полетов. А еще с Назаровым разговор на очереди. Человек возглавляет партийную организацию эскадрильи, но кроме своих полетов ничего знать на аэродроме не желает.
– Моя партийная работа – летать! Это еще Чкалов сказал.
И летает. Четко, красиво, ювелирно. Новиков не помнит случая, чтобы Назаров совершил хоть какую-нибудь микроскопическую ошибочку. Ну почему бы не рассказать о своих секретах молодым?
– Все, что я могу рассказать, – написано в наставлении по производству полетов. Пусть читают и выполняют.
Он и на собрании такой. Объявит повестку и молчок. Будто лишнее слово сказать – принять дополнительную нагрузку. Даже выступающих объявляет только по фамилии.
– Ведь положено говорить: слово предоставляется коммунисту такому-то, – заметил ему как-то Новиков.
– И без этого слов хватает, – буркнул в ответ Назаров.
Однажды он закрыл собрание сразу после доклада. Помолчал минуты три и сказал: «Желающих выступить нет, собрание закрыто». Все только переглянулись. Зато после этого случая стали записываться для выступлений еще до начала собрания.
Новиков чувствует – Назарова можно разговорить. Надо только струну отыскать, за которую тронуть нужно. А уж если зазвучит она, то ее чистый голос услышат многие. Разгадать бы только, что это за струна.
Встреча с Ефимовым напомнила Новикову о срочности еще одного дела. Он прикинул: вторая смена начнет полеты в пятнадцать часов. Теперь около тринадцати. За два часа можно черт знает что сделать. Предупредил Волкова и немедленно уехал в город.
Начальник ГАИ майор милиции Середин встретил Новикова озабоченной улыбкой, пригласил сесть. В его маленьком кабинете особенно бросалась в глаза огромная, во всю стену, карта города. Обсыпанная разноцветными точками, она внушала какое-то не поддающееся объяснению уважение.
– Слушаю вас, Сергей Петрович, – по-прежнему озабоченно сказал Середин.
– Что невесел, молодец? – улыбнулся Новиков.
– Для веселия планета наша мало оборудована, – ответил стихами майор. И добавил: – Набрали в ГАИ девчушек, а теперь вот плачем. Повыходили паршивки замуж, взяли декретные отпуска, а на постах шаром покати. Хоть сам становись. Пять минут назад грузовик зацепил райкомовскую «Волгу». Как раз на том перекрестке, где регулировщица в декрете.
– Не вовремя я, кажется, к вам, Аркадий Васильевич.
– Люди помирают только не вовремя. А если встречаются – всегда вовремя.
Новиков напомнил о конфликте старшего сержанта Дерюгина с офицерами полка. Середин нажал клавишу селектора.
– Дерюгина немедленно ко мне.
– Выехал на лесозавод, – ответил трескучий голос.
– Верните.
Новиков посмотрел на часы.
– Минут через десять будет, – успокоил его начальник ГАИ и спросил: – Уверены, что ваши ребята не виноваты?
– Большов, водитель, мог кое-что сгладить, приукрасить. В честности Ефимова не сомневаюсь.
– Дерюгин как раз наоборот говорит: «Водителя прощу, а на пассажира в суд подам». – Середин помолчал, прокашлялся. – Инспектор, главное, дисциплинированный, дело знает. А вот чего-то парню не дано. И как это ему скажешь? Не будь слишком строгим? Не обращай внимания, если тебя оскорбляют? Без строгости в нашем деле труба. Есть такие наглецы за рулем – диву даешься…
Новиков знал, что сказать в ГАИ, когда выехал за порота аэродрома. Нагрузка, которая сегодня легла на плечи летчиков, если о ней рассказать поярче, не оставит никого равнодушным, даже милицию. Но слушая Середина, видя его озабоченные глаза, Новиков усомнился в неотразимости своих аргументов. У них тут тоже волнений хватает и нагрузка не легче, чем у летчиков.
– Отпустите его со мной в полк, Аркадий Васильевич, – сказал Новиков. – Пусть посмотрит на нашу работу, а Ефимов потом с ним пару часов на посту постоит. Авось найдут взаимопонимание, а?
– Я и сам бы не прочь поглядеть на новые самолеты.
– Давайте встретимся. Хоть сегодня.
– Серьезно?
– К пятнадцати приезжайте.
Середин полистал какой-то толстый журнал, что-то посчитал, выписал фамилии.
– Вот, двенадцать человек набирается, – протянул он листок Новикову.
В дверь постучали.
– Товарищ майор, старший сержант Дерюгин по вашему вызову.
– Садись, – показал на стул начальник ГАИ. – Вот Сергей Петрович Новиков хочет пригласить тебя в полк на полеты.
– А зачем это мне? – удивился инспектор.
– А просто так. Для интереса.
Дерюгин пожал плечами. Майор насупился и строго сказал:
– Чтобы не думал, что только у тебя работа. Другие тоже не бездельники. В четырнадцать тридцать быть в автобусе у подъезда ГАИ. Понял? А теперь свободен.
Старший сержант вышел из кабинета озадаченным.
– Идея! – повеселел Середин. – Люди есть люди. И жить им надо, как людям.
Они расстались повеселевшие. Не оттого, что удалось договориться. Оттого, что поняли друг друга, оттого, что захотели понять.
Новиков с радостью обнаружил, что у него осталось почти сорок минут времени, и вместо привычного «На аэродром!» сказал водителю неожиданное и для него, и для себя: «Домой!» Он знал – у Алины сегодня уроки с шестнадцати часов и она искренне обрадуется его неожиданному появлению. Тем более что расстались они утром, сказав совсем не те слова, которые хотелось сказать.
Новиков искал на ее столе чистую бумагу, хотел прихватить с собой несколько листочков в надежде, что появится «окошко» и он сумеет, хотя бы вчерне, набросать давно заказанную ему статью в окружную газету. Включил настольную лампу и увидел фирменный конверт из Академии педагогических наук. В отпечатанном на машинке письме какой-то академик скрупулезно разбирал предложенную Алиной методику преподавания математики в старших классах средней школы. В письме было много специальной терминологии, разговор шел профессиональный, однако Новиков с гордостью почувствовал – академик всерьез принимает работу его жены, дает ей высокую оценку и с нетерпением ждет окончательного результата.
Новиков еще раз перечитал письмо, уже с чувством боли. Стало очень досадно. Женщину, которую он любит, которой желает успеха больше чем себе, сам лишает возможности познать счастье исполненного долга. В эту минуту он впервые ощутил всю жесткость непререкаемости армейских законов, ощутил суть трудности своей профессии и высшую справедливость этой трудности, этой жесткости.
Ну в самом деле, почему бы ему не рассказать в политотделе об этом письме академика, о школьном эксперименте Алины, почему бы не попросить оставить его здесь, хотя бы на пару лет? Ведь человек тоже государственное дело делает, – детишек учит. Должны понять!
«И поймут, и оставят, – сказал он себе, – только просить об этом нельзя. Немыслимо! Попросил – и нет комиссара…».
– Прочитал? – Алина стояла у приоткрытой двери, застегивая халат.
– Прочитал.
– Что мне ответить почтенному академику?
– Напиши ему вот что, – он обнял жену, потерся подбородком о ее волосы, – напиши: любит тебя один ас, любит так, что жизни своей без тебя не мыслит. И академик все поймет. Они знаешь какие ушлые…
Алина не ответила. Она высвободилась из его объятий и ушла в ванную комнату. У него уже не было времени объясняться.
– Вечером я тебе продиктую исчерпывающий ответ, – сказал он в дверь. – Во всяком случае, академик будет доволен.
И сейчас, подъезжая к дому, он не думал о затягивающемся узле семейных противоречий, он представлял, как Алина удивленно обрадуется его появлению, как бросится к нему в объятия и им обоим будет хорошо и покойно до тех пор, пока не вспомнят об этом злосчастном переезде.
Ну, что огород городить? Поживут два-три года врозь. Если смогут, конечно.
Алина сидела над стопкой школьных тетрадей, накинув на плечи его кожаную куртку. Услышав шум открывающейся двери, она, не повернув головы, сказала:
– Что-нибудь забыл?
– Тебя поцеловать, – сказал Новиков.
Алина ойкнула и обессиленно опустила руки.
– Думала, Санька. Что случилось? Реки вспять пошли, земля в обратную сторону завертелась? Или тебя сняли с должности?
– Нестерпимо захотелось повидать тебя. – Он пристально осмотрел ее всю. – Что это ты в мою куртку нарядилась?
Алина смутилась.
– Тобою пахнет, будто рядом.
Он засмеялся.
– Унты надень, будет стопроцентное впечатление.
– А ты не смейся, пожалуйста.
– Извини. – Он прижал ее к груди, и она податливо, без сопротивления приникла к нему. Доверчиво и преданно, как в далекие юношеские годы.
– Сегодня в городском Доме культуры выступают ленинградские оперные артисты, – сказала Алина и мечтательно вздохнула: – Вот бы послушать.
«Подумаешь, событие», – хотел он тут же ответить, но чувство вины перед любимым человеком остановило его. Чувство, которое накапливалось годами и вот сейчас подступило к сердцу волной трогательной жалости. Действительно, скольких больших и маленьких радостей лишил он ее хотя бы за последний год? Только обещал: поедем в Ленинград, походим по театрам, вот скоро отпуск, тогда уж мы развернемся, вот в следующее воскресенье пересмотрим все фильмы в городе. Нет, черт побери, у всякого терпения есть предел.
– Я согласен, – сказал он, прикинув в уме свои возможности.
– Ты пойдешь со мной или только поддерживаешь идею? – Она запрокинула голову и пронзительно-требовательно посмотрела ему в глаза.
– Даю тебе честное, – он хотел сказать «пионерское», – комиссарское слово – мы пойдем вместе слушать твоих заезжих звезд. Чтобы к девятнадцати ноль-ноль была в полном параде. И с аксельбантом.
Алина осталась строгой.
– Попробую поверить еще раз.
Новиков взял ее лицо в обе руки, посмотрел в глаза. На самом их донышке таяло недоверие.
– Ну… улыбнись, Алина свет Васильевна. Улыбнись. Тебе так идет улыбка.
– Не могу, Сережа. Хочу и не могу.
Он взял ее на руки и удивился ее легкости. Санька и тот, пожалуй, в весе обогнал мать. И в сердце с новой силой всколыхнулась нежность. Нет, без нее он пропадет на Севере, не сможет. Тоска сожрет его. Или ехать вместе, или не ехать вовсе.
– Я все понимаю, – говорила она, уткнувшись носом в его шею, – со всеми доводами согласна, а на душе камень. Будто в дураках остаюсь.
– Со мною остаешься. С Санькой. Разве этого мало для счастья?
– Если бы с тобою, – она снова вздохнула и крепче обняла его шею. – Одна буду обедать, одна в отпуск ездить, одна засыпать. Знаю, слава богу, твою службу. А с ними мне хоть думать об этом некогда. Знаешь, как они любят меня?
– Не будь жадной, лапушка. Ты знаешь, крепче и надежнее всех тебя любит один летчик. Между прочим, ас. – Он ходил по комнате и раскачивал ее на руках, как раскачивают ребенка, когда хотят, чтобы он скорее заснул. – Ты знаешь, небо для этого летчика – что жизнь. А для тебя ему и жизни не жалко.
– Знаю… Только ведь все равно обидно бросать начатое. Обидно до слез. Вспомню – и больно.
– Вон жена Волкова. Без всяких комплексов. Сказал муж «надо», она только и спросила, когда собирать вещи.
– Дом, семья – все ее заботы.
– Эта домохозяйка окончила Бауманское училище. Ее работы по дизайну отмечены медалями ВДНХ. Ей предлагали аспирантуру, а она…
– Сереженька… Дело в характере, в субъективном отношении. Может быть, ее такое положение больше устраивает, чем аспирантура, чем… Стать тенью мужа – разве в этом счастье?
– Если тенью – нет… У Волкова на плечах такой груз, что десятерым впору нести.
– А у тебя?
– У меня поменьше. Но не будь рядом тебя, давно бы ноги подкосились. Вы, наши жены, служите, как и мы. На самом ответственном посту. На защите Родины. И медали, которые нам дают за безупречную службу, принадлежат вам в равной степени. А ты говоришь – тенью.
– Отпусти меня, ты же устал, – наконец улыбнулась Алина. – Давай я тебя блинами накормлю.
– Ты прекрасно знаешь, что я могу тебя всю жизнь носить на руках.
– Была в Ленинграде, – вспомнила она, – заходила в институт к Ольге Алексеевне, жене Чижа. Ты бы видел, сколько в этой женщине величия, сколько достоинства. Личность!
– И тебе показалось: вот счастливый человек!
– Думаешь, нет?
– Спросила бы ее… – Он посадил Алину на диван, сам лег, положив ей голову на колени. – Счастье, когда я могу вот так полежать.
– Как ребенок.
Новиков засмеялся. Посмотрел украдкой на часы.
– Мы только думаем, что с годами становимся мудрее и опытнее. Ничего подобного. Каждый возраст требует своего опыта.
– А любовь?
– Любовь, лапушка, приходит и уходит по своим законам. Если двое не могут друг без друга – это начало. А если могут – то все, близок конец. Так что самый счастливый человек – это ты. И я, само собой.
Он встал, поправил галстук.
– Все. Пора. Целуй аса.
– Уже? Пяти минут не побыл.
– Не хмурься, Алина свет Васильевна. Жизнь прекрасна, уверяю тебя. Остальное – дым.
Алина взяла его под руку, склонила голову на плечо, проводила до порога.
– Я знаю, что счастливее меня нет на свете женщины, – сказала она. – Но мне все равно хочется плакать. Они мне не простят предательства.
– Мы живем в такое время, лапушка, когда все желания исполняются. – Он уже открыл дверь. – Есть желание поплакать? Поплачь. Но лучше – улыбнись. – Он сразу стал серьезным. – У меня полет, и мне нужна твоя улыбка.
– Иди, – улыбнулась Алина. – С тобой невозможно говорить о серьезных вещах. Иди.
– Не забудь нарядиться к девятнадцати ноль-ноль…
Ворота на сигнал водителя лишь приоткрылись и, дернувшись, замерли.
– Автоматика – на грани фантастики, – сказал Новиков выбежавшему навстречу солдату и выпрыгнул из машины.
– Никак нет, – возразил тот. – Тут к вам приехала какая-то гражданка. Сидит в комнате для свиданий.
– Ко мне лично?
– Говорит, ей нужен замполит.
Новиков быстренько перебрал в памяти возможных посетительниц и, решив, что наверняка мать какого-нибудь солдата, попросил пригласить ее на свежий воздух, под липу. Здесь стояла удобная для бесед скамья.
Женщина представилась Евдокией Андреевной, крепко пожала руку Новикова, осторожно села на скамью. Ей было около пятидесяти.
– Я вас слушаю, Евдокия Андреевна, – сказал Новиков после затянувшегося молчания.
Женщина вздохнула, облизала пересохшие губы.
– Федька Ефимов служит у вас. Наш, Озерный. С дочкой моей женихался, когда учились в школе. Кто же в их возрасте не влюбляется? Ну, потом Ниночка вышла замуж. Только подумайте: такой человек ей попался – в сказке не встретишь. Любит-то ее как, в Леночке души не чает. Не пьет, не гуляет. А умница какой! И пошутит, и серьезно поговорит. Кандидат наук, доктором скоро будет. Нинке моей все подружки завидуют. Да и то – живет как у бога за пазухой.

