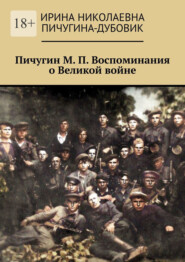скачать книгу бесплатно
Мало танков, совершенное отсутствие авиации.
Мало даже автоматов, минометов и артиллерии.
Это сильно бросалось в глаза, когда мимо нашего госпиталя проходили в бой наши войска.
…Ранним морозным утром мы высаживались на станции Торжок. Густой туман от сильного мороза окутывает станцию, и город это спасает от очередного налёта вражеской авиации.
Мы едем городом. Печальное зрелище представляется нашим глазам. Удары вражеской авиации сильно разрушили городок. Три дня шестьдесят немецких самолетов безнаказанно громили город с воздуха. А нашей авиации совсем не было видно.
Немецкие летчики издевались. Вслед за фугасными, бомбами они бросали пустые бочки, обломки рельс, пустые ведра, пивные бутылки и т. д.
Дома сгорели, стояли разрушенные, обгоревшие тополя, воздев кверху чёрные сучья, как бы говорили: «Смотрите, что сделали с нами враги».
Древний город Торжок, в нем еще самозванец Димитрий венчался с гордой полячкой Мариной Мнишек. А городок, видать, был хорош: маленький, плотно застроенный, прямые широкие улицы.
Я вспомнил кинофильм «Парень из Торжка». Нигде, я думаю, не пели до войны с таким чувством знаменитую песню «Любимый город», как в самом Торжке. Белые чистенькие домики утопали в зелени садов, чистые прямые улицы. На две части город разделяет река.
А теперь воздушные налеты немцев как гроза накрыли Торжок, дома лежали в руинах, сады догорали.
Молча проходили части армии через сожженный и разрушенный город, пустынный, как кладбище, неся к фронту закипевшую злобу ненависти к врагу, шли расплатиться за все.
Переехав через реку по уцелевшему каким-то чудом мосту, мы остановились за городом у пустой городской больницы. Больница, по такому небольшому городу, оказалась более чем прилична, построена в густом саженном лесу, благодаря этому уцелела полностью, только стекла в рамах были выбиты от сотрясений и воздушной волны.
В саду возле больницы мы разгрузили все имущество нашего госпиталя. Там ещё вместе с нами расположился и другой госпиталь. Личный состав двух госпиталей был устроен недалеко от больницы в маленьких деревянных домиках на уцелевшей от бомбежек улице.
И тут же мы получили приказ от начальника санитарного отдела армии военного врача третьего ранга Рязаного:
«Подготовиться к приему раненых».
Фронт находился от Торжка в двадцати пяти километрах – началось наступление наших войск. Ночью пылающие села и города показывали, что противник отступает. Особенно ярко горело местечко Селижарово, где были большие цементные заводы. Иногда на линии фронта раздавались глухие и сильные взрывы, это немцы оставляли память о себе.
Городскую больницу мы быстро привели в порядок: очистили от мусора комнаты, починили рамы, наделали топчанов и приготовились к приему раненых. Наш восемьсот пятьдесят восьмой госпиталь был инфекционный, то есть, по борьбе с различными заразными болезнями, и у нас не было ни одного хирурга.
Наши инфекционисты, врачи и сестры, очень плохо умели делать перевязки и, тем не менее, нас заставили принимать раненых. Хорошо, что вместе с нами расположился хирургический госпиталь, и мы распределили обязанности. Наш госпиталь будет делать предварительную обработку раненых, обмывать, дезинфицировать, подготовить завтрак, обед и так далее, а хирургический будет производить операции и эвакуировать раненых в тыловые госпитали.
…Морозы становились всё сильнее и сильнее, ночи стояли светлые, лунные. И почти каждую ночь прилетал немецкий самолет и бомбил единственный оставшийся мост в городе через реку. Удивительно, но ни разу ни одна бомба не угодила на мост. Местность вокруг моста была буквально изрыта воронками. Самолет иногда появлялся и днем, спокойно делал свое дело, и никто ему не мешал, так как зенитной артиллерии не было, авиации тоже.
Приближался новый 1942 год, близкий фронт гудел, как надвигающаяся гроза.
Морозы становились все злее, как говорят, «с дымом». И вот в одну из таких морозных ночей к нам прибыла первая партия раненых, что-то около двенадцати автомашин. Каждая машина была временно приспособлена для перевозки раненых, то есть, на кузовах машин были установлены брезентовые пологи.
Легкораненые ехали сидя, человек до двадцати на одной машине, а тяжелораненые лежали на походных носилках, поставленных в один ряд на пол кузова машины. В таком случае на каждой машине помещали не более четырех носилок. Раненых к нам везли прямо из медсанбатов фронта, где им оказывалась первая помощь.
После потери крови раненые очень плохо переносили мороз. Многие лязгали зубами от холода и просили скорее взять их из машины. Тяжелораненые глухо стонали, слышались иногда вскрики, но, в общем, все себя держали себя геройски и терпеливо дожидались своей очереди, когда их снимут с борта.
Санитары и санитарки нашего госпиталя трудились самозабвенно, стараясь всячески помочь раненым. Быстро все машины были разгружены, а раненые перенесены в теплые помещения, где их обмывали, поили горячим чаем, поправляли сбившиеся за дорогу перевязки. Когда примерно через час я зашел в помещение, где располагались раненые, я увидел такую картину: все были умыты и прибраны, санитарки поили чаем тех, кто не мог встать. Многие аппетитно курили, на лицах раненых сияло довольство тепла и уюта, у каждого была во взгляде надежда на жизнь. А только два-три часа тому назад эти люди были в бою, часами лежали где-либо в снегу раненые, истекая кровью, теряя надежду сохранить жизнь. Но теперь они далеко от фронта, сытые и в тепле.
Раненый командир роты, молодой пехотный лейтенант, рассказывает лежащему рядом командиру батареи, артиллеристу с раздробленной ногой, как его батарея помогла им, пехоте, в бою.
«Знаешь, Саша, – говорил комроты, – не знаю, что было бы, если бы ты не помог нам артиллерийским огнем. Раз восемь наш батальон поднимался в атаку на эту деревню и каждый раз мы отступали с огромными потерями. Немцы превратили ряд домов в сильно укрепленные дзоты и беспощадно косили наши цепи пулеметным и минометным огнем. Уже стемнело, а мы всё ещё не могли взять деревню. Вдруг мне сообщили, что из штаба армии прибыли сам начальник штаба и комиссар полка, которые поведут полк в атаку на деревню. Уже было темно, когда раздалась команда и весь полк во главе с комиссаром полка снова ринулись в атаку.
Огонь немцев был ужасен, но меткой стрельбы с темнотой стало меньше. Моя рота уже ворвалась в деревню, когда меня ранило. Кровь так и хлещет, а перевязать нет возможности. Оказавшийся против меня немецкий дзот пулеметным огнем не дает подняться ни мне, ни моим бойцам… И вдруг, я вижу, как ты, Саша, катишь с бойцами свою пушку на передний край. Еще минута и прямой наводкой немецкому дзоту глотка была заткнута!»
Командир батареи слабо улыбнулся:
«Коля! Я рад, что помог тебе в эту трудную минуту. Прямой наводкой бить хорошо, но из всего орудийного расчета в живых остался, кажется, только я один. А комиссар полка, который водил полк в атаку – вон лежит на носилках с оторванной ногой и прострелянной грудью. Начальник штаба убит, мы несем ужасные потери, беря штурмом каждую деревушку…»
…Впоследствии я проезжал по следам нашего наступления и, действительно, каждое подобное наступление обходилось очень дорого. Немцы в таких деревнях крайние дома превращали в сильно укрепленные дзоты и оставляли в них только пулеметные расчеты и эти пулеметные расчеты, всего 15—20 человек состава иногда истребляли целые наши батальоны!
Так мы расплачивались за глупую линейную тактику.
В марте 1942 года мне пришлось быть на совещании госпиталей ЗУ армии. На этом совещании я узнал, что мы пропустили раненых через госпитали за два – три месяца боёв больше всего первоначального численного состава нашей ЗУ армии, при прибытии её на фронт! Но при этом освободили от противника лишь незначительную территорию!
Это была бесцельная и бездумная трата живой силы нашей армии!
Итак, наш госпиталь занимался только подготовкой раненых для хирургического госпиталя, который расположился тут же в саду. В одно из моих дежурств стояла сильно морозная погода.
Температура на улице доходила до минус сорока градусов, госпиталь был уже заполнен ранеными, но прибывали все новые и новые партии… И скоро весь двор больницы был заставлен машинами с ранеными. Мороз давит, раненые стонут, многие почти замерзают, молят поместить их хотя бы в коридоре или еще где-либо, лишь бы не замерзнуть во дворе. Они вырвались из когтей смерти там, на поле боя, и конечно, умирать на дворе госпиталя…
Вбегаю в здание госпиталя, смотрю, палаты заполнены так, что свободно можно переставить койки и разместить еще столько же раненых. Коридоры тоже совершенно свободные! Кричу на санитаров, сестер и прочих, чтобы немедленно сносили раненых со двора в госпиталь, а мне отвечают, что дежурный врач больше не разрешает принимать раненых.
Сказать, что это меня сильно удивило, не сказать ничего. Я кинулся в комнату дежурного врача. За столом сидел седой человек и спокойно писал что-то в толстый журнал.
«Знаете ли вы, – закричал я, – что во дворе в машинах в сорокаградусном морозе замерзают раненые!»
«Что же я могу поделать, – ответил врач, – я и так принял в госпиталь больше, чем положено по плану и больше принять не могу ни одного человека.»
«Дурак! – не вытерпев, закричал я, – да разве на фронте в боях ранят и убивают ежедневно по плану? Да знаете ли вы, что пока мы с вами разговариваем, здесь, у самих стен госпиталя, люди умирают из-за вашей тупости и преступного равнодушия!»
Врач вскочил на ноги и с перекошенным от злобы лицом закричал:
«Я не позволю оскорблять меня! Я – дежурный врач, и сам отвечаю за все! И не ваше дело вмешиваться в мои распоряжения! Я на вас буду жаловаться начальнику санитарного отдела армии».
Потеряв всякое самообладание, я схватил этого идиота за руки, вытащил из-за стола, ударил рукояткой пистолета по столу и крикнул:
«Если через десять минут все раненые не будут внесены в госпиталь, я застрелю вас как собаку!»
И с силою швырнул его в коридор госпиталя. Сам сел за его стол, положив перед собой часы и пистолет.
Прошло десять минут, врач не показывался.
Я вышел в коридор. Там уже стояли носилки с ранеными, в палатах койки были сдвинуты и приняты новые раненые. Я вышел во двор, ни одной машины с ранеными во дворе не было. В течение ночи прибывали еще две партии раненых, и все были приняты. Вместо положенных трехсот пятидесяти коек, мы приняты тысячу четыреста пятьдесят человек, нарушив всякие правила – таковы законы войны.
А на второй день вызвали меня к приехавшему начальнику санитарного отдела армии военврачу третьего ранга Рязанову. Встретил меня высокий, лет тридцати пяти мужчина, богатырского сложения, физически развит, красивое простое русское лицо. Перед ним лежал рапорт побежденного мной ночью врача.
«Читайте!» – жёстко сказал Рязанов.
Я прочитал.
«Ну как, товарищ батальонный комиссар?»
«В этом рапорте всё истинная правда, товарищ начальник санитарного отдела армии».
И надо сказать, что врач, действительно, ни одного слова не выдумал и не убавил.
«Я восхищен объективностью мошенника», – сказал я.
Рязанов долго и внимательно смотрел мне в лицо, потом, чуть улыбнувшись, сказал:
«Я понимаю обстоятельства, заставившие Вас поступить так, но… категорически запрещено так делать».
Впоследствии мы стали хорошими друзьями и с Рязановым, и с врачом, который прямо заявил мне, что он был совершенно дурак до стычки со мной, и что эта стычка заставила его смотреть на обстановку иными глазами.
Вот так-то.
Только личный опыт может быть критерием истины.
Глава 6. В деревне Дарьино. По пути наступления наших войск
20 декабря 1941 года ЗУ армия перешла в наступление на Ржевском направлении. Снега были в эту зиму ужасно глубокие.
Наступление вели без танков и авиации.
Противник отступал медленно, все же наши войска продвигались в день километров по 14—15. Моральное состояние нашей армии было прекрасным.
Героизм наших войск и ненависть к врагу крепли в ходе наступления. Бойцы видели теперь своими глазами врага в лицо, а не по газетам. Сожженные села, тысячи расстрелянных, повешенных оставлял враг на пути отступления. Проходя по местам вчерашних боев, я видел мстительную ярость наших бойцов, как правило, каждый убитый немец лежал с разбитой вдребезги головой. И если это не успевал сделать солдат, это делали женщины и подростки.
А немцы, отступая, жгли деревни. Ночью весь фронт казался кроваво-огненной лентой, из которой временами раздавались сильные взрывы. Столбы огня высоко поднимались к небу. Это немцы взрывали наши промышленные предприятия: цементные заводы в Селижарово и другие.
Впервые от местных жителей и бойцов мне пришлось услышать о немецких зверствах. Рассказывали, что одна женщина не могла снять сапоги с убитого немецкого офицера, тогда взяла топор и «оттяпала» мерзлые ноги. Принесла их в избу и в присутствии красноармейцев, которые зашли к ней погреться, забила ноги немца с сапогами в печку, оттаяла их и затем сняла с них сапоги. Эта её «бесчувственность» объяснялась ненавистью. Тем, что у неё немцы застрелили шестилетнего сына только за то, что его звали Владимир.
В другом доме немецкий офицер по-русски спросил пятилетнюю девочку:
«Где твой папа?»
«Летает…» (отец девочки был советским летчиком).
Фашистский выродок вынул пистолет и пристрелил девочку.
Много передавали потрясённые жители сведений и о других зверствах фашистов. На горьком своём опыте наш миролюбивый народ учился по-настоящему ненавидеть врагов, и враг почувствовал эту ненависть и ее грозную силу.
Но были среди народа и такие, которые сживались с немцами и изменяли Родине.
И ешё были такие, которые хотели оставаться «нейтральными». Пусть их всех, воюют, наше, мол, дело – «сторона». И «хата моя с краю, ничего не знаю».
Вот у такого «нейтрала» мне пришлось однажды стоять на квартире в деревне Дарьино Калининской области, где мы приступили к оборудованию полевого госпиталя.
Этому мужичку было лет шестьдесят. Семья их состояла из четырех человек: хозяин, жена, сноха, внучка. Сын его отступил вместе с Красной Армией, он был кандидат в члены ВКП (б). До войны сын служил в районе, и теперь его семья очень боялась немцев. Сам мужичок этот в Первую мировую войну служил денщиком у офицера.
Их, то есть денщиков, презрительно называли «холуями». Часто – за дело.
У меня была водка, и я иногда угощал старика, а он мне платил за это большой взаимностью: стлал мне постель, ходил за обедом, по нескольку раз за ночь он подходил ко мне и поправлял сбившееся одеяло. Такого любовного отношения к себе я в жизни не встречал ранее.
Деревня Дарьино только что недавно была освобождена от немцев, немцы из этой деревни были выбиты неожиданным ударом и не успели при отступлении сжечь ее.
Подвыпив однажды, мой старик «денщик» вступил со мной в откровенный разговор:
«Знаешь, комиссар, – начал он, – я тебе как Богу скажу всю правду, что я думал, как началась война. Ты хоть меня прямо в НКВД веди, а я всё скажу, что думал.»
«Что же ты думал?», – спросил я.
«Думал я, когда немцы заняли деревню, что все пропало. И советской власти конец, и России конец.»
«Ну, а теперь как думаешь?»
«Теперь думаю – немцам конец. Озлился наш народ до ужаса! Его теперь не удержать, до Берлина дойдут, и сами немцы говорят об этом. Когда наши стали наступать, у нас в дому жили четыре немца – поварами работали на солдатской кухне. Так вот, один из них, рыжий такой верзила, вбежал к нам в избу и кричит: «Лус озлился! Немец капут!».
«Я тебе прямо скажу, – болтал «мой холуй», – советскую власть я когда любил, а когда и нет. И немцев – когда боялся, а когда и нет. Думал иногда: «а не все ли равно за кем жить, может, еще и землю дадут в единоличное пользование при немцах. Хозяином буду, как и раньше». А по деревне болтали, что немцы привезут много товаров, магазины будут торговать ситцем, сукном, колбасами, ветчиной и прочим.
И вот – приехали немцы.
Сидим мы, значит, за обедом: я, жена, сноха и внучка. Хлеб на столе, два каравая.
Слышим, топают немцы на крыльце. Вошли в избу четверо, у двоих большие мешки в руках, ну, думаю, не иначе как колбасу носят раздавать, сахар и еще что-нибудь.
Встал я из-за стола, поклонился им, говорю: «Милости просим, господа, покушать нашего хлеба с нами». Один, высокий, черный такой немец – морда длинная лошадиная – а ручища…, я думаю он никогда не мыл их, до того грязные. Подошел этот верзила ко мне, хлопнул меня ручищей по плечу, оскалил лошадиные желтые зубы и говорит: «Гуд лус, гуд лус!», значит «хорошо, хорошо!», а потом провел ручищей по столу, и мои два каравая хлеба как корова языком слизнула со стола – стукнулись оба в мешок.
Я и рот разинул – вот так колбаса, ветчина, сахар – получил! Другой немец хлопает по плечу мою старуху и бормочет: «Матка, яйки! Герман зольдат, кушать надо!».
Встала моя старуха, подошла к шкафу у печки, достала корзину с яйцами – три десятка в ней было – и деликатно так, с улыбочкой, подает им четыре штуки. Мол, вот вам по штуке на брата, примите на здоровье. Этот, который с лошадиной мордой, опять заорал: «Гуд! Гуд лус!». Потом взял всю корзину и передал другому немцу «на, мол, неси». Потом и пошли шарить, и пошли…
«Счастье мое, что хоть я не боялся немцев, но все же на всякий случай хорошее-то всё надежно припрятал. Так они и барахло забрали!»
Старик так комично представил в лицах всю сцену, все своё разочарование в отношении немецкой «доброты», что я неудержимо захохотал. Немного погодя начал смеяться и мой «холуй».
«Так вот, товарищ комиссар, я узнал, что и как нам надо делать теперь. Вылечили немцы мои мозги.»
***
В Дарьино мы пробыли недолго, не успели даже принять ни одной партии раненых, как нам приказали переехать на новое место в Нелидово Великолукской области. Переезд на автомашинах зимой нам предстояло сделать более трехсот километров. Переезд этот мы и сделали, быстро, благополучно, не считая двух неприятностей, имевших место в дороге.
В довольно большом селе Кувшиново мы остановились у здания комендатуры всей колонной из тринадцати машин, так как в этом месте стояло много войск. Впереди моей машины ехали наши сестры и санитарки, молодые и веселые девчата. Из здания комендатуры вышел какой-то офицер и подошел сзади машины, где ехали медсестры и санитарки. Офицер, держась за задний борт машины, весело «бил зубы» с девчатами. Наша машина находилась всего в девяти метрах от передней машины, и вдруг она медленно сошла с тормозов и подошла вплотную к заднему борту передней машины, у которой стоял и чужой офицер. Я не придал этому никакого значения, правда наша машина чуть притиснула офицера к заднему борту первой машины, но он и вида не подал, что ему больно, не крикнул, ничего не сказал, а просто пошел к зданию комендатуры. Вскоре после этого наша колонна двинулась дальше. Отъехали мы не более, как на десять километров, вдруг нас догнал на мотоцикле связист особого отдела комендатуры Кувшинска и заявил, что мы искалечили офицера особого отдела, у которого оказался сломанный позвоночник. Я не мог поверить этому и счёл это простым недоразумением. Чекист требовал повернуть нашу колонну обратно в Кувшиново для разбора дела. Я наотрез отказался, чекист пригрозил. Я послал его по всем матюкам, какие мог вспомнить. Мой чекист смутился и, записав мое «имя и звание», повернул восвояси.
Второе событие – комического характера:
На одной из машин мы везли в мешках пудов двадцать белого порошка от вшей, забыл его название. Вспомнил, кажется – «перетрум». Остановились ночевать в деревне, а ночью один мужик украл с машины мешок с порошком, думал, что мы везем муку крупчатку, а его старуха на радостях, что достали муки, приступила ночью заводить блины. Блинов, конечно, не вышло. Вот мужик и принес мешок обратно утром, заявив, что нашел его на дороге. Мы не стали привязываться к человеку, видя, как трудно с питанием в этой деревне.
Глава 7. В Нелидове. Кровь за кровь