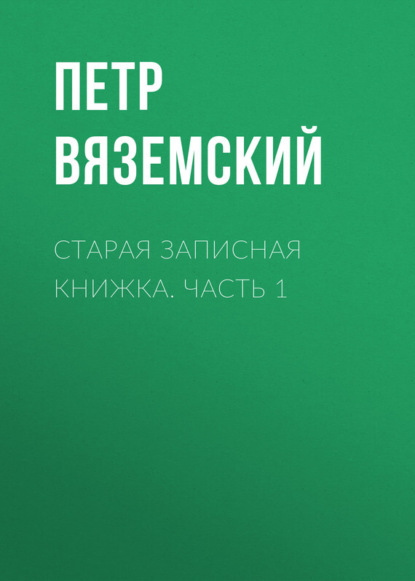 Полная версия
Полная версияСтарая записная книжка. Часть 1
В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или злоприобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло, хоть до угара и до ошиба, хоть до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразились бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов.
Вот, например, несколько пробных наметок, которые вошли бы в состав нашей «Россияды». Пословицы: «Хоть не рад, да будь готов». – «Без вины виноват». – «Все Божие да государево». – «Казенное на воде не тонет и в огне не горит». В этих пословицах, в этих заветах народной мудрости, мало либеральности, мало гуманности, еще менее пресловутого self-governement. Но дело в том, что старая Русь не заботилась о том и в том не нуждалась. Под влиянием силы вещей и какого-то внутреннего голоса она чувствовала потаенную потребность сложиться, окрепнуть: безропотно, без отвлеченных умствований она поддавалась опеке власти, и может быть, и даже вероятно, благодаря этой опеке, разрослась она и возмужала. Всему есть свое время.
А «недосол на столе, пересол на спине!» В этой поваренной поговорке слышна и гастрономическая истина, и чисто практическая истина, выражающая русское крепостное состояние. Je ne sais si le cuisinier est bon, mais je sais qu'il est mon (Я не знаю, хорош ли повар; но знаю, что он мой), – говорил один провинциальный хлебосол и душевладелец на своем нижегородском французском языке. У нас есть старинная поговорка: «щей горшок да сам большой». Осмеливаемся думать, что это несколько искаженная редакция. Не правильнее и не скорее ли: щей горшок да самый большой?
Далее. Вскоре после бедственного пожара в балагане на Адмиралтейской площади в 1838 году кто-то сказал: «Слышно, что при этом несчастии довольно много народа сгорело». – «Чего много народа, – вмешался в разговор департаментский чиновник, – даже сгорел чиновник шестого класса».
Сюда просится иностранная шутка, но выросшая на русской почве. Лорд Ярмут был в Петербурге в начале двадцатых годов; говоря о приятностях петербургского пребывания своего, замечал он, что часто бывал у любезной дамы шестого класса, которая жила в шестнадцатой линии.
А вот, кстати, и характеристическая английская черта. Известно, как англичане дома с чопорною строгостью соблюдают светский этикет и по туалетной части. На твердой земле они любят эмансипировать себя. Умный и образованный лорд Ярмут, в Москве, на большой бал к Екатерине Владимировне Апраксиной явился в цветном галстуке.
* * *В Варшаву прибыл зверинец с разными дикими и заморскими зверями. Большое раскрашенное полотно с изображением животных красовалось на стене балагана. Народ, ротозеи, толпились пред ним. Счастливые, имевшие злотый в кармане, получали билет и входили в балаган. Неимущие ротозеи посматривали на них с завистью. В числе последних был и русский солдат.
Он с отменным любопытством рассматривал живописную вывеску и в то же время грустно косился на конторку, в которой продавались билеты, и на дверь, в которую пропускались покупатели. В нем разыгрывалась целая внутренняя драма. Наконец смелым движением бросился он к сидельцу при кассе и повелительным голосом спросил его: что, это казенные звери, что ли? На лице его так и выражалось сознание, что если получит он в ответ: казенные, то и он, как человек казенный, имеет полное право, во имя всероссийского оружия, победоносно ворваться в желанный зверинец. В выражении этого лица был полный натурный этюд для живописца, физиолога, психолога, а особенно руссолога.
Здесь же в Варшаве, не помнится, по какому именно случаю, сделано было распоряжение великим князем Константином Павловичем, чтобы в такой-то день на службу в дворцовую русскую церковь были допускаемы одни русские и православные, за решительным исключением должностных и чиновных поляков, которые обыкновенно бывали по праздникам при богослужении. Наблюдение за этим порядком было поручено генералу В. Он стал в дверях и для безошибочного исполнения возложенной на него обязанности начал следующим образом допрашивать каждое сомнительное лицо: Позвольте мне спросить вас: вы не русский? – Нет. – Вы не православного вероисповедания? – Нет. – Стало быть, вы поляк? – Да. – Стало быть, вы католик? – Да. – Ну так пошел же вон!
В отсутствие князя Паскевича из Варшавы умер в ней какой-то генерал, и князь был недоволен распоряжениями, сделанными при погребении. Он сделал за то выговор варшавскому генерал-губернатору, который временно замещал его. Не желая подвергнуть себя новой неприятности, осторожный и предусмотрительный генерал-губернатор пишет однажды князю Паскевичу, также тогда отсутствующему: «Долгом считаю испросить разрешения вашей светлости, как, на случай смерти Жабоклицкого (одного из чинов польского двора), прикажете вы хоронить его?» Жабоклицкий в то время вовсе не был болен, а только стар и замечательно худощав.
* * *Итальянец Тончи, живописец, особенно известный портретом Державина, был еще замечательный поэт и философ. Философическое учение его заключалось в том, что все в жизни и в мире призрачно, что ничего нет положительного и существенно-действительного. По системе его, человек не что иное, как тень, как призрак, которому все что-то грезится и мерещится; одним словом, он преподавал, что все, что есть, – не что иное, как ничего. С итальянскою живостью своею, поэтическим настроением и особенным даром слова, излагал и развивал он свое учение довольно увлекательно, и во всяком случае занимательно. Были у него и адепты, между прочими, помнится, генерал Саблуков, а положительно и Алексей Михайлович Пушкин. Он говаривал на своем смелом языке, что система его сближает человека с Создателем с глазу на глаз (nez a nez avec Dieu).
Разумеется, эти мнимая жизнь, мнимая радость, мнимое страдание, все это вечно кажущееся относительно всего и всех давало повод к различным шуткам со стороны неверовавших. Об этом и шла речь в одном петербургском салоне. Кто-то из дипломатов заметил, что хорошо бы, если во время преподавания системы своей философом кто-нибудь порядком ущипнул бы его или впустил иголку в икры ему. – Да, – подхватил тут один из собеседников (довольно крупная личность из русского чиноначалия), – любопытно было бы проверить, что скажет Тончи, если влепить ему пятьсот палок.
Вот дело так дело! Это чисто по-русски: аргумент прямо ad hominem. Мелкопоместный, мелкотравчатый дипломат думает, что достаточно пощипать и уколоть допрашиваемое лицо. Нашему брату это кажется смешно и даже малодушно. Большому кораблю большое и плавание. Богатырю Илье Муромцу дай в руку палицу, или по крайней мере дубинку батюшки Петра Алексеевича, а не булавку. Булавкой незачем и руку себе марать.
Вот пока что пришло мне на память из материалов, которыми хотел я соорудить свою Россияду. Это только закладка здания. Может быть, со временем выведу еще кое-что. Во всяком случае предоставляю усердным зодчим и этнографам докончить начатое мною; за собою оставляю одну честь почина.
А, мимоходом будь сказано, не мало починов моих даром пропало, то есть в отношении ко мне. Кое-какие изделия и товары мои пошли в потребление и в расход под чужими фирмами. Бог даст, когда-нибудь соберусь с духом и силами и выведу на чистую воду расчеты мои и укажу на должников своих, которые даже не признают меня заимодавцем своим, хотя поживились моими грошами.
Мы упомянули о портрете Державина, писанном Тончи. Известно, что поэт изображен в зимней картине: он в шубе, и меховая шапка на голове. На вопрос Державина Дмитриеву, что он думает об этой картине, тот отвечал ему: «Думаю, что вы в дороге, зимою, и ожидаете у станции, когда запрягут лошадей в вашу кибитку».
* * *Поэт Милонов подражал Горацию и, за неимением фалернского вина его, переводил и римское вино на русские нравы или русский хмель. Бросить ли в него камень за эту слабость? Кто же молод не бывал? К тому же в его время не заводили еще обществ трезвости, да и едва ли такие общества завербуют много поэтов: поэты боятся провиниться водяными стихами, а потому любят вспрыскивать их вином. Право и по совести, не в укор будь сказано, а мы можем насчитывать у себя несколько поэтов, которые писали под двойным упоением Аполлона и Вакха.
Милонов имел блестящее начало в жизни своей. Он вышел одним из отличных воспитанников благородного Московского пансиона, состоящего при университете. Этот пансион был долго рассадником многих дарований, по разным отраслям общественного преуспевания. Жаль, что у нас нередко уничтожаются хорошие и полезные заведения, в надежде заменить их лучшими. Но такие надежды не всегда сбываются. Милонов рано обратил общее внимание на свои поэтические опыты. К сожалению, впоследствии времени, эти удачные опыты недостаточно разрастались и созревали. Что виною тому: свойство ли таланта его или обстоятельства? Решить трудно. Фактура стиха его была всегда правильна и художественна, язык всегда изящный. Но, кажется, в Милонове было мало поэтического увлечения, мало de diable au corps (неистовства), как говорил Вольтер; не доставало и творчества. Но стихотворец был он замечательный, особенно в сатирическом роде.
В одной из сатир своих задел он зло миролюбивого и простодушного Василия Львовича Пушкина. Ошеломленный неожиданным нападением и чувствительно уязвленный, он долго не мог опомниться, сетовал на человеческую неблагодарность и жалобно говорил: «Да что же я ему сделал худого? Не позже как на той неделе Милонов вечером пил у меня чай. Никак не мог я подозревать в нем такого коварства».
Не знаем за что, но Милонов не любил и Козодавлева, министра внутренних дел, и задевал его в переводах своих из классических поэтов, в лице Рубеллия.
Дашков, бывший некогда сослуживцем его в министерстве Дмитриева, не любил Милонова. Жития строгого и характера несколько непреклонного, Дашков не мог мирволить с обычаями, частью распущенными, бывшего сослуживца своего. Он даже сердился на приятелей своих, которые менее взыскательно оставались с ним в прежних отношениях. Есть напечатанное послание Воейкова к Дашкову; тут находятся сильные стихи против Милонова, едва ли не самые укорительные и беспощадные из всех, вылившихся после из пера автора Дома Сумасшедших.
В какой-то торжественный день Петербург был вечером освещен праздничными огнями. Проходя мимо памятника Петра Великого, остававшегося во тьме, Милонов воскликнул:
Нет благодарности в Россиянах ни крошки:Петр стоит алтарей, а нет пред ним и плошки.Дмитриев, как известно, не только отличал, ободрял молодые дарования, но, когда мог, старался и давать им ход. В течение министерства своего, он многих из них призрел и зачислил по ведомству своему. Он говаривал, что во всяком случае они грамотней других и могут правильнее написать деловую бумагу. Литератор так уживался в нем с министром, что он назначил Кокошкина на должность губернского прокурора в Москву, преимущественно потому, что переводчик «Мизантропа», передавши верно и хорошо характер Альцеста, должен быть и сам человек добросовестный и правдивый. Подобное соображение, подобный взгляд, не общепринятые в министерских нравах и обычаях, достойны, что ни говори, почетного упоминания; но дружба дружбою, а служба службою. Нередко и министр одолевал литератора. Последний был всегда внимателен и доброжелателен. Первый часто строг, взыскателен и сух.
Милонов был однажды дежурным при нем и, следовательно, должен был, как часовой, пробыть на месте свои срочные часы. В этот день Дмитриев отправился гулять пешком по городу. Где-то на перекрестке встречает он Милонова. Весь служебный педантизм его поражен был таким уклонением от чиновнического порядка. Он приказывает ему следовать за ним. Милонов пошел рядом. «Я сказал вам, – говорит Дмитриев, – идти за мною, а не со мною».
В первых годах своей стихотворческой деятельности, Милонов перевел очень удачно одну из од Горация. За этот перевод был он приветствован следующими стихами (это листок из современной литературной эпохи, помнится, 1811 года):
Тогда, как уши нам терзаютНесносны крики сов, гагар,И Музы в наши дни страдают,Как предки наши от Татар;Когда Хвостов, Анастасевич,Захаров, Шаховской, Станевич,И вся Батыева ордаВыходит на Парнас войною, –Ты, в эти темные года,Друг вдохновенья и труда,С своею лирой золотоюИ юной Музою вдвоем,Невежд рой дикий оставляешьИ славу по пути встречаешь,С которой мало кто знаком.Будь верен службе Муз и Граций,Будь их возлюбленным жрецом,И пусть наставник твой ГорацийС тобой поделится венком.* * *Добрый адмирал Рйкорд, завидев однажды на Невском проспекте NN., начал издалека кричать ему: «Спасибо, большое спасибо за славную статью вашу, которую сейчас прочел я в журнале: нечего сказать, мастерски написана! Но признаться надо, славная статья и этой бестии…» Есть же люди, которые странным образом умеют приправлять похвалы свои.
Вот еще пример подобного нелицеприятия и вместе с тем образчик наших литературных нравов. Один известный литературный деятель и делец говорил Ивану Ивановичу Дмитриеву о своем приятеле и сотруднике: «Вы, ваше высокопревосходительство, не судите о нем по некоторым выходкам его; он, спора нет, часто негодяй и подлец, но он добрейшая душа. Конечно, никому не посоветую класть палец в рот ему, непременно укусит; не дорого возьмет он, чтобы при случае предать и продать тебя: такая уж у него и натура. Но со всем тем он прекрасный человек, и нельзя не любить его». В продолжении вечера, он не раз принимался таким образом обрисовывать и честить приятеля своего.
Тот же о том же сказал: «Утверждать, что он служит в тайной полиции, сущая клевета! Никогда этого не было. Правда, что он просился в нее, но ему было в том отказано».
* * *Старик Сумароков сказал: «В прекрасной быть должна прекрасная душа». Этот хороший стих относится к Елисавете Васильевне Херасковой, супруге известного поэта. А вот и остроумный стих его, из эпиграммы на Клавику, которая и в старости все еще хотела слыть красавицею: «И Новгород уж стар, а Новгород слывет».
При подражании приемам западной, так называемой классической литературы, личная своеобразность Сумарокова часто пробивается. В нем бьет русская струя. В этом отношении он если не выше, то живее Ломоносова. В стихах нередко, в прозе почти всегда он оригинален; часто он не пишет, не сочиняет, а говорит. Оригинальность, свое произношение, свой выговор, свой запев (intonation) – свойства у нас редкие: ими должно дорожить. Необходимо реставрировать Сумарокова, выбрать из него два, три тома прозы и стихов, преимущественно прозы. Но это дело не книгопродавческой спекуляции, а дело русской Академии, или Московского общества любителей словесности.
Вот четверостишие, хотя позднейшего производства, но напоминающее эпиграмму Сумарокова, о которой выше упомянуто:
Она – прекрасная минувших дней медаль.Довольно б, кажется, с нее и славы этой;Но ей на старости проказ сердечных жаль,И хочется быть вновь ходячею монетой.* * *В чернилах есть хмель, зарождающий запой. Сколько людей, если бы не вкусили этого зелья, оставались бы на всю жизнь порядочными личностями! Но от первого глотка зашумело у них в голове, и пошло писать! И пьяному чернилами море по колено. А на деле выходит, что и малая толика здравого смысла, данная человеку, захлебывается и утопает в чернильнице.
Одно из удачнейших слов Талейрана, который мастер был этого дела, есть следующее. Когда Наполеон произвел статс-секретаря своего Маре (Maret) в герцога Бассанского (due de Bassano), Талейран заметил: «Теперь есть во Франции человек, который глупее Маре; а именно герцог Бассанский».
То же можно сказать о некоторых наших литературных псевдонимах. На лицо они глупы, под загадкою еще глупее. И охота многим из них прятаться под маскою! И в полнолунии лица своего, и в полном азбучном облачении имени своего они все-таки остаются неизвестными, благородными инкогнито. Они родились спрятанными.
* * *Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые азартные игры (как будто не все картежные игры более или менее азартны?). Дошло до сведения ее, что один из приближенных ко двору, а именно Левашев, ведет сильную азартную игру. Однажды говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть!» – «Виноват, ваше величество: играю иногда и в коммерческие игры». Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы. Она улыбнулась: тем дело и кончилось.
* * *Мы заметили, что всякая игра более или менее азартна, т. е. более или менее подвержена случайности. Трудно даже в точности определить, какая игра азартная, какая нет. Обыкновенно называют азартными играми игры бескозырные. И то не верно: в пикете нет козыря, а пикет считается коммерческою игрою. В экарте есть козырь, а эта игра признается азартною и запрещена. Пожалуй, так называемые коммерческие игры еще иногда опаснее неопытным новичкам: против них могут действовать умение противника и случайность в сдаче ему хороших карт, не говоря уже о некоторых соображениях, при которых хорошие карты непременно очутятся в руках его.
В старое время общепринятая игра была бостон. Кто-то сказал, что в ней неминуемо имеешь дело с двумя неприятелями и одним предателем, который идет тебе в вист. Всякая игра бой: умение умением, но есть и доля счастья и несчастья, то есть случайности, следовательно – азарта. Вообще игра, может быть, и зло, но зло неизбежное и законами неуловимое. Можно проиграть в фараон сто рублей и даже пять, в вист можно проигрывать десятки тысяч рублей в каждый вечер. Едва ли еще не благоразумнее допустить публичные азартные игры под строгим и добросовестным наблюдением полиции и при некоторых сберегательных и ограничивающих условиях: таким образом скорее будут и волки сыты, и овцы целы, нередко вплоть остриженные (это так), но по крайней мере шкура их будет удобнее спасена, нежели в потаенных игрецких трущобах. Есть люди предопределенные роковою силою неминуемому проигрышу. Американец Толстой говорил об одном из таковых обреченных, что, начни он играть в карты сам с собою, то и тут найдет средство проиграться.
Один беспристрастный и нелицеприятный сын рассказал мне, как покойный отец его, в конце прошлого столетия, выиграл у приятеля своего двадцать тысяч рублей – на клюкве. Вот как это происходило. Он предложил добродушному приятелю своему угадывать, в которой руке его цельная клюковка, в которой раздавленная. Разумеется, заклад был определен в известную сумму. Игра продолжалась около двух часов. Нужно ли добавить для простодушного читателя, что вызванный на игру окончательно назначал всегда невпопад? Что же после, не приписать ли и клюкву к азартным играм? Закон упустил это из виду.
* * *Бедную старушку больно приколотили. Приколотивший ее был присужден заплатить ей 25 рублей за побои и бесчестье. Она любила припоминать и рассказывать этот случай, рассказ же свой заключала всегда следующими словами, которые произносила с умилением и с крестным знамением: «Вот как не угадаешь, с какой стороны взыщет тебя Божье милосердие».
* * *В 1806 или 1807 году один из известнейших московских книгопродавцев рассказывал следующее приходящим в лавку его: «Ну, уж надо признаться, вспыльчив автор такой-то. Вот что со мною было. Приходит он на днях ко мне и, ни с того, ни с другого, начинает меня позорить и ругать; я молчу и смотрю что будет. Наругавшись вдоволь, кинулся он на меня и стал тузить и таскать за бороду. Я все молчу и смотрю что будет. Наконец плюнул он на меня и вышел из лавки, не объяснив в чем дело. Я все молчу и жду, не воротится ли он для объяснения. Нет, не возвратился: так и остался я ни при чем!»
* * *Отцу Алексея Михайловича Пушкина, пострадавшему в царствование Екатерины II, кто-то, кажется какой-то князь Волконский, сказал: «Не понимаю, почему так много говорят о книге Гельвеция de l'esprit; я прочел ее от доски до доски и ничего особенного в ней не нашел». – «Верю, – отвечал Пушкин, – но тут, может быть, не один Гельвеций виноват».
* * *Во время маневров император Александр Павлович посылает одного из флигель-адъютантов своих с приказанием в какой-то отряд. Спустя несколько времени государь видит, что отряд делает движение, совершенно несогласное с данным приказанием. Он спрашивает флигель-адъютанта: «Что вы от меня передали?» Выходит, что приказание передано было совершенно навыворот. «Впрочем, – сказал государь, пожимая плечами, – и я дурак, что вас послал».
* * *На Каменном острове Александр Павлович заметил на дереве лимон необычайной величины. Он приказал принести его к нему, как скоро он спадет с дерева. Разумеется, по излишнему усердию приставили к нему особый надзор, и наблюдение за лимоном перешло на долю и на ответственность дежурному офицеру при карауле. Нечего и говорить, что государь ничего не знал об устройстве этого обсервационного отряда.
Наконец роковой час пробил: лимон свалился. Приносят его к дежурному офицеру. Это было далеко за полночь. Офицер, верный долгу и присяге своей, идет прямо в комнаты государя. Государь уже почивал в постели своей. Офицер приказывает камердинеру разбудить его. Офицера призывают в спальню.
«Что случилось? – спрашивает государь. – Не пожар ли?» – «Нет, благодаря Бога, о пожаре ничего не слыхать. А я принес вашему величеству лимон». – «Какой лимон?» – «Да тот, за которым ваше величество повелели иметь особое и строжайшее наблюдение». Тут государь вспомнил и понял, в чем дело.
Александр Павлович был отменно вежлив, но вместе с тем иногда очень нетерпелив и вспыльчив. Можно предположить, как он спросонья отблагодарил усердного офицера, который долго после того известен был между товарищами под прозвищем Лимон.
* * *В Варшаве рассказывали, что в одном сражении польский офицер (не припомню имени его) был на ординарцах у Наполеона I. Он посылает его с приказанием к начальнику отдельного корпуса, стоящего в стороне. Офицер пришпорил лошадь свою и поскакал; но, отъехав несколько саженей, возвращается он к императору и спрашивает: «А где найти мне ваше величество, когда исполню поручение?» – «Хоть ростом я и невелик, – отвечал Наполеон, улыбаясь, – но все-таки вы, вероятно, отыщете меня. Поезжайте только скорее».
Другой случай. Императрица Жозефина подарила часы также одному из польских офицеров, находившемуся при особе Наполеона. После расторжения брака с Жозефиной Наполеон вспомнил про эти часы и спросил офицера, сохранил ли он подарок императрицы. «Нет, ваше величество, – отвечал он. – Son heure a sonne (час ее пробил)».
С той самой поры офицер перестал пользоваться прежним благоволением Наполеона.
* * *Во время парада на Саксонской площади великий князь Константин Павлович подзывает польского генерала, известного стихотворца, и, показывая на выстроившийся полк, говорит ему: «Что вы на это скажете? Это получше ваших стихов!» – «Sans aucun doute, monseigneur, mais aussi ce sont des vers Alexandrine, т. е. нет сомнения, ваше высочество, но зато они и Александрийские стихи (шестистопные).
Кажется, незачем добавлять, что это было сказано в царствование Александра Павловича.
* * *Байков, лицо, известное в Варшаве, был в начале столетия причислен к неудавшемуся, или не дошедшему до места назначения своего, посольству графа Головкина в Китай. Перед тем состоял он на службе при посольстве графа Маркова в Париже. Позднее был он главным чиновником, если не совершенно правителем дел, в канцелярии Новосильцева в Варшаве. В этой должности и умер он скоропостижно в карете, недалеко от Вильны, когда он, помнится, ехал в загородный дом к невесте своей. Мицкевич, в сатирической драме по поводу Виленско-университетских дел, не упустил случая нарисовать и его портрет. По моему убеждению, Байков много вредил Новосильцеву; с этой точки зрения, постараюсь и я в нескольких чертах определить эту личность.
Он был человек способный, особенно сметливый, вообще умный, очень занимательный и забавный в разговоре. Нельзя назвать его добрым человеком, но нельзя назвать и злым. Он был добр равнодушно, зол не всегда неумышленно. Когда поживешь на свете и долго потрешься около людей, бываешь рад и человеку, который не постоянно готов напакостить ближнему из одной чистой любви к искусству пакостить, а пускается на эту охоту только в известных случаях и по особенно-личным обстоятельствам. От первых никуда не уйдешь: они везде отыщут тебя, как охотник отыскивает зверя. В отношении к другим стоит только не выбегать к ним навстречу и посторониться с дороги их, когда они неуклонным и беспрепятственным шагом идут к цели своей.
В обращении своем Байков был несколько наступателен и дерзок. С ним, то есть против него, должно было всегда держаться в позиции оборонительной. Горе тому, кто захотел бы завести с ним равные и братские сношения: простодушный и несчастный Авель сделался бы неминуемо жертвою Каина. Каин уничтожил бы, задушил бы его своею властолюбивою натурою. Он не был ни любим, ни уважаем в варшавском обществе, ни в польском, ни в русском кругу. А что всего хуже и прискорбнее, это нерасположение к нему скоро отозвалось на самом Новосильцеве.



