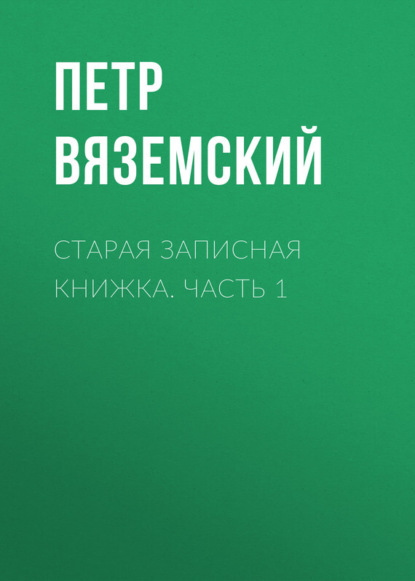 Полная версия
Полная версияСтарая записная книжка. Часть 1
Один отец, весьма остроумный и практический, говорил с умилением и родительским самодовольством: «Мой сын именно на столько глуп, на сколько это нужно, чтобы успеть и на службе, и в жизни: менее глупости было бы недостатком, более – было бы излишеством. Во всем нужны мера и середка, а сын мой на них и напал».
* * *Однажды Пушкин между приятелями сильно руссофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по наклонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек».
Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.
Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границей, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с Любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый.
* * *Один французский писатель, помнится, Жофре (Jauffret), в книге Екатерина II и царствование ее, рассказывает следующее: Екатерина часто повторяла: «Глаз хозяина откармливает лошадей (Toeil du maitre engraisse les chevaux)». Она умела расспрашивать и выслушивать. «Разговор с невеждами, – говорила она, – иногда более научит, нежели разговор с учеными. Этим господам стыдно было бы не дать ответа и по таким вопросам, о которых они понятия не имеют. Они никогда не решатся выговорить эти два слова, столь удобные нам, невеждам: не знаю».
Однажды, путешествуя по берегам Волги, она спросила жителей: довольны ли они своим положением? Большая часть из них были рыбаки. «Мы очень были бы довольны заработками своими, – отвечали они, – если бы не обязаны были отсылать в конюшни вашего величества значительное количество стерлядей, а стерляди очень дороги». – «Хорошо сделали вы, – отвечала императрица, улыбаясь, – что уведомили меня об этом; а я до сей поры и не знала, что лошади мои едят стерлядей. Постараемся это дело поправить».
Вот и другой случай под стать стерлядям. У кого-то из царской фамилии, кажется, у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветовали помазать себе нос на ночь салом, и были приготовлена сальная свеча. С того дня было в продолжение года, если не долее, отпускаемо ежедневно из дворцовой конторы по пуду сальных свечей – «на собственное употребление его высочества».
Кажется, А. А. Нарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу. «Нет вакансии», – отвечали ему. «Да пока откроется вакансия, – говорит проситель, – определите меня к смотрению хотя бы за какой-нибудь канарейкой». – «Что же из этого будет?» – спросил Нарышкин. «Как что? Все-таки будет при этом чем прокормить себя, жену и детей».
Он же рассказывал, что один камер-лакей, при выходе в отставку, просил, за долговременную и честную службу отставить его, «не в пример другим», арапом.
В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради Бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенной эпиграммы: здесь просто сказано, что жалованье, получаемое арапами, превышает жалованье прочей прислуги.
* * *Ермолов рассказывал, что в Турецкую войну старик князь Прозоровский, уже и после Аустерлицкого похода, все еще считал Кутузова мальчиком, а этот мальчик (прибавил Алексей Петрович) и сам уже ходил как на лыжах.
По мнению Ермолова, наши две армии, отдельно действующие в начале войны 1812 года, не иначе как чудом успели соединиться под Смоленском. При всем уважении к храбрости и блистательным воинским дарованиям Багратиона, Ермолов полагает, что нельзя было поручить ему предводительство всеми войсками. Он того мнения, что и после соединения двух армий мы не в силах были предпринять наступательные действия. При малочисленности нашей, ввиду больших сил неприятеля, была на нашей стороне одна невыгода: несогласие и даже неприязнь (по крайней мере в Багратионе) двух начальников. Ермолов писал о том к государю откровенное и смелое письмо.
На одном из военных советов Ермолов предлагал какую-то решительную меру. На это, кажется, Тучков, заметил, что не лучше ли обождать вечера. Хорошо, возразил Ермолов, если ваше превосходительство заключите с Наполеоном условие, что он вас оставит в живых до вечера.
Каждый разговор с Ермоловым есть историческая, анекдотическая, военная лекция. Не говорим уже о вставочных, острых и резких словах, которыми он обстреливал, ни о характеристике многих государственных лиц, о верном взгляде его на вещи и события. В доме своем на Пречистенке принимал он посетителей обыкновенно вечером. В кабинете своем сидел он перед столом. В рассказах своих выдвигал он ящик стола и вынимал из него, смотря по предмету речи, доказательные и объяснительные акты: письма великого князя Константина Павловича, Багратиона и проч. Самой внешностью своей, несколько суровой и величавой, головой львообразной, складом ума, речью, сильно отчеканенной, он был рожден действовать над народными массами, увлекать их за собой и господствовать ими. Ему было бы место в древней Римской истории. В истории новейшей, многосложенной, подчиняющейся строю административного порядка, он иногда сбивался с надлежащей почвы.
В последние годы служения своего он сделал несколько промахов. Главнейший состоял в том, что он, в выражениях уничижения паче гордости, просил об увольнении своем от звания члена Государственного Совета. Это звание ни в чем его не обязывало, он мог даже оставаться на жительстве в Москве, но в минуты решения важных государственных вопросов имел бы он возможность подавать свой голос. Но со всем тем, если, под раздражением неблагоприятных и щекотливых обстоятельств, мог он быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее, то это было одно внешнее явление, которое многих обманывало; в сущности он был человеком власти и порядка. В нем была замечательная тонкость и даже хитрость ума, но под конец он слишком перетонил и перехитрил. Этим самым дал он против себя оружие противникам своим.
Но как бы то ни было, он выделяется высоким историческим лицом в числе сверстников своих. Будущему историку, художнику такая личность будет драгоценной находкой в изображении русской картины действий и деятелей и закулисных проделок на театре текущего столетия.
* * *Милорадович и Багратион были не только сослуживцы, но и совместники еще со времен суворовских. Милорадович не любил Багратиона и не скрывался в том. Во время Отечественной войны графиня Орлова-Чесменская вышила хоругвь и отправила ее в подарок к Милорадовичу.
Он, как известно, был рыцарь и сердечкин. Когда в 1815 году приехал он в Москву, NN шутя сказал ему: «Конец дело венчает, вы геройски дрались, теперь воспользуйтесь миром и предложите сердце и руку графине Орловой, которая помнила вас, когда вы были на полях сражения». – «Никогда, – отвечал он с некоторой досадой, – я не Багратион».
Графиня Скавронская была невеста знатного происхождения и очень богатая. Багратион женился на ней. Брак этот не был счастлив. Вскоре супруги разъехались. Княгиня жила постоянно за границей: славилась в европейских столицах красотою, алебастровой белизной своей, причудами, всегда не только простительными, но особенно обольстительными в прекрасной женщине, романтическими приключениями и умением держать салон, как говорят французы. Умение это преимущественно принадлежит французскому, то есть парижскому общежитию, а потому нужно оставить за ним и французскую терминологию.
Это умение или искусство переходит в предания. Замечательно, что последними представительницами этого искусства в Европе, едва ли не по преимуществу, были русские дамы: княгиня Ливен, княгиня Багратион, Свечина. Салон первой был политический: многие европейские вопросы, сделки, преобразования, сближения дипломатических личностей тут наметывались на живую нитку разговора с тем, чтобы позднее обратиться в плотную ткань события. Салон второй нашей соотечественницы был салон более чисто-светский, так сказать, эклектический, без исключительного характера, а так, всего хорошего понемножку. Свечина председательствовала в салоне духовном с оттенком догматическим, но и литературным.
При всей бескорыстности своей, Милорадович был ужасный губитель денег: расточительность и щедрость его доходили до крайности; оттого и был он всегда в долгах. Во время генерал-губернаторства его в Петербурге, в один из приемных дней, подходит к нему, между прочими, француженка. Monsieur le comte, – говорит она, – je viens vous d'ordonner et a moi d'obeir… (я пришла к вашему сиятельству, умоляя вас.) – «Вам, милостивая государыня, повелевать, мне повиноваться».
Дело так объяснилось, что эта барыня приходила к Милорадовичу с просьбой заплатить давно взятые им у нее деньги взаймы. Оборачиваясь тогда к адъютанту своему, говорит он при просительнице: «Arrangez moi, je vous prie, cette affaire» (Устройте мне, прошу вас, это дело), – и вежливо откланивается даме.
* * *Князь Иван Голицын (Jean de Paris) рассказывал следующее слышанное им от князя Платона Зубова. Императрица Екатерина была недовольна английским министерством за некоторые неприязненные изъявления против России в парламенте. В то время английский посол просил у нее аудиенции и был призван во дворец. Когда вошел он в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него, и посол немного смутился. «Не бойтесь, милорд, – сказала императрица, – собака, которая лает, не кусается и неопасна».
Вот и другой рассказ из того же источника. В день восшествия на престол Екатерины II прискакала она в Измайловскую церковь для принятия присяги. Второпях забыли об одном: об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Не знали, что и делать. При таком замешательстве кто-то в числе присутствующих, одетый в синий сюртук, выходит из толпы и предлагает окружающим Царицу помочь в этом деле и произнести манифест. Соглашаются. Он вынимает из кармана белый лист бумаги и, словно по писаному, читает экспромтом манифест, точно заранее изготовленный. Императрица и все официальные слушатели в восхищении от этого чтения.
Под синим сюртуком был Волков, впоследствии знаменитый актер. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию с обращением ее и на все потомство Волкова. Император Павел прекратил эту пенсию.
Нужно удостовериться в истине этого рассказа. Я большой Фома неверный в отношении к анекдотам. Люблю слушать и читать их, когда они хорошо пересказаны, но не доверяю им до законной пробы. Анекдоты, даже и настоящие, часто оказываются не без лигатуры и лживого чекана. Анекдотисты когда и ну лгут, редко придерживаются буквальной и математической верности. Анекдоты их, в продолжении времени, являются в новых изданиях, исправленных или измененных и значительно умноженных.
В истории люблю одни анекдоты, говорит Проспер Мериме. Наша русская история, к сожалению, малоанекдотична, особенно с тех пор, что хотят демократизировать историю. Полевой думал, что он создает новую русскую историю, потому что назвал худо сваренное творение свое Историей Русского народа; на деле же все являются отдельные лица. Народ в истории то же, что хоры в древней греческой трагедии; действие и содержание сосредотачиваются в действующих лицах, которые возвышаются над народом и господствуют над ним, хотя бы из него истекли.
* * *NN говорит, что писатель X. дарованием своим напоминает русскую песню:
Белый, кудреватый,Холост, не женатый.Ум его белый, слог кудреватый, стреляет он холостыми зарядами, а о потомстве и помину быть не может.
* * *Некто говорил о ком-то: он моя правая рука. «Хороша же, в таком случае, должна быть его левая», – сказал на это едкий граф Аркадий Морков.
* * *Дмитриев – беспощадный подглядатай (почему не вывести этого слова из соглядатай?) и ловец всего смешного. Своими заметками делится он охотно с приятелями. Строгая физиономия его придает особое выражение и, так сказать, пряность малейшим чертам мастерского рассказа его.
Однажды заехал он к больному и любезному нашему Василию Львовичу Пушкину. У него застал он провинциала. «Разговор со мной, – говорит он, – обратился, разумеется, на литературу. Провинциал молчал. Пушкин, совестясь, что гость его остается как бы забытый, вдруг выпучил глаза на него и спрашивает: а почем теперь овес? Тут же обернулся он ко мне и, глядя на меня, хотел как будто сказать: не правда ли, что я находчив и как хозяин умею приноровить к каждому речь свою?»
Кто не слыхал Дмитриева, тот не знает, до какого искусства может быть доведен русский разговорный язык. Впрочем, и он при случае употреблял французские слова. Можно полагать, что говорил он исключительно по-русски не из принципа, а из опасения не иметь довольно правильный и чистый французский выговор.
* * *Д. П. Бутурлин рассказывал, что в отроческих летах ездил он с отцом своим по соседству в деревню к известному Новикову. У него был вроде секретаря молодой человек из крепостных, которому дал он некоторое образование. Он и при гостях всегда обедал за одним столом с барином своим.
В одно лето старик Бутурлин, приехав к Новикову, заметил отсутствие молодого человека и спросил, где же он? «Он совсем избаловался, – отвечал Новиков, – и я отдал его в солдаты».
Вот вам и либерал, мартинист, передовой человек! А нет сомнения, что Новиков в свое время, во многих отношениях, был передовым либералом в значении нынешнего выражения. Что же следует из того вывести? Ничего особенного и необыкновенного. Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям либералов. Он и в самом деле неблаговиден и бросает некоторую тень «на личность Новикова». Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев.
Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или другому вопросу, каковым был Новиков, например по вопросу печати и журналистики, а вместе с тем быть, по иным вопросам, строгим охранителем и сторонником порядков и учреждений не только нынешних, но и вчерашних.
Подобные примеры часто встречаются в Англии, в сей стране законной и общедоступной свободы. Тори, например, стоит за такое-то либеральное преобразование, а виг отстаивает законную меру старую, именно потому, что она старая. Многие этого не понимают, и им кажется, что уже если быть передовым, то надобно захватывать на лету каждую новизну и пускаться с нею или за нею в скачку с препятствиями, без оглядки и без передышки. Уж если быть либералом, говорят они, то быть круглым дураком, а что круглых умников не видать. Человеческий ум не бывает со всех сторон правильно обточен, все же где-нибудь отыщется угловатость или зазубрина.
Вот еще пример того, что каждая медаль имеет свою оборотную сторону, каждая лицевая – свою изнанку.
Лопухин (Иван Владимирович), мартинист, приятель и сподвижник Новикова, был также в свое время передовым человеком. Чувство благочестия и человеколюбия было ему сродно. Он был милостив и щедролюбив до крайности, именно до крайности. Одной рукой раздавал он милостыню, другой занимал он деньги направо и налево и не платил долгов своих; облегчая участь иных семейств, он разорял другие. Он не щадил и приятелей своих, и товарищей по мартинизму. Вдова Тургенева, мать известных Тургеневых, долго не могла выручить довольно значительную сумму, которую Лопухин занял у мужа ее. Нелединский, товарищ его по Сенату и ездивший с ним на ревизию в одну из южных губерний, так объяснял нравственное противоречие, которое оказывалось в характере его. По мистическому настроению своему, Лопухин вообразил себе, что он свыше послан на землю для уравновешения общественных положений: он брал у одного и отдавал другому.
* * *А. М. Пушкин, острый, образованный человек, был плохой стихотворец, но при том настолько умен, что не был смешон при этой слабости. Вообще был он очень парадоксален и думал, что можно всякому писать стихи и без особенного призвания. Он говорил, что Расин скотина (любимое его выражение, которое, в устах и голосе его и при выразительной мимике, имело особенно смехотворное действие на слушателей), а между тем перевел Афелию и принимался за перевод Федры.
Однофамилец и приятель его, Василий Львович (тоже особняк в своем роде), отличавшийся правильным и плавным стихом, не лишенным иногда изящности и художественности, смотрел с гордой жалостью на рифмокропание родственника своего и только пожимал плечами в классическом пренебрежении, но тот сокрушал его своим метким и беспощадным словом. А если искать в памяти это сокрушительное и вызывающее общий хохот слово, то едва ли найдешь, что припомнить и передать любопытному внимания.
После Пушкина нельзя собрать бы Пушкинианы, надобно было собственными ушами и глазами следить за ним, как за игрой актера на сцене, чтобы вполне понять и оценить действие его. Игры, художества великого комического актера, даже и в незначительных ролях, не расскажешь. Так и шуток Пушкина не повторишь с верностью и свойственной им живостью.
Еще одна заметка. Это слово скотина, которое не сходило у него с языка, или, правильнее, поминутно сходило, может дать подумать не знавшим его, что он был несколько грубой и цинической натурой. Вовсе нет: он во всем прочем отличался изящной вежливостью, мог быть бы образцовым маркизом при старом Версальском дворе. Эти противоположности придавали заманчивое своеобразие всей постановке его.
В то время, то есть до 1812 года, политические события не поглощали еще общественного внимания: люди были более на виду, более было общежительности и обмена понятий, характеров и личных свойств; малейшие оттенки личности выдавались напоказ и были оценены. А. М. Пушкин перевел Тартюфа, под именем Ханжеева. Этот перевод комедии Мольера едва ли не был первый, по крайней мере в стихах. Перевод, конечно, был плоховат, но знаменитость подлинника, известность переводчика, за недостатком дарования, придавали готовящемуся представлению на сцене прелесть любопытной новизны. Зала Петровского театра была полна. Комедия кое-как сошла. Приятели и знакомые Пушкина рукоплескали и по окончании представления дружно и громко стали вызывать его. Благодарно кланяясь, явился он перед публикой в директорской ложе. Вслед за тем и неизбежный Неелов подал свой голос в следующих стихах:
Не тот герой, кто век сражался,Разил Отечества врагов,Победы лавром увенчалсяИ к славе вел ряды полков.Но тот, кто исказил МольераИ смело пред судом партера,Признал сей слабый труд за свой:Вот мой герой, вот мой герой!Другой приятель Пушкина приветствовал перевод его таким образом:
«Тартюфа видел я». – Что ж много ли смеялся? –«Ах нет, мне Пушкин друг: слезами заливался».Наша публика довольно шумна в театре, но не отличается, подобно парижской, остроумными и забавными выходками. Вот исключение. Роль Тартюфа или Ханжеева разыгрывал Злов, актер с большим дарованием. При вызовах раздались из партера голоса: «Злова Пушкина!» И дружный хохот заявил, что каламбур был понят.
* * *На приятельских и военных попойках Денис Давыдов, встречаясь с графом Шуваловым, предлагал ему всегда тост в память Ломоносова и с бокалом в руке говорил:
Не право о вещах те думают, Шувалов,Которые стекло чтут ниже минералов.Он же рассказывал, что у него был приятель и сослуживец, большой охотник до чтения, но книг особенного рода. Бывало, зайдет он к нему и просит, нет ли чего почитать. Давыдов даст ему первую книжку, которая попадется под руку. – «А что, это запрещенная книга?» – спросит он. «Нет, я купил ее здесь в книжной лавке». – «Ну, так лучше я обожду, когда получишь запрещенную».
Однажды приходит он с взволнованным и торжественным лицом. «Что за книгу прочел я теперь, – говорит он, – просто чудо!» – «А какое название?» – «Мудреное, не упомню». – «Имя автора?» – «Также забыл». – «Да о чем она толкует?» – «Обо всем, так наповал все и всех ругает. Превосходная книга!»
Из-за этого потребителя бесцензурного товара так и выглядывает толпа читателей. Кто не встречал их? Хороша ли, дурна ли контрабанда, им до того дела нет. Главное обольщение их – контрабанда сама по себе.
Одна зрелая дама из русских немок также принадлежала к разряду исключительных читателей. Она все требовала книг, где есть про любовь. Приходит она однажды к знакомой и застает ее за чтением. «Что вы читаете?» – «Древнюю историю». – «А тут есть про любовь?» – «Есть, но только в последнем томе, а их всего двадцать». – «Все равно, дайте мне, я на досуге их прочту».
* * *Один пастор венчал двух молодых весьма невзрачной и непривлекательной наружности. По совершении обряда сказал он им напутственную речь и, между прочим, следующее: «Любите друг друга, мои дети, любите крепко и постоянно, потому что если не будет в вас взаимной любви, то кой черт может вас полюбить».
Это приветствие мне всегда приходит на мысль, когда Z выхваляет X, а X выхваляет Z.
* * *Карамзин говорит о В. В. Измайлове, что он и письменно так же шепелявит, как устно.
* * *– У меня из ума не выходит… (кто-то начал так свой рассказ). – Ты хочешь сказать, из головы, – перебил его NN.
* * *Князь А. Ф. Орлов (тогда еще граф) был послан в Константинополь с дипломатическим поручением. Накануне аудиенции у великого визиря доводят до сведения его, что сей турецкий сановник намеревается принять его сидя. Состоящие чиновники при князе предполагают войти по этому предмету в объяснение с Портою, чтобы отвратить это неприличие. Нет, отвечает Орлов, никаких предварительных сношений не нужно: дело само собой как-нибудь обделается.
На другой день он отправляется к визирю, который в самом деле не трогается с места при входе нашего уполномоченного посла. Алексей Федорович знаком был с ним и прежде. Будто не замечая сидения его, он подходит к нему, дружески здоровается с ним и, как будто шутя, мощной орловской рукой приподнимает старика с кресел и тут же опять опускает его на кресла. Вот что называется практическая и положительная дипломатия. Другой пустился бы в переговоры, в письменные сношения по пустому вопросу церемонии. Все эти переговоры, переписки могли бы не достигнуть до желанной цели, а тут просто и прямо все решила рука-владыка.
Орлов никогда не готовился к дипломатической деятельности. Поприще его было военная и придворная служба. Позднее обстоятельства и царская воля облекли его дипломатическим званием. Конечно, не явил он в себе ни Талейрана, ни Меттерниха, ни Нессельрода; но светлый и сметливый ум его, тонкость и уловчивость, сродне русской натуре и как-то дружно сливающиеся с каким-то простосердечием, впрочем, не поддающимся обману, заменяли ему предания и опытность дипломатической подготовки. Прибавьте к тому глубокое чувство народного достоинства, унаследованное им от орла из стаи той высокой, которую воспел Державин, и отменно красивую и богатырскую на ружность, которая, что ни говори, всегда обольстительно действует на других, и можно будет прийти к заключению, что все это вместе возмещало пробелы, которые остались от воспитания и учения недостаточно развитых.
Граф Фикельмон с особым уважением отзывался о способностях, изворотливости и мудрой осторожности дипломата-самоучки. По мнению его, он при случае мог заткнуть за пояс присяжных и заматерелых дипломатов, как он, впрочем, в свое время и заткнул великого визиря.
Дипломатия все же еще придерживается какого-то педантства в приемах своих. Сырая сила простого здравомыслия может иногда с успехом озадачить ее.
Орлов знал, так сказать, наизусть царствования императоров Александра I и Николая I; знал он коротко и великого князя Константина Павловича, при котором был некогда адъютантом. Сведения его были исторические и преимущественно анекдотические, общие, гласные, частные и подноготные. Жаль, если кто из приближенных к нему не записывал рассказов его. Он рассказывал мастерски и охотно, даже иногда нараспашку. Ни записок, ни дневника по себе он, вероятно, не оставил: он для того был слишком ленив и не довольно литературен.
* * *Поццо ди Борго, в тридцатых годах, спрашивал приезжего из Петербурга, что делается нового в русской правительственной среде. В то время были на очереди учреждения министерства государственных имуществ и все преобразования, которые ожидались от него.
«Это все очень хорошо, – сказал наш посол, – но боюсь торопливости, с которой покушаются у нас на государственные нововведения. На все нужно (говорил он) законное и плодотворное содействие времени; иначе будешь походить на человека, которому желательно быть отцом и который говорил бы беременной жене своей: у меня не станет терпения выжидать девятимесячного срока, сделай милость, постарайся родить пораньше».
Поццо очень скучал пребыванием в Лондоне. Он на старости никак не мог свыкнуться и ужиться с английскими обычаями и обществом. В Англии все высшее общество живет много в поместьях своих или кочует по европейскому материку. Англичане и большие домоседы, и большие туристы и космополиты. В Лондоне, что называется, high-life съезжается только на сезон, который продолжается несколько летних недель. Осенью все лорды, весь fashion отправляется опять путешествовать, или в поместья на охоту. Лондон пустеет. Особенно эта пора тяжела для Поццо: ему нужен Париж с его гостеприимными салонами под председательством умной и образованной хозяйки.



