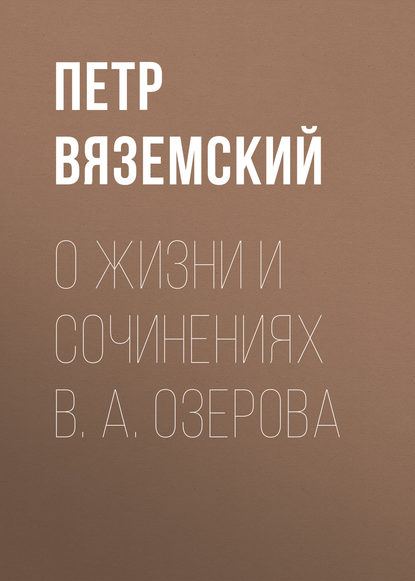 Полная версия
Полная версияО жизни и сочинениях В. А. Озерова
Характер Полиника начертан мастерскою рукою. В самом раскаянии его прорываются движения злобы и ненависти к брату, и зритель в Полинике, оплакивающем преступления свои у ног отца и готовящемся жертвовать жизнию за него и сестру, угадывает еще мятежного, необузданного и непримиримого брата Этеоклова. Антигона Озерова совершенная Антигона. Такова она у Софокла, такова и в природе. Ни на одно мгновение, ни в одном движении, ни в одном слове не изменяет она себе. Пленительный образец дочерней любви, трогательное сочетание нежности и твердости, чувствительности и благородного презрения к бедствиям; одним словом, счастливое соединение всех женских добродетелей. В первый раз услышали мы на сцене голос женский. Антигоне не автор подсказывает, но сердце ее. Заметим здесь, что Озеров с вернейшим успехом ловил сходство женских лиц; кисть его при изображении их была разборчивее в красках, точнее в оттенках и тщательнее в отделке. Взгляните на Антигону, Моину, Ксению, Гекубу и Поликсену: каждый из списков их носит на себе печать истины и некоторым образом свидетельствует о пристрастии к себе автора, так сказать, любовавшегося трудом своим. Может быть, почерпнул он сию верность изображения в нежном образовании души своей, отражавшей с большею живостию и ясностию женские добродетели; может быть, заимствовал он ее от частого обращения с женщинами, очищающими как вкус наш, так и самые чувства. Но обратимся к Эдипу, который, к сожалению, перестает быть Эдипом в пятом акте. Озеров в окончании своей трагедии совершенно отстал от Софокла и, так сказать, срывает с Эдипа священную печать таинственного попечения о нем богов, чудных к нему в гонении и милости. Наш трагик изменил прекрасному концу греческого Эдипа, освященного перед смертию и уже не хилого слепца, имеющего нужду в подпоре смертных; но слепца, руководимого промыслом богов и твердою стопою идущего к могиле, назначенной ему от них наградою за долгие страдания и пристанищем после житейских треволнений. Сей прекрасной кончине предпочел он холодную смерть Креона в угождение ложному правилу, проповеданному нам новейшими трагиками, что нравственная цель трагедии должна быть казнь порока и торжество добродетели. Но трагик не есть уголовный судья. Обязанность его и всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку, а не заботиться о жребии и приговоре провидения. Великие трагики и из новейших чувствовали сию истину, и Вольтер, поражая Зопира и щадя Магомета, не был ни гонителем добродетели, ни льстецом порока. Озеров, как сказывают, сперва и хотел перенести в свою трагедию прекрасный конец Софокловой; но один актер, в школе Сумарокова воспитанный, испугал его, предсказывая, что публика дурно примет конец, столь противный общим понятиям о цели драматических творений, и родил в нем мысль развязать свою трагедию смертию Креона. Озеров принял его совет и лишил себя и нас счастливого, может быть, единственного случая познакомиться с сверхъестественными окончаниями древнего театра. Таким образом вкоренелые предрассудки и уполномоченные представители их в обществе заграждают произвольными препятствиями путь гению, еще не довольно возмужавшему, чтобы с постоянною смелостию презреть их в полете своем. Если иногда в «Эдипе» Озеров был ослушным учеником древних наставников, то, по крайней мере, с блистательным успехом оказался он достойным воспитанником, а часто и счастливым соперником новейших образцов. «Эдип в Афинах» будет занимать всегда одно из почетных мест на новейшем театре, в отношении к творениям современной словесности чуждых народов, а в отношении к нашей поставил он Озерова наряду с величайшими нашими поэтами и на степень первейшего нашего трагика. В первый раз сия трагедия была играна на Петербургском театре в 1804 году и вскоре после того напечатана при посвящении, писанном прозою, к Державину, который отвечал ему стихами, уже отзывающимися старостию поэта и не стоящими прозы Озеровой. Публика, руководимая на этот раз вкусом, приняла новую трагедию с живым удовольствием. Журналы тогдашнего времени подтвердили ее одобрение, и между поэтами, приветствовавшими успех нового трагика, был и другой певец века Екатерины – Капнист. «Эдип в Афинах» представлен также на театре Эрмитажа, и автор имел удовольствие слышать от государя похвалу и одобрение своим трудам. В одном из современных периодических изданий сказано было, что некоторыми любителями отечественной словесности было положено собрать подписку для выбития золотой медали в честь автора «Эдипа». Мудрено ли, что сердце чувствительное, питающееся одобрениями и доверчивое к надеждам, поддалось усладительным приманкам улыбающегося успеха и в беспечном очаровании своем, внимательное к одному голосу похвалы, не замечало скрытного ропота зависти? Осторожность не пленяется успехами и проницательным взглядом различает свойства похвал и искренность хвалителей; но пламенная и простая душа предается обману и поздно узнает, что слава вплетает терние в венцы, которыми наделяет она своих любимцев.
Из благословенной Эллады, цветущего отечества изящного и искусств, муза Озерова перенесла его под суровое и туманное небо, прославленное однообразными, но сильными и сладостными для души песнями – северного Гомера! Певец греческий открывает богатый рудник трагикам: Оссиан не столь щедрою рукою рассыпает свои сокровища. Воображение Гомера богато, роскошно и разноцветно, как вечная весна, царствующая на отеческих его полях. Воображение Оссиана грустно, однообразно, как вечные снега его родины. У него одна мысль, одно чувство: любовь к отечеству, и сия любовь согревает его в холодном царстве зимы и становится обильным источником его вдохновения. Его герои – ратники; поприще их славы – бранное поле; алтари – могилы храбрых. Северной поэзии прилично искать источников в баснословных преданиях народа, имеющего нечто общее с ее народом, когда разборчивая строгость не дозволяет ей дополнить своими вымыслами скудные средства, открытые отечественною историею. Северный поэт переносится под небо, сходное с его небом, созерцает природу, сродную его природе, встречает в нравах сынов ее простоту, в подвигах их мужество, которые рождают в нем темное, но живое чувство убеждения, что предки его горели тем же мужеством, имели ту же простоту в нравах и что свойство сих однородных диких сынов севера отлиты были природою в общем льдистом сосуде. Самый язык наш представляет более красот для живописания северной природы. Цвет поэзии Оссиана может быть удачнее, обильного в оттенках цвета поэзии Гомеровой, перенесен на почву нашу. Некоторые русские переводы песней северного барда подтверждают сие мнение. Но ровное и, так сказать, одноцветное поле его поэм обещает ли богатую жатву для трагедии, требующей действия сильных страстей, беспрестанного их борения и великих последствий? Не думаю. И посему-то «Фингал» Озерова может скорее почесться великолепным трагическим представлением, нежели совершенною трагедиею. Не основываю мнения моего на том, что содержание «Фингала» разделено на три акта, а не на пять. Правило, основанное на предрассудке, может и должно всегда встречать ослушников в тех, которых голос дарования их вызывает из толпы. Большая часть трагедий выиграли бы потерею двух актов и почти все исключительно потерею одного. Новейшие, рабски следуя древним, приняли их объем, забывая, что в греческих трагедиях хоры всегда занимают большее место и разделяют с действием внимание зрителей. С другой стороны, греки не столь жадны были, как мы, и содержания их трагедии едва ли стало бы у нас на два акта. В трагедии «Фингал» одно только трагическое лицо: Старн. Сын его Тоскар убит был Фингалом, и все чувства родительские, нежная любовь к сыну, сетование о нем, соединились в одно: в желание мести. Фингал, победитель и убийца Тоскара, влюблен в его сестру Моину, которая отвечает его страсти. Старн скрывает свое негодование от дочери, не разделяющей ненависти его к победителю сына, и, вместо обещанного брачного торжества, хочет принести Фингала в жертву мести своей, на холме надгробном Тоскара. Вот одна трагическая сторона поэмы Озеровой! Он с искусством умел противопоставить мрачному и злобному Старну, таящему во глубине печальной души преступные замыслы, взаимную и простосердечную любовь двух чад природы, искренность Моины, благородство и доверчивость Фингала; он сочетал в одной картине свежие краски добродетельной страсти, владычествующей прелестью очарования своего в сердцах невинных, с мрачными красками угрюмой и кровожаднейшей мести и хитрость злобной старости с доверчивою смелостию добродетельной молодости. Как трагик, он воспользовался всеми выгодами предметов, и чем беднее в средствах, тем решительнее и искуснее был он в распоряжении. В тесном кругу действия характеры Старна, Фингала и Моины являются во всех оттенках. Как поэт, схватил он смелою рукою богатства северной поэзии и разбросанные сокровища соединил в одно целое. Трагедия «Фингал» – торжество северной поэзии и торжество русского языка, богатого живописью, смелостию и звучностию. Речи Моины, утренний голос весны, пробуждающий сладостным очарованием тишину безмолвных рощей; сетование мрачного Старна, унылый голос осени, беседующей с ночною бурею: с ним говорят
И ветров страшный рев,И моря грозный шум, и томный скрып дерев.В «Фингале» ничто не забыто ни трагиком, ни поэтом. Тот и другой взял с Оссиана полную дань. Счастливый преемник Озерова может приняться после него за Эдипа, частию сравняться с ним, а частию и превзойти его; но едва ли дерзнет кто-нибудь по следам его искать добычи в поэмах Оссиана. Он найдет поле, уже пожатое и обнаженное рукою счастливою и искусною в выборе. Представление «Фингала» говорит воображению, сердцу и глазам зрителей. Тут все у места: пение бардов, хоры жрецов, сражения. Все сии принадлежности, во многих трагедиях часто излишние, в «Фингале» нужные – тесно связаны с главным содержанием и, так сказать, идут не за сочинителем, а за действующими лицами. Несправедливо будет сказать по некоторым отношениям, что Озерову скорее надлежало бы составить оперу из «Фингала». Старн, господствующее и почти действующее лицо в трагедии, начертан сильными красками и кистию решительно трагическою. В трагедии Старн уединяется; в опере он совершенно отделился бы от общей картины и разрушил согласие единства. «Фингал» представлен был в первый раз на Петербургском театре в начале декабря 1805 года и напечатан с посвящением Алексею Николаевичу Оленину, по словам сочинителя, присоветовавшему ему
Народов северных Ахилла описать.В обыкновенных посвящениях находится притворное унижение от лица посвящающего и притворная лесть к лицу покровителя. В двенадцати стихах Озерова есть поэзия и чувство. Заслуженные похвалы сочинителю трагедии, по представлении ее, не умалились от напечатания. Новые лавры вплетены были признательностию в венец сочинителя «Эдипа»: новые терния готовились ему рукою зависти. В 1807 году, когда взоры России устремлены были на борьбу храбрых сынов ее с силою грозного врага, готовившего цепи рабства Европе, Озеров в трагедии «Димитрий Донской» напомнил согражданам своим о великой эпохе древней славы России, когда на Задонских полях нанесен был сильный удар власти Мамая, кичливого противника русской свободы. Озеров возвратил трагедии истинное ее достоинство: питать гордость народную священными воспоминаниями и вызывать из древности подвиги великих героев, благотворителей современникам, служащих образцом для потомства. Исторические трагедии или по крайней мере трагедии, основанные на вымышленной повести, вставленной в историческую раму, должны всегда иметь преимущество пред другими. Но имеет ли право трагик облекать по-своему лица, заимствованные им из истории, и может ли удовольствоваться тем, что предлагает ему история? Древние позволяли себе изменять хронологической истине истории, смешанной у них всегда почти с баснословными преданиями, не менее уважаемыми. Мне кажется, что и новейшие трагики могут отступать от частной исторической истины с тем только, чтобы быть ей верным в общем смысле. Трагику, например, позволено изменять истории в подробностях и по желанию своему переносить героя за двадцать лет вперед или назад в его жизни, забывать о семейственных связях его; но характер исторический героя должен быть для него святынею, до которой не может он дотрогиваться своенравною рукою. Трагик, представивший нам тирана благотворителем своих подданных или друга свободы рабом пресмыкающимся, равно виновен перед историею и перед трагедиею. Но Озеров, представивший Димитрия любовником Ксении в день битвы Донской, когда он в истории является уже супругом великой княгини Евдокии, пользовался свободою, законною принадлежностию искусства. Счастлив был бы Озеров, если бы довольствовался сею трагическою вольностию; но, увлеченный романическим воображением, он нанес преступную руку на самый исторический характер Димитрия и унизил героя, чтобы возвысить любовника. Не только в Димитрии, но едва ли во всей отечественной истории найдется образец списка, представленного нам Озеровым. Его Димитрий, и в самых благородных движениях души своей и в самом подвиге славы, напоминает нам не великого князя московского, но более полуденного рыцаря средних веков. Позволю себе и более обвинить Озерова: неверный блюститель истины в изображении исторического Димитрия, не избегает он справедливой укоризны и за Димитрия, созданного его воображением. Предупреждая, так сказать, обвинения критики, трагик влагает в уста Бренского, Белозерского, Смоленского и самой Ксении решительный приговор осуждения поступкам Димитрия, законным во всякое другое время, но преступным в день боя, когда отечество, требуя жертвы его страсти и обиженного самолюбия, ожидает от него своего освобождения. Не унижается ли достоинство Димитрия, когда Ксения, не менее его страстная, находит довольно мужества в душе, чтобы заглушить голос любви, и произвольною жертвою не укоряет ли она его в постыдном малодушии? Кончина Бренского, на смерть посланного Димитрием, не есть ли ужаснейшая и неоспоримая укоризна ему? Самый соперник Димитрия не исторгает ли невольную дань уважения, отказываясь от руки Ксении, и не должен ли признаться каждый зритель вместе с Димитрием, что он превзошел его? Между тем в этом самом обвинении не найдем ли мы убедительнейшего доказательства искусства трагика, который, будучи как бы в распре с самим собою, попеременно водит Димитрия от стыда к торжеству, невольно привязывает нас к его участи и, побеждая сердца назло рассудка, заставляет осуждать его слабости и принимать в них живейшее и господствующее участие. Может быть, в сем случае трагик многим обязан поэту. Роли Димитрия и Ксении писаны с начала до конца рукою истинного поэта. Говорит ли он о храбрости, о благородной любви к отечеству? В речах его отзываются звуки мужественного голоса Корнеля. Сетует ли нежная любовь? Трогательные звуки чувствительной души Расина доходят до глубины сердца. Великолепное начало трагедии напоминает красоту первых явлении «Танкреда» и «Брута». Оно украшено историческими воспоминаниями, частными и местными подробностями, придающими картине особенную прелесть на русской сцене. Ответ Димитрия послу есть один из красноречивейших отрывков нашей поэзии. Второе действие, открывающееся прекрасным явлением Ксении, полно движения, теплоты и с начала до конца не задерживается и не остывает ни на одно мгновение. Рассказ в пятом действии отличается необыкновенною описательною красотою и может служить образцом в этом роде. По большей части подобные рассказы охлаждают действие и могут назваться узаконенными погрешностями новейших трагедий; но здесь он заменяет действие и имеет особенную красоту, основанную на положении несчастной Ксении (которая желает узнать о жребии битвы, сопряженном с жребием Димитрия, но не смеет явно открывать участие, принимаемое ею) и на таинственность незнакомого воина, решившего победу. Явление раненого Димитрия прекрасно. Священные раны его, искупившие свободу отечества, грозящая утрата жизни, совершившаяся утрата всех надежд души его, красноречивая сила несчастия: все говорит в его пользу. Он решитель победы; но слава не льстит сердцу, убитому в живейших чувствах. Димиягрий, победитель и несчастливец, мирит с собою и противников своих, оскорбленных его упорством, и зрителей, строгих судей его поступков необдуманных. Вообще трагедия, кроме ее драматического достоинства, согрета какою-то поэтическою любовию к отечеству, которая отражается с живостью и силою в русских сердцах и которой напрасно будем искать в творениях Сумарокова, Княжнина и самого Хераскова, песнопевца России. Она и при начале своем имела разительное отношение к современным обстоятельствам; но после событий 1812 года, которые некоторым образом предсказаны во многих стихах «Димитрия», еще более становится на нашем театре народною трагедиею. Здесь невольно сливается с воспоминанием о ней воспоминание и другой трагедии, которой творец и дарованием и преждевременною смертию, пресекшею при самом развитии надежды прекрасной жизни, разделяет с Озеровым дань наших слез и уважения. Трагедия «Пожарский»[2] если не изобилует трагическими красотами «Димитрия», то может по крайней мере по достоинству своему поэтическому занять, хотя и в некотором расстоянии, первое по ней место.
Новое творение Озерова, принятое с восторгом, было последнею эпохою его счастия и успехов. С горестию подходим к последнему памятнику его дарования, свидетельствующему о зрелости таланта трагика и о печальной истине, что чувствительное сердце редко уживается со славою. Частные неудовольствия, легкие, может быть, для другого, но нестерпимые для нежной и благородной души, удалили Озерова в деревню. Гений остается верен любимцу своему, забытому людьми, и покровительствует гонимого счастием; но слабое сердце человеческое живет и согревается посторонним одобрением: собственное для него не всегда удовлетворительно, и душа остывает при молчании равнодушия. И что в обольщениях отдаленной славы, если она не подательница настоящего счастия? В тишине деревни Озеров кончил в 1809 году трагедию «Поликсену», которая с удовольствием принята была публикою; но сделалась, как сказывают, для автора источником многих неприятностей, и чувствительное сердце поэта сохранило до гроба живую намять о нанесенном оскорблении. Расин, обогативший «Федрою» своих современников, нашел в них пристрастных и несправедливых судей; Озеров испытал почти ту же участь, написав «Поликсену», совершеннейшее произведение своего дарования и, следственно, лучшую трагедию нашу. Несмотря на некоторые погрешности в плане, «Поликсена» полнее и совершеннее в целом прежних трагедий Озерова. Характеры Пирра, Агамемнона, Гекубы, Поликсены выдержаны до конца. Мастерство кисти Озерова, замеченное прежде в изображении женских характеров, торжествует здесь с новым блеском. Согласно с справедливым мнением критика, по многим отношениям столь богатого средствами ценить достоинства русской трагедии и сличать ее с ее образцами[3], и я готов признавать лишним лицо Нестора, играющего в «Поликсене» такую же бесполезную роль, какую играет князь Белозерский в «Димитрии», с тою только разницею, что Озеров щедрее наделил хорошими стихами греческого словоохотного старца. Однако же позволю себе сомневаться в справедливости некоторых других укоризн, сделанных трагику, и осмелюсь оправдать его. Пирру прилично было требовать в жертву именно Поликсену, а не Гекубу и не Кассандру, потому что цена жертвы возвышалась в глазах сына правом ее свободы. Прах Ахиллов не довольствовался бы почестию, если б жертвою была пленница; а Гекуба и Кассандра, несмотря на высокое рождение, подпали общему жребию. Одна Поликсена оставалась в свободе: она одна могла быть достойною и исключительною наградою героя. Иную жертву Ахилл должен был бы делить с другим вождем и получить от его соизволения. Надменному ли Пирру ходатайствовать за прах родителя и молить о снисходительности равного себе? Пойдем далее. Улисс требует не награды за похищение Поликсены; но замены пленницы своей, освобождаемой Гекубы, которая только после объявления ей свободы идет в ставку Агамемнонову, пользуясь правом, ей дарованным. Кассандра непроизвольно отлучается из стана Агамемнонова, но по приказанию его и с тем, чтобы утешить скорбную мать; она это говорит, и слова ее объясняют и оправдывают в глазах зрителя нечаянный ее приход. Первые три действия исполнены движения и жизни. Спор Пирра и Агамемнона выдержан с большим искусством; явление Гекубы с Улиссом сильно и красноречиво; беседы матери с дочерью до высшей степени трогательны. Четвертый акт есть дань принужденная самовластию обычая, определившего трагедии пять действий. Последний силен трагическою занимательностию. Добровольная смерть Поликсены есть счастливая, хотя и романическая развязка, и следующее за тем последнее явление нимало не охлаждает действия, произведенного смертию Поликсены. Кассандра, сестра несчастной жертвы неистовых греков, в пророческом исступлении предсказывает им ожидающие их бедствия и некоторым образом мирит зрителей с жестокими богами, осудившими все ее семейство на безутешное страдание. В последних словах Нестора, заключающих трагедию, мы слышим отголосок души поэта. Обманувшийся во многих надеждах, растерзанный в живейших чувствах сердца, он взором разочарованным глядел на жизнь и с удовольствием думал о смерти, спокойном убежище утомленных странников земли. Сии стихи, последние из известных, оставшихся по нем, как песнь лебедя, предсказывающая его кончину, скрывают тайное предчувствие ужасной судьбы, омрачившей запад жизни чувствительного поэта. В деревне начал он «Медею» и написал уже три действия; но что с ними сделалось, неизвестно. Сказывают, что в припадке уныния кинул он их в огонь. Еще были у него заготовлены два плана новых трагедий: «Вельгарда Варяга, мученика при Владимире» и «Осады Дамаса». В последней намеревался он подражать одной английской трагедии. Судьба и люди не дозволили ему обогатить наш театр и усовершенствовать трагическое искусство, некоторым образом родившееся и умершее с ним. Излишним кажется доказывать, что ни Княжнин, ни Сумароков не были его образцами, и смешно напоминать, что произведения, последовавшие за его трагедиями, не имеют никакого с ними сходства. Лучшие из первых и последних слеплены с одного образца и могут почесться мертвыми подражаниями французской классической трагедии, в которых иногда кое-как сохранены узаконенные условия, проповедуемые драматическими пиитиками. Трагедии Озерова занимают между ними средину и в самых погрешностях своих представляют нам отступления от правил, исполненные жизни и носящие свой образ. Они уже несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому романтическому, который принят немцами от испанцев и англичан. Оценяя достоинство Озерова, как трагика, справедливость принуждает нас заметить, что трагику на равной степени совершенства с другими писателями должно всегда бороться с большими препятствиями для достижения своей цели, а тем более у нас, где и самый язык, еще не смягченный употреблением, столь часто упорствует против усилий писателя. Занимающийся иным родом словесности одерживает свои победы в единоборстве с частным читателем. Драматический писатель действует против многочисленной силы, и если иногда может слабеть в частных поражениях, то по крайней мере должен необходимо в целом одержать решительную победу. Удовлетворив строгому и взыскательному вкусу публики, часто своенравной и недоброжелательной, он есть полководец, выигравший генеральное сражение против неприятелей, оспаривавших ему каждый шаг победы. Успех его, с одной стороны пробуждающий страдание зависти, с другой имеет еще нужду утвердиться полнейшим одобрением беспристрастных и просвещенных судей, истинных ценителей трудностей его подвига. Таким образом, как трагик, Озеров неоспоримо стоит в летописи отечественной словесности победителем своих предшественников и опасным соперником для последователей. Как поэт, имеет он преимущества, так сказать, ему особенно принадлежащие. Озеров-трагик может и должен служить образцом на театре нашем. Как поэт, хотя и неоспоримо утвердившийся на чреде первейших наших поэтов, не может и не должен он быть образцовым. В самых красотах слога он более счастлив, нежели правилен. Одарив русский язык богатством, до него еще безызвестным, не щадит он его во многих случаях. Часто намекает там, где нужно выразить, и как-то медлит там, где надобно быть быстрым. Часто употребляет он во зло присвоенную русским языком переноску слов и, сбиваясь в истинном их значении, довольствуется словом, близким к настоящему. Нет в стихах его той свободы, той мягкости, которая заставляет читателя забывать о труде стихотворства, и, вероятно, в составе его стиха сохранились следы первых его учителей. Почерк детства изменяется с летами, но не может совершенно преобразоваться, и суровость языка времен Княжнина глухо отзывается еще в поэмах Озерова. Но зато, где говорит сердце, какая сила красноречивая! Какая истина и верность в звуках чувствительной души! Какая увлекательная прелесть в порывах мечтательного воображения! Какое глубокое уныние, изменяющее сердцу, не приученному к жизни счастием! Где более найдем мы живых красот в описательном роде, как не в его трагедиях? Где более примеров искусства пользоваться подробностями и вставлять их в общую картину о сохранением единства и притом с разнообразием? «Димитрий Донской» усеян историческими воспоминаниями, местными подробностями. «Фингал» есть некоторым образом пантеон северной поэзии; в «Поликсене» взята обильная дань с «Илиады». С этой стороны Озеров у нас заслуживает особенное одобрение, тем более что он ни в одном из наших поэтов не нашел тому примера. Не всегда в устройстве целой картины должно искать свидетельства о гении живописца: часто одна черта, неприметная для глаз непросвещенных, открывает тайну прозорливому взгляду опытного наблюдателя. Несмотря на прозаические и жесткие стихи, разбросанные в его трагедиях, вообще стихи его звучны и полны. Едва ли не у него должно искать лучших наших александрийских стихов, особенно в «Поликсене». Исчисля заслуги Озерова, принесенные русскому театру, благодарность заставляет упомянуть и о том, что он произведениями своими образовал актрису, которая на сцене нашей первая постигла тайну трагического искусства. Если французы обязаны были Расину за Шаммеле, без сомнения и мы должны благодарить Озерова за Семенову. Великий трагик творит великих актеров. Озеров создал Ксению и Моину; Семенова поняла поэта и оживотворила идеалы его воображения.



