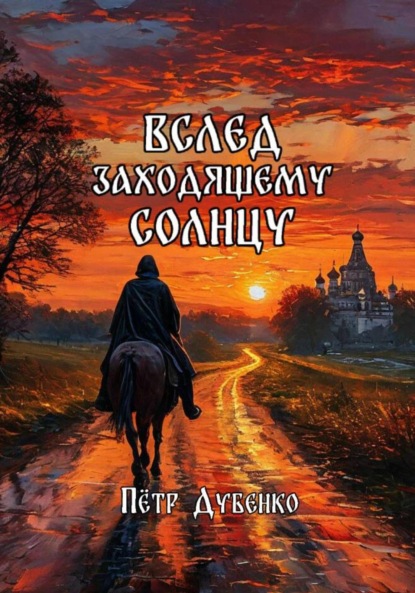
Полная версия:
Вслед заходящему солнцу
Пытаясь выследить воров, Иван безвылазно провёл в Кошельной слободе две недели. Поначалу ночевал в предбанниках и ел, что придётся. Но на третий день добросердечная хозяйка – статная грудастая вдова тридцати лет отроду – принесла ему кусок пирога и кружку кваса. На пятый Устинья Алексеевна – тогда Иван звал её только так и не иначе – позвала беднягу отобедать; восьмую ночь Иван провёл в стылой передней хозяйского дома, что было весьма кстати, ибо на дворе стоял январь, а вскорости, попал и в светлицу, на мягкую постель рядом с горячей печкой. Устиша оказалась столь горяча и ненасытна, что обессиленный Иван проспал весь следующий день и даже вечером не смог нормально взяться за работу. Но воров он всё-таки поймал. И хотя те откупились, дав дьяку немалую мзду, с тех пор к вящей радости хозяйки от татей страдал лишь чёрный люд, тогда как знатные гости мылись без опаски. А Иван так и остался жить при банях. Хотя за три с лишним года ветхий пятистенок, что притаился в стороне от общего барака, словно прячась средь осоки и кустов ракиты, так и не стал ему домом. Скорее, просто местом, где он ночевал.
Вот и в тот день, долго прождав в харчевне Никиты Бондаря, в Кошельной слободе Иван оказался уже затемно. Как часто бывает ранней весной, погожий денёк быстро перешёл в вечернее ненастье. Ещё на закате сырой студёный ветер погнал с севера махины кудлатых туч, и когда солнце скрылось за городской стеной, из свинцовой пелены, что затянуло небо, посыпалась мелкая белая крошка. Она тонким налётом оседала на ещё голых кустах и деревьях, серебристой плёнкой покрывала тёсаные крыши, тая на уже прогретой земле, мешалась с грязью и чавкала под копытами коня.
Старый армяк на Иване быстро промок, а заячий треух стал тяжёлым от налипших хлопьев, так что когда он вошёл в жарко натопленный дом, поневоле облегчённо вздохнул и первым делом, сбросив верхнюю одежду, прижался продрогшей спиной к печи. Устинья в простом расстегае13 на широких лямках через плечи, радостно засуетилась у стола. Домашняя холопка Агафья – не старая, но больная морщинистая бабка, все время ворчавшая что-то себе под нос – уже спала, да и Устинья не хотела, чтобы посторонний портил редкий случай, когда им довелось остаться наедине.
Первым делом на белоснежной скатерти появилась большая гранёная рюмка хлебного вина, а рядом маленькое блюдце с ломтём ржаного хлеба, кусочком сала и солёным огурцом – всё, как любил Иван. Немного согревшись, он подошёл к столу, выдохнув, опрокинул в себя жгучую жидкость, торопливо хрустнул огурцом. Потом, уже не спеша, положил тонкий белый пласт с прожилкой мяса на зернистую поверхность хлеба и отправил всё это в рот. Прожевав, блаженно застонал, после чего обхватил рукой тонкую талию и притянул Устинью к себе.
– Оголодал, небось? – Заботливо спросила та, поправляя сбившийся платок.
Иван не ответил, только кивнул. Устинья шутливо хлопнула мягкой ладонью по ползущей вниз руке Ивана, и он отпустил её. Хозяйка поспешила к печи, и вскоре на столе уже исходил паром чугунок щей, из жирной гущи которых торчал обрубок мозговой кости. Иван восхищённо цокнул языком и, устроившись на лавке, нетерпеливо схватил ложку. Устинья села напротив. Поставив локти на стол, она положила пухлый подбородок на ладони и с улыбкой следила за тем, как Иван, сначала жадно хлебал щи, обжигаясь и почти не жуя, а потом пытался ножом отхватить от кости большой кусок мяса.
– Ваню-ю-юш? – Тихо протянула она, когда Иван утолил жадный голод, и ложка стала погружаться в котелок гораздо реже.
– М? – Иван продолжал есть, после каждого куска издавая сладкий стон и прикрывая глаза.
– Город-то открылся.
– Угу.
– По реке плоты дровяные пришли.
– Хорошо.
– Да. – Устинья оживилась, но радости на лице не было. – А то, почитай, три года без добрых дров сидим. Все сараи да брошенки стопили, уж свои взя́лись разбирать. Тот старый сруб, что надысь у погорельцев брала, уж к концу идёт. Да и было там… Гнилья больше. Так что… Хоть дюжину плотов бы надо взять.
– Надо. – Согласился Иван, хлебом промокая дно опустевшей посуды. – Так бери.
– Бери. – Устинья всплеснула руками, и грудь всколыхнулась под тонкой тканью. – Встали плоты-то. На Таганской заставе. Мытник тамошний не пущает.
– Почто? – Удивился Иван, не отрываясь от еды.
– Да, поди-ка, разбери. Городит чёрти что, прости Господи душу грешную. – Устинья торопливо перекрестилась. – Про указ какой-то твердит, вишь ли, царёва воля. Бает, деи, для похода на Смоленск много всячины потребно, вот и велено все обозы имать в пользу войска. Дабы ратников снарядить.
– А дрова-то войску на что? Да ещё в походе.
– Вот и я про то же толковала. Ладно, хлеб не пущать, холсты или прочее что. Но дрова-то? – Устинья пожала плечами. – Ан ни в какую. Нет и всё. Вчерась люди чуть на приступ пошли. Оно и ясно. Натерпелись за три года-то. Токмо продохнуть помни́лось, а тут на тебе. До того загорячело, стрельцы в воздух палить стали. А в них камнями…
– Ладно, понял я. – Перебил Иван, зная, что если этого не сделать, Устинья может живописать подробности до самого утра. – Надо то чего?
– Ваню-ю-юш. Я ведь этак по миру пойду. Ежели дров не будет. Потолковал бы ты, а. По-свойски. Как-никак, тоже на царёвой службе. Ну?
Иван вытер лоснящиеся губы рукавом и довольный откинулся спиной к стене.
– Потолкую. – Буркнул он, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло.
Устинья визгнула, вскочила и, перегнувшись через стол, коротко, но жарко поцеловала Ивана в губы. А потом, словно опомнившись, хлопнула себя по лбу:
– Во дурында, блины-то забыла.
Она кинулась к печи, и чуть не бегом вернулась с блюдом, где стопкой лежали блины. Иван разочарованно охнул, положив руку на живот.
– Ну, хозяйка. – Усмехнулся он. – Умела приготовить, не умела подавать.
Устинья рассмеялась, ставя на стол миску со сметаной. Иван, сворачивая верхний блин в треугольник, недоверчиво повёл бровью.
– Это с чего такой пир?
– А чего куркулить? В таков-то день. – Простодушно отозвалась Устинья. – Осады боле нет, остальное тоже скоро на лад пойдёт. Заживём, как прежде живали. Спокойно.
– Да погодь ещё с такой радостью. – Иван не хотел портить Устинье праздник, но слова сорвались сами собой и, чтобы смягчить их, он постарался улыбнуться. – Ногаец, вон, говорят, снова в набег хочет идти. Да и поляк ещё вконец не побит. Так что…
– Не побит, так побьют. – Беспечно отмахнулась Устинья. – Скопа их вон как ловко лупит. Что орешки щёлкает. Так что побьёт, это уж как пить дать.
Иван подавил раздражённый вздох и сделал вид, что увлечён очередным блином. Как объяснить владелице бань, что войско Речи Посполитой, осаждавшее нынче Смоленск, не чета разношёрстным отрядам охочих людей, пришедших в русскую землю только, чтобы нажиться под шумок горячей поры. Да, Керножицкий, Зборовский, Жолкевский, а уж тем паче Лев Сапега тоже воевать умели и собрали под рукой большую силу. Но всё же это не король с его кварценым войском и большим пушечным нарядом. Не просто так Годунов14 – вот уж кому в прозорливости не откажешь, упокой господи его душу грешную – с появлением вора Гришки слал в Краков посла за послом. Лишь бы в закипавший спор не вмешалась вся Речь Посполитая, как государство. И долго это удавалось – Жыгмонт15 не запрещал своей шляхте примыкать к отрядам самозванцев, но сам, как король, держался в стороне. Однако всё изменилось, когда новый царь Василий Шуйский обратился за помощью к шведам. А у тех вражда с Польшей длилась уже чуть не полвека, и последние десять лет шла беспрерывная война. Потому Жыгмонт не мог допустить союза Руси и шведов. Так что теперь просто смута в русской земле уже грозила вырасти в побоище трёх держав, средь которых Русь, подорванная чередой восстаний – виделась самой слабой. И это не в шутку беспокоило многих, но только тех, кто понимал суть случившейся перемены. Но большинство ликовало в ожидании скорой победы, и Устинья была среди них.
– А ты вот сёдни в Китай-городе был, так не видал его?
В голосе Устиньи сквозила такая теплота и нежность, что в сердце Ивана кольнуло.
– Нет. – Соврал он, макая блин в сметану. – Другим был занят.
– Эх, жаль. Я вот тоже хотела пойти, да дел невпроворот. А жаль. Говорят красавчи-и-ик. Как с иконы писан. Вот уж кто был бы царь. Не то, что этот мелкорослик. Да ведь?
Иван промолчал, а Устинья вдруг просияла, звонко хлопнула себя по бёдрам и присела рядом. Иван застонал – он уже знал, что сейчас начнётся. Устинья придвинулась ближе, будто хотела поведать секрет, и заговорила тоном малой девчонки, что хвастает перед подружкой редкой сладостью, привезённой отцом из сказочных заморских стран.
– Нынче Глашка приходила. Ну, та что… – Устинья наморщила лоб, силясь придумать, как объяснить, кто такая Глашка, но потом просто махнула рукой. – Да не знаешь ты её. Так она сказывала, будто ещё когда Скопа в Александровой слободе стоял, бояре собрались, да к нему целой толпой пришли. Письмо поднесли, мол, не хотим, чтоб Васька Шуйский нами правил. Хотим, чтоб ты царём стал. Каково, а? Так Скопа, говорят, то письмо в клочья разорвал да ихнему главному прям в харю бросил. А потом велел всех изменников схватить, да в ямы выгребные побросать. Во как.
Иван опустил голову, чтобы Устинья не заметила усмешки. За четыре месяца он слышал эту историю не меньше сотни раз. И в каждом новом рассказе всплывали подробности, которых не было прежде. Но знал Иван и правду. В письмоводной комнате разбойного приказа ему довелось прочитать дюжину доносов от тех, кто самолично был на той встрече. Да, Скопа отказался, но никаких писем не рвал, не швырял их никому в лицо и уж тем паче, не бросал бояр в ямы. Наоборот, пообещал, что никого не выдаст, ибо за годы смуты без того пролилось столько русской крови, что хватило бы с лихвой на целый век.
Вот только благородство молодого воеводы как раз и стало причиной царских подозрений. Ведь по всем порядкам Скопа должен был схватить изменников и в кандалах отправить их к царю. А он этого не сделал. Почему? Те, кто составлял изветы, утверждали, что Скопа отказался лишь для вида, как это делал Годунов, который дважды прогонял прочь послов, приносивших ему скипетр с державой, и принял царство лишь когда в третий раз к нему пришёл с поклоном весь московский люд. А ведь Бориска вовсе не имел прав на трон при живых потомках Рюрика – Шуйских. И хотя Скопа и нынешний царь шли из одного корня, всё же род Скопиных считался старшим. Да, лествичный закон давно канул в Лету, уступив место семенному праву, но для тех, кто плутает в тумане смутных времён, забытый порядок предков мог вновь обрести силу. Тут же злые языки припоминали, что сам Василий сел на царство не по воле всенародного собора, а был посажён узким кругом избранной думы; что патриарх так и не венчал его на царство, хотя прошло уже четыре года; и главное, что у государя в его пятьдесят семь до сих пор нет детей, а значит, после его смерти кровавая карусель непременно завертится с новой силой. А раз так, то многие считали, что для настрадавшейся земли будет куда лучше, если царём станет Скопа. Все эти сплетни, конечно, доходили до царя, так что сведущие люди всерьёз опасались, как бы дядя и племянник не сцепились, опять погрузив Русь в кровавый морок. Но Устинья была из тех счастливых обывателей, что видят только лес, не различая в нём кустов, деревьев, сухостоя.
– Во каков Скопа! – Восхищённо закончила она свой рассказ. – Разве такой ляхов не побьёт? Ещё как побьёт. Удирать от него Жыгмонт будет, токмо пятки засверкают.
– Ну, тебе в сём деле видней. – Иронично отозвался Иван. – Ладно, Устиша, будет. Пойдём спать. Умаялся нынче. А завтра спозаранку снова дел уйма. Одно важней другого.
– А чего ж сразу спать-то? – Спросила Устинья, стараясь показать обиду. – Я тебя, небось, три дня ждала, не чтобы спать улечься.
Она прижалась к Ивану, налегла на него всем телом и, потянувшись, задула лучину в настенном светце. Потом, встав перед Иваном уже в полной темноте, лишь слегка разбавленной серебристым отсветом свежего снега за окном, она одновременно дёрнула обе лямки расстегая. Платье с шорохом упало на пол, а уже в следующий миг Устинья осталась вовсе без одежды. Сонная нега тут же слетела с Ивана и, довольно мурлыкнув, он рывком на руки подхватил голую Устинью.
Глава третья
На следующее утро, едва поредевшие тучи окрасил пурпурный рассвет, Иван вошёл во Всесвятские ворота Китай-города, слева от которых, втиснутый меж Кривым переулком и крепостной стеной, лежал Большой тюремный двор, обнесённый частоколом в два ряда и обведённый рвом не меньше двух саженей в глубину. У закрытых ворот уже ждали Минька и Молот. Первый, как всегда, что-то говорил, в азарте подпрыгивал на месте и так увлечённо махал руками, что даже не заметил появления Ивана. Федька же, плечом подперев могучие брёвна ограды, молча слушал Самоплёта и, лишь изредка кивая, с хмурым видом ковырял носком сапога грязь.
– Про что звенишь? – Насмешливо спросил Иван.
Пожав Миньке руку, он несколько раз ударил кулаком в ворота, от чего с той стороны раздался лай разбуженных собак.
– Ох, Иван Савич. Тут вчерась тако было. Сударики мои. – Минька прыснул, предвкушая триумф, которого не дождался от Федьки. – Я решил успех наш обмыть, зашёл в кабак, что у Николы Мокрого, не далече здесь. А та-а-а-м. Князя Трубецкого послужильцы с холопами Шуйских так схватились, чуть бороды друг дружке не порвали.
– Хм. – Иван вяло усмехнулся и на этот раз постучал в ворота ногой. – И почто собачились?
– Ха. Шуйские бахвалиться стали, мол, нынче, с иноземным войском под рукой, нам никто не страшен. Деи, мы теперь одним махом, всех побивахом. А трубецкие в ответ, мол, это из-за вашего царя Смоленск в осаду сел, а коли так, вот сами с Жыгмонтом и бейтесь. А нашим господам сие ни к чему. Царь ваш шведам продался и вскорь на хлебные места сызнова всяка шваль иноземна сядет, как при воре Гришке было. Так ради чего нам в рать иттить?
– Вот же бестолочь. – Покачал головой Молот.
– Не скажи. – Назидательно возразил Иван, опять заколотив по доскам. – У нас нынче в большой думе, считай, треть бояр из Гедиминов16. И у всех в Литве родня. Пуще того – промысел торговый. Оттуда к ним серебрянны реки текут, а тут таково. Война. Ясно дело, им сие поперёк горла.
Иван хотел продолжить, но тут открылась боковая калитка, и сонный стражник недовольно спросил: чего надо? Узнав, кто и зачем явился в столь ранний час, он пересказал всё кому-то ещё и скоро в проёме, столь узком, что пройти возможно было только боком, показался Пётр Агибалов – главный надзиратель всех московских тюрем.
Иван поздоровался просто кивком – он недолюбливал Агибалова. Тот стал дворским лишь потому, что вошёл в семью – женился на троюродной племяннице главы разбойного приказа. Теперь же, заняв третью по рангу должность, Пётр Агибалов даже на подьячих смотрел свысока, а уж приставов и вовсе в грош не ставил. Особенно, не вёрстанных, таких, как Молот с Минькой, хотя на их плечах, в сущности, и держалась вся служба. Да, они не могли похвастать знатным родом и кристальной чистотой не отличались, однако дело своё знали и городской порядок берегли. Как умели и могли, но всё же берегли. Четыре года поварившись в этом котле, Иван прекрасно понимал, что если не станет вот таких вот Минек с Федькой, уже завтра Москва утонет в крови и слезах горожан. Потому подьячий Воргин иной раз закрывал глаза на плутни подначальных, вроде той, ради которой они оказались здесь этим пасмурным утром. А вот дворский Агибалов… На памяти Ивана тот никогда не упускал возможность получить мзду за помощь в беззаконном деле, но стоило кому-то из чинов на чём-нибудь попасться, главный надзиратель Москвы тут же спешил донести на опальника первым, вспоминая все его грехи, вплоть до мелкого проступка.
– Тартыги17 нащи где? – Спросил Иван без лишних предисловий.
– В барышной, как просил.
Иван шагнул к калитке, но дворский встал так, чтоб мимо него было не пройти, и нарочито медленно потёр раскрытую ладонь правой руки большим пальцем левой. Иван понял намёк и, усмехнувшись, протянул серебряный рубль. Агибалов с довольным видом принял монету и посторонился.
Большой тюремный двор Москвы представлял собой узкий проход меж двух длинных бараков, внутри разделённых глухой стеной на несколько отдельных помещений – для разных злодеяний здесь имелась своя изба. В холопьей сидели беглые крепостные; в заводной – зачинщики и главари шаек; в опальной – государевы служаки, что попались на посулах18; в женской – бабы; в татарке – иноверцы, а в разбойной избе с колодками на шеях томились душегубы. Но самым страшным местом считалась чёрная изба – она стояла на отшибе, в дальнем торце двора, чтобы никто не слышал вопли тех, кто попал туда на разговор с пристрастием.
– В разбойной нынче как? Тесно? – Спросил Иван, когда они бок о бок с дворским шли меж бараков. Самоплёт и Фёдор держались чуть поодаль, чтобы не злить хозяина тюрьмы.
Агибалов вдруг замедлил шаг, а потом остановился.
– Э-м-м. А ты это… – Сконфужено промямлил он. – Тебе-то на что? Твои в барышной, говорю же.
Иван посмотрел на дворского с интересом. То, что столь высокомерного зазнайку вдруг смутил простой вопрос, несказанно удивило Воргина.
– Да хотел тартыгам показать. Для острастки. Дабы малость размягчились.
– Ах, вон чего. – Взгляд дворского растерянно забегал. – Нет, не выйдет. Там нынче всё битком, не сунешься.
– Так и лучше, что битком. Пущай глянут, где окажутся, коль не сговоримся.
– Да нет же, говорю. – Раздражённо перебил Агибалов, но под пристальным взглядом Ивана, несмело предложил. – Уж ежели пугнуть хошь, можно в чёрную сводить. Там заплечник мой, Живодёром кличут, как раз крамольника спраша́ет. Такое увидать… Любого смутит.
Иван задумался.
– Живодёр, говоришь? Нет, слишком. Как бы удар не хватил. Таких-то малохольных.
– Это как знаешь. – К дворскому на глазах возвращалось спокойствие, а с ним и чувство превосходства. – Тебе видней.
– Ладно, коли так. – Согласился Иван. – Попробуем сами в мягких рукавицах взять, а уж ежели брыкаться станут, тогда в ежовых зажмём. Минька, давай.
Кивнув, Минька взбежал по трём крутым ступенькам к двери барышной избы, откинул запор и шагнул внутрь. За ним последовал Иван, Молот замыкал шествие и, войдя, остался на пороге – в предстоящем деле он пока был бесполезен. В начале их дружбы Иван всерьёз подозревал, что Фёдор немой, пока сам не услышал, как пристав на одном дыхании выдал таких скабрезностей в три этажа, что покраснели даже распутные девки с Никольских торговых рядов.
Тогда их матушка велела хорошенько проучить за строптивость новую девчонку. Что именно та натворила, осталось секретом, но трое пьяных подручных вошли в раж и стали творить такое, что от воплей бедолаги соседские собаки, скуля, порывались убежать подальше вместе с конурой. Вмешаться никто не решался, да и кому есть дело да беспутной девки, и только Молот не остался в стороне. На то, во что он превратил тогда семерых сторожей гулящего дома – ещё четверо позже прибежали на подмогу – Иван не мог смотреть без содрогания, но когда сам попытался остановить Федьку, тот, рыча, оскалившись по-волчьи, ошпарил его таким взглядом, что Иван онемел и прирос ногами к земле. А вот когда уже после драки матушка решила пристыдить буяна, Молот и выдал ту знаменитую тираду, без единой запинки объяснив сводне, что, как и сколько раз он проделает с ней, если подобное повторится. Но такая вспышка случилась единственный раз, и все три года, что прошли с тех пор, Федька Молот был так скуп на разговор, словно платил чистым золотом за любое сказанное слово.
В барышной избе на сыром земляном полу, кое-где присыпанном соломой, в разных позах лежало и сидело десятка два человек. Большинство в оборванной изношенной одежде, с патлами отросшей бороды и нечесаной гривой, густо покрытой гнёздами вшей. Подождав, пока глаза привыкнут к полумраку, Минька отыскал вчерашних татей. Все пятеро расположились у стены, рядом отхожей бочкой, от которой разило так, что даже труп, наверняка, сумел бы встать, чтоб отойти подальше. Но юные гуляки видимо, измучились настолько, что не находили сил подняться. Они лежали на куче гнилой соломы, накрытые грязной дырявой кошмой. Присев рядом, Минька откинул войлок и, разглядев Перевёрстова, ткнул его в ногу пустым концом шестопёра. Пленник вздрогнул и, приподнявшись на локте, обвёл избу мутным больным взглядом, в котором при виде Миньки затеплилась надежда.
– Моё почтение, сударь. – Сказал Минька со всем уважением, на которое был способен, и даже чуть приподнял заячий треух. – Как ночевали?
Ответом стал болезненный стон. Юноша с трудом сел. В нём трудно было узнать вчерашнего гостя харчевни – лощёного румяного сына знатного торговца, который с младенчества привык, что любая прихоть исполняется без промедления.
– Вы что? Вы отпустите нас?
– Отпустить? – Минька с искренней печалью качнул головой. – На жаль нет.
– Тогда чего ещё вам надо? – Тонко пропищал юнец и на красных набухших глазах сверкнули слёзы.
– Нам? Да нам-то ничего. Мы своё дело сделали. Тартыг словили, на том всё. – Минька тяжело вздохнул и, недолго помолчав, продолжил, сочувственно глядя на паренька. – Токмо вот… Душа не на месте. Не добром как-то всё. Потому хотим тебе помочь.
– Что? – Недоверчиво спросил Перевёрстов, а его товарищи, из которых прежде никто не шевельнулся, разом поднялись с мест.
– Да, помочь. – Подтвердил Минька. – Показать, как отсель выйти. Хочешь?
– Э-эм. Ну, да, само собой. – От волнения у юноши перехватило горло. Он нервно растёр грязной ладонью шею, несколько раз моргнул и потряс головой. – А ч-что для того н-надобно?
– Да, ну, так, сударики мои. Сущая мелочь, ей Богу. Записку отцу послать. Так, мол, и так. Вляпался сдуру, выручай, родитель. Обратись, мол, к подьячему разбойного приказа Воргину Иван Савичу. Всё. Боле ничего.
Перевёрстов тяжело сглотнул и опустил глаза:
– Он меня убьет.
– Да брось ты. – Отмахнулся Минька. Он говорил спокойно, дружелюбно, даже ласково и нежно. – Послушай. Мы ж тебе не враги. Губить тебя, молодого, не хотим. А ведь можем по закону. В таком разе ушлём тебя из Москвы в такие дали, вовек не найдут. И не увидишь боле ни отца, ни мамы. Ну? Разве дело так? Тебе ведь ещё жить да жить, отцовское добро множить.
Вдруг Перевёрстов так резко вскинул голову, что Минька подался назад и крепче сжал шестопёр. Дрожащей рукой юнец провёл по лицу, вместе с грязью размазав слёзы.
– Нет! – Нервно выпалил он. – Беззаконно это! Против правды. Нет у вас на такое власти, нет!
Минька сморщился, как от зубной боли, и повернулся к Ивану. Тот лишь приподнял руку и тут же от дверей устремился Молот, напрямик, тяжёлым пинком награждая всех, кто встречался ему на пути. Подскочив к Перевёрстову, он схватил его за сапог, но тот соскользнул, и Федька швырнул подкованную обувь прямо в лицо паренька. Потом снова нагнулся к жертве. Перевёрстов завизжал и скорчился в комок. Его товарищ, сидевший рядом, попытался встрять, но после одной оплеухи без чувств рухнул на пол. Молот крепко ухватил босую ногу и потащил Перевёрстова к двери. Иван двинулся за ним, Минька, грозно цыкнув на остальных, поспешил следом.
На улице Молот сразу поволок несчастного меж бараков к чёрной избе. Иван с Минькой едва поспевали. Федька даже чуть не смёл с дороги двух стражей, пытавшихся его остановить. Влетев на крыльцо, он рывком втащил обмякшее тело в дощатые сени, откуда пять крутых ступеней вели в подклет. В его глубине царил могильный холод и тьма, в непроглядном саване которой кто-то едва слышно стонал и неразборчиво что-то скулил: то ли просил пощады и смерти, то ли грозил божьей карой. Слабый огонёк, едва горевший в нутре железной чаши, отбрасывал красноватый свет на каменный пол в пятнах высохшей крови, а сквозь решётку в оконце у потолка проникал слабый луч, что выхватывал из мрака лишь кусочек каменной стены, да в ней крюк с кандальной цепью и ошейником на конце. Стальной обруч стягивал тонкую длинную шею – только кадык да позвонки. Голова в чёрных шматках палёных волос свисала на грудь – обтянутые кожей рёбра. Две хворостины рук безвольно висели вдоль истощенного тела, покрытого слоем засохшей грязи и струпьями язв.
– О, глянь-ка, Кизяк. – Прозвучало в темноте. – Свежего мясца нам принесли. А ну-ка, поддай свету.
Кандальник шевельнулся, издал невнятный звук – то ли храп, то ли болезненный стон – и снова замер. Однако тут раздался грозный окрик и Кизяк, испуганно вздрогнув, попытался встать, но сил не хватило, и тогда несчастный под мерный звон цепи уполз в темноту на четвереньках. Вскоре костлявая рука с пучком сухих веток мелькнула у костровой чаши. Тут же ярко вспыхнул огонь, и каземат залил багровый свет. На каменных стенах заиграли тени, дюжина крыс с тревожным писком забились под обитый кожей стол, где в пять ровных рядов лежали крюки, щипцы и тиски для дробления пальцев. Рядом, задрав связанные руки, на цыпочках стоял совершенно голый человек: на кроваво-синем лице запеклись остатки жжёной бороды, тело покрывали рубцы свежих ран, с ног свисали лоскуты кожи. А чуть поодаль, на широкой лавке вольготно развалился палач: по пояс обнажённый детина с густо заросшей грудью и абсолютно лысой головой без одного уха. Щучье лицо Живодёра, будто сжатое с боков, насквозь пересёк рубцеватый шрам, из-за чего правый глаз с молочным бельмом всегда оставался открытым, а уголок рта не двигался, даже когда палач говорил.



