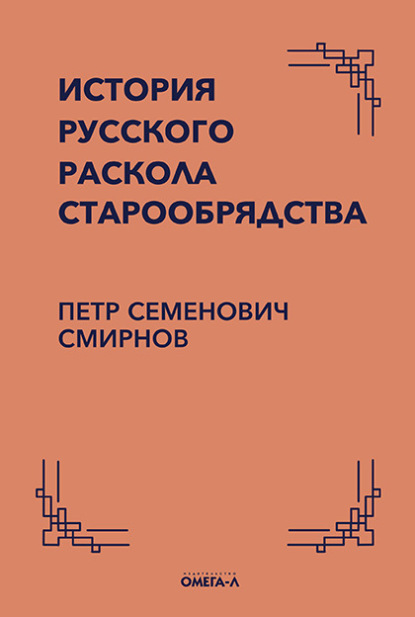
Полная версия:
История русского раскола старообрядства
Первый опыт более тщательного исправления первопечатных книг был произведен там, где провел последние дни своей жизни преп. Максим Грек. Это было после смутного времени, в междупатриаршество. В Москве задумали напечатать Потребник. Исправление его было поручено Дионисию, архимандриту Троицко-Сергиева монастыря. В сотрудники ему были даны старцы канонархист Арсений Глухой, книгохранитель Антоний Крылов и священник подмонастырского села Иван Наседка. «Иные извычные книжному учению старцы» могли быть по «избранию» архимандрита. Выбор правительством и места и лиц был весьма удачен: ибо там – «в обители и книгами исполнено» и есть «разумные старцы» способные на дело, – говорилось в царской грамоте; в среде избранных было и сознание необходимости исправления наших книг. Поэтому троицкие справщики отнеслись к порученному им делу серьезно. «Полтора года день и ночь сидели» они над исправлением Потребника. Положив в основу «макарьевский перевод», справщики сверялись, кроме того, со «многими переводами» славянскими, древность которых восходила за «полтораста лет и больше». Справщики замарали слово «и огнем» в водосвятной молитве, исключили две молитвы, которыми священник пред литургией разрешал сам себя от грехов, внесли молитву храмине. Кроме Потребника справщики пересмотрели: Цветную Триодь, Октоих, Общую и Месячную Минеи, Псалтирь и Каноник; главное исправление состояло в изменении славословий молитв, обращенных к одному Лицу св. Троицы и оканчивавшихся: «и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и св. Духу». В 1618 году архим. Дионисий привез свой труд в Москву для представления духовной власти и, по его челобитью царю, в июле был собор, под председательством митр. Ионы. Собор не только не одобрил сделанных в Требнике исправлений, но и самих справщиков осудил как еретиков – за то, что они «имя св. Троицы в книгах велели марать и Духа святого не исповедуют, яко огнь есть». И нельзя много удивляться этому! Могли ли судить иначе невежественные ревнители буквы, разъяснявшие дело собору, не знавшие «ни православия, ни криво славия, божественныя писания точию по чернилу проходившие»?! Могли ли они понять догматические основания сделанных исправлений?! Мало того, исправления коснулись церковного обряда: исключив слово «и огнем», троицкие справщики признали как бы ничего незначащим обряд погружения в воду, при освящении её на Богоявление, зажженных свечей, в силу которого появилось слово «и огнем» и которым, по мнению русских, совершалось самое освящение воды. Обряд этот был известен всему народу и народ легко понял новую мнимую ересь. Дионисия и Наседку собор запретил от священнодействия, а Арсения и Антония отлучил от св. причастия.
Четыре дня Дионисий был приводим для допроса на патриарший двор, с «позором» и побоями; в Вознесенском монастыре в кельях матери царя инокини Марфы его подвергли пытке; наконец послали в Новоспасский монастырь: здесь велено было Дионисия бить и мучить сорок дней и в дыму ставить на полатях. В праздничные и торговые дни митрополит приказывал привозить верхом на кляче скованного Дионисия на патриарший двор и здесь заставлял его класть поклоны под открытым небом, пред толпами народа; грубая чернь ругалась над мнимым еретиком, бросала в него грязью. Арсений Глухой томился в железах на Кирилловском подворье. Около года тяготело осуждение над справщиками, и все это время дело их волновало общество: тогда, по выражению современников, в Москве «возста зельная буря, возгорелся велик пламень». Только с приездом (апрель 1619) в Москву иерусалимского патриарха Феофана послышался голос в пользу троицких справщиков и дело вновь было пересмотрено на соборе. В продолжении восьми часов Дионисий блистательно защищал свои исправления, и все справщики были оправданы. Тем не менее слово «и огнем» не сразу было уничтожено, – его печатали по-прежнему, только с замечанием на поле: «быти сему глаголанию до соборнаго указу». Очевидно, народное волнение требовало осторожности и мудрый Филарет Никитич понимал это. В 1625 году последовал указ об уничтожении слова «и огнем», потому что были получены грамоты патриархов александрийского и иерусалимского, вместе со списками из древних греческих книг богоявленской молитвы, за подписями патриархов; но и тут патриарх Филарет оговорился, что «погружение свеч» оставляется по прежнему. «Буря» после этого затихла, но глухой ропот остался…
Уничтожение слова «и огнем» лишь после того, как было получено свидетельство с Востока, стоит вне связи с порядками книжной справы того времени, потому что оно основывалось на показании древних греческих книг и не имело никакого влияния на перемену взгляда на новые издания этих книг. Важнее по своим последствиям были представления Троицких справщиков. Они указывали два средства для организации книжной справы на лучших началах: а) иметь образованных справщиков и б) особых из столичного духовенства наблюдателей за печатанием. И действительно, в патриаршество Филарета (1619–1633) печатники теряют свое значение, имена их выставляются в издаваемых книгах реже, а затем и совсем не упоминаются; зато состав справщиков быстро пополняется и притом лицами по тому времени образованными. Во главе их были поставлены два опытных троицких справщика: Арсений Глухой и Антоний Крылов. В качестве наблюдателей и цензоров трудились: игумен Богоявленского монастыря Илия и ключарь Успенского собора Иван Наседка, бывший сотрудник Дионисия. Филаретовские справщики относились к своему делу серьезно; напр. над исправлением Устава они трудились несколько лет с большим вниманием и критическим тактом, так что в издании его дали книгу сравнительно исправленную. Были приняты некоторые исправления и замечания арх. Дионисия; списками пользовались сравнительно лучшими, наиболее древними, которые нарочно для этого собирались из монастырей. Но, конечно, пользование одними славянскими книгами было средством недостаточным. Кроме того, справа не коснулась всех книг, изданных при п. Филарете: книг напечатано было много, а исправлены только Требники 1624 и 1625, Служебник и Следованная Псалтирь 1627, и Уставы 1632 и 1633 гг. Отсюда в разных изданиях одной и той же книги появлялись разности. Не были изъяты из употребления и дофиларетовские издания. Таким образом цель приведения к единству и согласию церковных книг и чинов не была достигнута и при патр. Филарете.
При патриархе Иоасафе I (1634–1640), преемнике Филарета, организация книжной справы изменилась к худшему. Он не имел и не мог иметь той силы и влияния, какою обладал великий государь патриарх Филарет. Вмешательство патриарха в дела печатного двора, находившегося в ведении приказа Большого дворца, было теперь отстранено; царские указы на счет исправления и печатания книг, рассылавшиеся по епархиям, исходили даже без упоминания имени патриарха; книги издавались, правда, с благословения патриарха, но в выходных листах нигде не говорилось, чтобы они свидетельствовались патриархом, как это было при Филарете. На печатном дворе получили силу и известность уже не справщики и не печатники, а приказные. Состав филаретовских справщиков был заменен новыми малоизвестными людьми, – остался лишь Арсений Глухой. Некоторое время ограничивались перепечаткой филаретовских изданий; затем в иоасафовских изданиях стали появляться изменения и отличия от прежних изданий, состоявшие в отмене некоторых чинов и обрядов, изложенных в филаретовских Требниках и Служебниках, и в замене их новыми. Насколько при этом справщики поступали нередко произвольно, видно из того, как издан был Номоканон. Номоканон составлен на Афоне около половины XV века, а в Москве напечатан в 1639 году как переделка печатного киевского издания 1624 года По сохранившейся в библиотеке московской Синодальной типографии рукописи Номоканона, с которой набран текст иоасафовского издания, видно, что, предварительно переписав печатный киевский Номоканон, справщик до трех раз принимался черкать и марать рукопись, делая поправки – частью руководясь утвердившимися в Москве церковными обычаями, частью на основании печатных и рукописных книг, частью просто до своему усмотрению.
По смерти Иоасафа († 28 ноября 1640) до посвящения патр. Иосифа (27 марта 1642) печатание книг не прекращалось; заведовавшие печатным делом продолжали руководиться личными соображениями. Напр. при издании Каноника было повторено филаретовское издание (1631 г.); напротив, при издании церковного Устава (1641 г.) справщики как бы намеренно игнорировали труды своих предшественников по изданию Устава 1633 года; внесли 19 новых статей против последнего и в общем возвратились к уставу 1610 года, осужденному патр. Филаретом.
При патриархе Иосифе главными книжными справщиками состояли протопоп московского во имя Черниговских чудотворцев собора Михаил Рогов и ключарь большого Успенского собора Иван Наседка, помощниками – старец Савватий и миряне Шестой Мартемьянов и Захарий Афанасьев. Под конец патриаршества вновь были определены: архимандрит Андроньевского монастыря Сильвестр – главным справщиком, Захарий Новиков и Сила Григорьев – помощниками. Иосифовские справщики работали усердно и много; при п. Иосифе было издано книг столько, сколько не выходило ни при одном из прежних патриархов, и большинство изданий принадлежало к разряду книг богослужебных. Исправление в последних теперь коснулось как состава книг и распорядка статей, так и языка их. По изложению иосифовские богослужебные книги представляются сравнительно лучшими; по содержанию они в одном сходны с изданиями иовлевскими, в другом с филаретовскими, в ином с иоасафовскими, а во многом разногласят со всеми. Так как поправление производилось только по славянским книгам, то недостатки были неизбежны. Сами иосифовские справщики хорошо сознавали неисправность русских богослужебных книг, как рукописных, так и печатных, о чем и засвидетельствовали в предисловиях и послесловиях своих изданий.
§ 6. История обрядовых особенностей на Руси и утверждение мнений ошибочных
В то время, как созревал вопрос о наших богослужебных книгах, постепенно выдвигался и другой вопрос – о церковных обрядах. Церковные обряды переходили к нам из Греции: так было при принятии христианства, так было и впоследствии. Так как в восточной Церкви в разное время и в разных местах употреблялись различные обряды, то это разнообразие разными путями было заносимо и в русскую Церковь. Позднейший обряд, случалось, вытеснял прежде употреблявшийся, между тем как в греческой церкви получал всеобщее употребление именно этот последний. Таким образом и в обрядовой стороне русская Церковь с течением времени порознилась от греческой. Когда в Москве появилось книгопечатание, русские обрядовые особенности, будучи заносимы в церковно-богослужебные книги, чрез это самое получили в глазах общества, так сказать, узаконение, именно как отличительная особенность неповрежденного русского православия в его отличии от «замутившегося» православия греческого.
Важнейшие из таких обрядовых особенностей суть следующие: а) посолоние в церковных кругохождениях. Когда и откуда явился на Руси обычай ходить по солнцу, – сказать трудно. Один памятник XVI века, писанный на Афоне, называет посолоние латинским обычаем. Когда в XV веке в Москве возгорелся спор о том, что правильнее – посолоние или противосолоние, то последнее одержало верх; но с течением времени противосолоние стало уступать посолонию, так что, когда открылось книгопечатание, требование посолония было занесено в Требник 1602 года в чине венчания, в Устав 1610 года в наставлении – как осенять крестом в праздник Воздвижения, и в Требник 1623 года в чине освящения церкви. б) сугубая аллилуия. Так как в греческой Церкви произношение песни «аллилуиа» в разное время было не одинаково: в древнейший период употреблялось троение аллилуиа, затем, начиная с XI века, вместе с троением имело место и двоение, наконец, вероятно уже в первую половину XVII века, троение стало господствующим, – то и в русской Церкви не могло быть единообразия. Сомнение о том, как петь аллилуиа, возникло, как известно, в XV веке; спустя более столетия после этого на Стоглавом соборе подучил узаконение один способ этого песнопения – усугубление. Устав 1610 года – первая московской печати книга, в которой в первый раз встречается сугубая аллилуия, в) седмипросфорие. Число просфор, употребляемых на проскомидии, в разное время было неодинаково, как в греческой Церкви, так и в русской: в первой оно доходило до семи, во второй до восьми, хотя существенно необходимою признавалась собственно одна просфора – для изъятия агнца, почему, по нужде, и в Греция и в России, дозволялось совершать литургию и на одной просфоре. В частности, седмипросфорие вошло в практику русской Церкви позднее (XV в.), чем пятипросфорие (XIII в.), узаконено же было только в патриаршество Иоасафа, при издании Номоканона (1639 г.); в киевском издании Номоканона, с коего производилось печатание Номоканона в Москве, согласно с греческим подлинником говорится: «на святой проскомидии пять просфор да имаши»; иоасафовский справщик, зачеркнув слово «пять», написал сверху «семь» и, затем, указал значение каждой просфоры, дав таким образом общее правило седмипросфория. Что же касается московских старой печати Служебников, то в них полагалось только шесть просфор и лишь в монастырях семь. г) двоеперстие,
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



