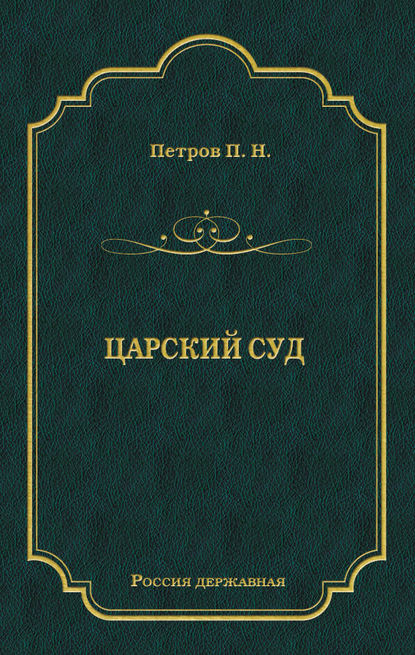 Полная версия
Полная версияЦарский суд
– Давай еще меду крепкого, ирод… было бы уж за что пропадать!
– Какая те пропасть мерещится, милый ты человек?.. – ласково обратился к гуляке разудалому хитрый плут, разыгрывавший слепца и дедушку. – Нам не жаль, паря, угостить твою милость… И сами-ста хватить не прочь за твое здоровие; как величать только, не знаем?..
– Субботой батька с маткой прозвали, Гаврилой поп нарек, а род наш, бают, Осорьины будто… коли я это на белом свете мыкаюсь, а не леший в моей шкуре.
– О, так милость твоя хорошего роду… прощенья просим по приятстве, как, бишь, по родителю-то?
– Много захотел! Еще и родителя тебе выдать ответчиком за мое безобразье… я один в деле – один и в ответе… – проговорил охмелевший Суббота, залившись горькими слезами при мгновенном просветлении сознанья.
– Малый, видно, и впрямь бывал из порядочных да закрутился… А жаль… видный молодец… Хоша и на службу царскую выставить.
– А ты думаешь, олух, что мы не служивали?.. Вр-решь!.. Бывали на Коломне, на смотру два лета да и отбывали все как надлежит, с нарядом, в полном сборе… Ты что знаешь? Ась? Мишуков цукать?.. Так куда же со мной?.. Не замай!..
– Да я не прогневлять твою милость, а с доброго сердца хотел поздравствовать… по отечеству взвеличать.
– То-то! По отечеству величать? Изволь: батько Захар-Удача мой… Меду! Пьем! – И, осушив тяжелую стопу, скатился совсем обессиленный удалец под лавку и захрапел, вздрагивая по временам в тяжелом сне.
В кабалу, с пересказа мнимого слепца, вошло полное имя закрепощенного ватагой – и отпереться ему от дачи кабалы нельзя, за вставкою трех послухов[3], якобы упрошенных самим отдавшимся своей охотой.
III
Где правды искать?
В ватаге ладил Суббота с медведями одними. Косматые скоморохи полюбили не на шутку своего плясуна. А иной раз, как расходится наш угар-молодец, он забывал и свою ненавистную долю, носясь в бешеной пляске между подпрыгивающими мишуками. Случись в Ржеве-Пустой быть на представленье вдове молодой, боярыне. Понравились ей ради новости и оживленные медвежьи прыжки, и разные кривлянья, искажавшие человеческие ощущения, по звериному уменью. Но когда выпрыгнул Суббота и начал с судорожной дрожью похлопывать и подергивать Марью Ивановну, нисколько и не гневавшуюся за эти любезности, – боярыня глаз не спускала с ловкого и осанистого Субботы и, сама не зная как, заразилась тоской по красавцу. Всего один раз встретились глаза зрительницы и плясуна. Как же не назвать после этого такого молодца выходцем с того света? Ни хожденья по монастырям, ни обильные милостыни, ни отчитыванья опытных в духовном врачестве старцев и стариц – ничто не помогало бедняжке. Говорят, и теперь она еще все тоскует да хиреет, места не находя себе от тоски. Бесстрашный глава ватаги один только руки себе потирает, глядя, как после каждого представления с Субботою, при обходе с бубном рядов распотешенных слушателей, обильные сборы денежек с лихвою уже усотеряют его взнос за удалого плясуна кабатчику. Сам плясун был между тем постоянно мрачен и озлоблен. Никому он ничего не говорит да и не слушает, что ему говорят. Выходит к публике нечасто, на своей полной воле: не захочет – ничем не принудишь и не уговоришь. На уговоры и умасливания упрямец начнет только бросать озлобленные взгляды да затрясется иной раз от бешенства. Приносят ему и склянку с одуряющею влагою, но не всегда схватится за нее этот изверг не изверг, а дикарь. Заведомо с черным делом, должно быть, на душе, если еще не хуже что – могли с некоторою даже вероятностью, пожалуй, думать сторонние люди, кому выпадал случай видеть Субботу озлобленного и мрачного. Когда же хватить удастся всепримиряющей хмельной браги или горячего вина – делается он сам не свой и, отуманив, разумеется, ум, развертывает удаль свою до полного очарования дивовавшегося зрителя. Быстрота бешеных перевертов и дерзость прискоков выходят уже из всяких пределов. Что тогда делает он из медведей – мудрено пересказать: звери повинуются ему рабски, мгновенно очарованные пламенем устремленного на них взгляда, истинно адского. Тут уже в кружащейся голове зрителей сливаются в одно и пляски медвежьи, и сверхчеловечья удаль, с мельканьем еще каких-то будто образин, высовывающих языки словно под гул высвистыванья сквозь зубы плясуна. И пока продолжаются эти бесовское крученье, с гиканьем под звуки бубна, и писк дудки вожака – у зрителей только сердце замирает от какого-то дикого непередаваемого ощущения. Жилки все трепещут у самого бесстрашного человека, а оторваться от потехи и разрушить чары нет ни силы, ни воли.
Между тем с плясуном самим после каждого представления стали делаться обмороки, и довольно продолжительные. Он стал реже поддаваться искушению осушить стопу. Отталкивая же от себя ее, он стал дольше упорствовать в отказе выхода на пляску, когда собирались толпы зрителей. А уж между зрителями много наезжать стало хорошего народа, особенно людей торговых, ничего не жалеющих на потеху. Вожак ватажный, выведенный раз из терпения, посулил железный прут упорствующему кабальному.
– Коли не слушаешь упросов, ужо мы те вот чем научим послушанью!.. – да и замахнулся на угрюмого плясуна старик. Не владел он уже собою, как увидел, что народ начал расходиться, прождав напрасно пляски с утра до полдня.
Только и видел свой прут глава ватаги. Поняв сущность угрозы, силач Суббота свил прут этот, чуть не в палец толщиною, в шнурочек меньше четверти да и бросил его в испуганного угрожателя.
– Есть не дадим – смиришься поневоле!.. – решил мнимый слепец, запирая на замок каюту упрямца, который при этом только больше побледнел.
Прошло два дня. Замок не отпирался, да и узник не давал знака, чтобы в чем нуждался или чего желал. Проезжал на ту пору дьяк приказный из Великого Новагорода и стал просить главу ватаги потешить его – показать пляски человечьи с медведями.
– Ваша честь, хоша и прискорбно нам, а должны мы донести твоему степенству, что всей бы душой рады показать это самое… да боюся, с упрямцем ничего не поделать… хуже, чем дерево…
– Какой упрямец?
– Да этот самый проходимец, плясун-от наш, обозлился сам не знает про што и с голоду мрет, а не покоряется.
– Да какой он такой человек есть?
– Попросту сказать, кабальный мой… пошел к нам в кабалу за одиннадцать рублев, в прожиток, да от рук отбился… И вином спаиваем, кажись, вволю, да норовит вельми, и норову самово проклятого: не захочет – ни в жисть не принудишь…
– А коли кабальный – чего же с ним и толковать: в кандалах под плеть! Она, друг сердечный, хоша какую дурь выгонит неотменно. Пробрать бы его только…
– Коли бы милость твоя сам его в чувствие привел?
– Почему не так. Приведите…
Стали стучаться в закуту Субботину, отомкнули замок. Не откликается. Отворили дверь – лежит он ничком, а не спит.
– Его милость дьяк с Новагорода зовет тебя.
– Что ему надо?
– Хочет просить тебя досужество показать.
– Дьяк… из Новагорода? Слаб я от нееды.
– Подкрепись. Вольно же тебе упрямиться да на все серчать, на еду даже.
– Я на еду не серчал, а тебе покориться – ни в жисть.
Явилась закуска и брага и водка. Мнимый слепец, кланяясь, повторял:
– Голубчик, Субботушка, не губи ты моей головушки, не круши себя, кушай, что душеньке угодно. Потешь его милость только. Машенька стосковалась по тебе. От еды, сердешная, отстала. Ей-богу, право!
Суббота принялся за еду, язвительно усмехаясь. Насытился и, отпихнув поставец, встал и спросил: где там дьяк-то?
Набольший поспешил уведомить его милость, что одно упоминанье про его честь возымело надлежащую силу на упрямца, нет сомнения, готового показать свою удаль. Дьяк с самыми приятными ожиданиями встретил рослого молодца, подошедшего довольно развязно и спросившего: зачем звали его?
– Говорят, молодчик, ты горазд с медведями плясать, на удивленье миру крещеному, людям на потеху…
– Тешить черный народ – мужицкое дело; а я сам себе господин!.. – вдруг недолго думая ответил надменно вошедший. – Пока хочу – пляшу!
– Кабальному, как ты, советовал бы я господином не величать себя и старшему повиноваться.
– Кабальному, баешь?.. Не мне, значит. Я сын боярский, и я кабалу не принимал.
– И то лжешь, сударик! – поспешил возразить ласково вожак ватажный…
– Ни в жисть не лгал и тебе не советую.
– Как же не лжешь, коли отрекаешься кабалы, а она у меня за пазухой.
– Может, и есть у тебя, добрый человек, кабала чья ни есть, не оспариваю.
– На тебя кабала у меня, а не чья другая.
– На меня никто кабалы тебе дать не может.
– Ты сам, голубчик, никто другой… за выкуп от кабатчика…
– Я кабалы на себя не давал, и ты не просил…
– За долг, милый человек, кабала дана… за долг.
– Кем дана?
– Тобой.
– Покажи… Не во сне ли я?..
– Изволь… вот она сама; поглянь, твоя милость… – развернув лоскут бумаги вершка в три, положил мнимый слепец перед дьяком.
– Эта кабала как следует! – осмотрев подписи послухов и пробежав глазами, молвил дьяк.
– Имя твое как, молодец?
– Гаврила Суббота.
– И тут так.
Суббота пожал плечами, припоминая, что он никогда себя не называл по имени. Что во хмелю проболтался, он того не помнил и в голову ему не приходило.
– Батьку как величают?
– Незачем батьку знать в моей дурости, – с неудовольствием молвил Суббота, кивком головы выразив полный отказ от ответа на подобный вопрос.
– Милость твоя, государь дьяк, изволишь усмотреть, есть в кабале и отчество… хоша и упрямится малой… теперь некаться зачал.
– Истинно стоит в кабале: Удачин сын Осорьин… – подтвердил дьяк, глядя в листок.
Еще большее удивление изобразилось в чертах Субботы, уничтоженного последними словами.
Дьяк и вожак ватажный переглянулись. Вступая в роль вершителя судьбы ближнего, дьяк, возвысив голос, уже продолжал:
– Видишь, упрямство не помогает… Говори же истину, чей ты такой, подлинно… за каким господином семья ваша записана была?
– Я уж молвил: за великим государем царем нашим Иваном Васильевичем. И отец мой, и я служили в полках по Спасскому присуду Водской пятины; запрошлое лето я до Покрова за Окой стоял… Нам не рука от своей челяди в челядинцы к мужику идти. Вишь, измыслил супостат кабалу какую на меня настрочить!.. Заведомо лжива она… неподобная…
Ватажника передернуло при этих словах, но он рассчитывал улестить дьяка и не терял надежды запутать неопытного хитрыми подходами со стороны приказного дьяка, как он рассчитывал, скорее склоняющегося на ту сторону, где посулы даются. Субботины руки ведь пусты были теперь, у слепца всего вдоволь оказалось бы, коли б потребовала беда неминучая. И, зная это, однако с меньшею, чем прежде, уверенностью мнимый слепец вполголоса возразил:
– Неправо порочит кабалу мой кабальный! То его как есть воровство. Кабала писана по его веленью, на то есть и послухи. Пусть он посмотрит, господин дьяк, у тебя в руках кабалу.
– Пусть… – подтвердил дьяк, оборотив к Субботе лоскут бумаги с письмом.
Суббота в смущении молча устремил глаза – и, читая про себя все значащееся в кабале, вдруг оживился, дочитав до имен послухов.
Перед именем кабального вставлена была оговорка, что за неуменьем им грамоты поставлены три креста.
– Заведомая ложь! – вскрикнул радостно Суббота. – Грамоте разумею я, может, почище того, кто строчил кабалу эту. Сам ты, господин дьяк, коли дашь мне перо, увидишь, как я разводить им стану.
Дьяк задумался. Выяснилось обстоятельство, которого он сперва не принимал в соображение. Стала казаться вероятной подложность кабалы, и при этом, разумеется, возвысилась положительность заявлений Субботы. Невольный вздох вырвался из груди дьяка. Во вздохе этом отзывалось обманутое ожидание потехи. Принужденьем на мнимого кабального мудрено было подействовать, когда как паутина прорывались сети хитреца хозяина, залучившего молодца во власть свою подделкой кабалы. Хитрость внушила, впрочем, дьяку мысль: уговорить молодца потешить его пляской с медведями, хоша в последний раз. За такое удовольствие дьяк вздумал обещать Субботе свое содействие – выпутаться из-под власти ватажника. Способ повести это щекотливое дело сложился в уме дьяка мгновенно с приходом мысли, и он движением руки дал знать мнимому слепцу, чтобы тот оставил его один на один с Субботой в избе. Старик нехотя повиновался, а удаляясь, не раз оглянулся, желая отгадать по движениям остающихся, чего можно было ему ожидать от беседы их.
Дьяк подозвал Субботу и на ухо ему стал шептать:
– Дело, братец, твое такого свойства, что вести его тебе со старым псом нужно озираючись. Потешь, друг, меня пляской-от с мишуками; право слово, помогу. Благодари Бога, что на меня напал… я те ослобоню неотменно… только уважь теперя-тко…
– И вправду, дядюшка, не обманешь? – схватив за руку предлагавшего содействие, с живостью вполголоса отозвался Суббота. – Изволь, потешу в последний раз… Верь Богу, прискучили мне эти проклятые кобенянья. Да еще кабалу выдумал на меня… боярского сына!..
– И взаправду, дружок, ты из боярских детей… из Водской?.. – пытливо уставив маленькие глазки на вопрошаемого, чуть слышно заговорил, еще ближе к нему прислоняясь, дьяк. Он уже не сомневался в том, что потеха удовлетворит горячему ожиданию.
– Взаправду… Отец мой Осорьин Захар, в присуде Спасском на Дятлове живет… выставки корчемные держит.
– Вот оно что! Понимаю, какая ты птица… – отозвался дьяк не без волнения, и при этом в глазах его загорелось что-то зловещее, неприятное.
Этого, впрочем, Суббота не мог заметить, смотря в пол и не подозревая, кому он открывается: другу или врагу. По несчастью, горячо ожидавший медвежьей пляски был один из дельцов, подстроивших отказ Удаче от сбора корчемного, заведомый друг Нечая и губного Змеева. Возвращался дьяк из Москвы, по подаче описных и счетных книг, в приказ Новагородской чети.
При словах Субботы дьяку пришли на память и Нечай, и обида губного, и начатая Удачею борьба с ними, приказными, неизвестно чем могшая кончиться, – и пробудилось желанье насолить ворогу, усудобив сынка в доброе место. За решением же опять не замедлило, под видом дружеского участия, внушение Субботе явиться самолично к ним, дьякам, в приказ в Новагороде. «А как придешь, – думал дьяк, – уж сумеем тебя, за нахожденье в бегах да в прогуле, лет на шесть, на семь бессменно на низовую службу… Там и узнаешь кузькину мать… в чем она ходит… Кабала заведомо воровская… нече говорить… А со старика ватажника опять же не сорвать щетинки нельзя… обидно будет…» – рассчитывал в мыслях своих делец и затем обратился к Субботе, ожидавшему обещанного дружеского совета:
– Я велю старику явить кабалу безотменно в Новагороде и к нам… ты не перечь. – Тут, наклонив к себе голову Субботы, советчик и в ухо ему шепнул: – Там мы старого черта скрутим, а тебя высвободим… как есть. А ты по те места не упрямься. А ватажнику накажу я в город идти и стать у нас в приказе в неделю, на крайний срок… А теперя ты, дружок, попомни просьбу нашу и уважь…
Движением пальцев он докончил смысл услуги, ожидаемой от Субботы за благодарность, и махнул ему рукою, чтобы вышел, когда из двери просунулась в избу голова старого ватажника.
Старик внес на широкой доске, покрытой полотенцами, обильную закуску, где фляги с настойками занимали не последнее место между блюдцами с рыбкой, грибками, блинцами, икоркой и хворостом.
– Ужо, милость твоя, как подкрепишься, мы те удальство Субботино покажем. А Михайлы Иванычи и Марьи Ивановны сослужат служебку на отличку: я им пенничку волью в питьецо.
– А насчет малого не сумневайся, старина. Я его в чувствие привел и все… как есть, наказал из послушанья твоего не выходить. А кабалу ты непременно яви нам в городе, в приказе, неделю с днем проминувши, не больше. Там мы тебе его прикрепим надежно… А как нам привезешь – смотри, чтобы чего самому на ся не всклепать, коли упрется, что рука не приложена да что он… сын боярский!
Умиротворив по наружности обе стороны, находчивый дьяк получил желаемое удовольствие – и, схватившись за бока, не переставал заливаться самым заразительным смехом во все время представления. Удаль двуногого соперника косматых обитателей леса вырывала не раз крики одобренья дьяка, но раз принятое решение осталось во всей своей силе. С приездом в Новагород опытного кривителя весов правосудия сделаны надлежащие приготовления и приняты надежные меры, чтобы ни старик ватажник, ни плясун Суббота не избежали расставленных для них дьячьими руками силков.
В отчине Святой Софии перед тем только получен был указ о наборе на царскую службу к дальним тамбовским засекам не меньше сотен двух детей боярских, бывавших в нарядах и смышленых, чтобы проведывать ожидаемого наезда крымцев.
– Государь, княже милостивый, – докладывая наместнику государеву исполнение по этому наказу, поспешил ввернуть словцо находчивый делец, – теперя-ко ждем мы явки воровской кабалы на одного сынишку боярского… Повели, как явится, приудержать того самого парня у нас в колодничьей… верь Господу, угар такой и проходимец, что лучшего на низовую службу, почитай, и в Москве не найти… А человек, вестимо, заворовался, коли спроворил на себя, на дворянску кровь, кабалу настрочить за одиннадцать рублев московских… мужику.
– Это беззаконье!.. Как Господь грехи только терпит?! – крестя рот, проговорил простоватый наместник. – За одно за это самое художество достоин бити батоги и послать не в очередь в дикие поля… пусть исправится непутный…
– Я тоже бы думал, что поучить не мешало… да не смел милости твоей докладывать: как показаться мог мой совет холопий.
– Чего показаться тут?.. Вестимо, батоги и батоги… Штобы честь не порочил родительскую и холопство выбил из башки непутной.
– Так изволишь и приговор писать?
– Почему бы нет?.. Я художеству не потатчик.
– Слушаю и выполню… Да и того мужлана не поучить нельзя же… Тако явен воровской его умысел… брать в кабалу человека не по рылу дурацкому. Судебник гласит, что сын боярской теряти вольности не должон, окромя воли великого государя… и кабала на вольного человека, кольми паче на сына боярского, в кабалу не вменится… Значит, яко противнику государевых уставов, кнут мужику-явителю кабалы заведомо воровской…
– Говорить нече!.. – молвил, зевнув, наместник. – Его, мошенника, бита и обивки вбити… да доправить за утружденье наше воеводское и приказное толикое же количество рублев, сколько поставил воровски…
– И вдвое бы не мешало, государь князь… понеже вор-грабитель людей обирает бездельной потешкой… медвежьими плясками…
– А?! – зевнув во весь рот, изрек наместник. – И медведи у него… важные? Я, братец ты мой, до мишуков охотник, надо тебе сказать.
– Так не изволишь ли, государь, медведей у мужика отобрать всех сполна?.. Почем знать… может, у такого вора и звери краденые… Не душегубец ли еще… чего доброго? Копни только его… может, откроется и невесть еще што…
– Да отправь, друг, в наш поселок, на Шелонь. А мужика посадить до выправки, как следует.
– А не то вдвое кабальной цены доправить тоже не мешает, ваша честь, княже милостивый…
– Своим чередом, – изрек наместник, отсылая дельца и растягиваясь на лавке.
Дьяк Суета не опускал воеводских повторений – и как только, не смея ослушаться, прибыли истец-ватажник, разыгрывавший слепого, и ответчик Суббота, он приступил к решению дела их по существу.
Гневно взглянул на подносившего поминок ватажника распалившийся Суета Дементьевич и, словно не узнавая своего недавнего угощателя, величественно спросил его:
– Кто ты такой, человек?
Ватажник смутился и, вытаскивая из-за пазухи кабалу, положил ее на поминок; потом, поминок подняв, сунул под него кабалу, а дьяк все смотрит и примечает. Да как крикнет на опешившего старика:
– Што ж не отвечаешь, мошенник? Что суешь!.. Давай сюда. Что там такое?
Дьяк взял поминок; вынул кабалу, прочел ее, будто в первый раз видит, да брюзгливо спросил:
– Послухи где?
– Запамятовал, хоть ты што хошь, запамятовал их привести…
– А! А это кто? – указал его милость дьяк на Субботу.
– Кабальный…
– Врешь! – резко отозвался Суббота, обнадеженный обещаниями дьяческими.
– Кто же ты такой? – спрашивал Суета.
– Сын боярский, Суббота Осорьин.
– Подьячий! – крикнул Суета. – Пиши, братец, что приведен в приказ неизвестный детина, называет себя сыном боярским Субботой Осорьиным. Где помещен… коли подлинно из боярских детей?..
– Батюшка мой, Удача Осорьин, в выставке Дятлово живет, в Спасском присуде.
– Подьячий! Запросить губного Змеева, есть ли в его губе по десятням Осорьин, где? Послать сейчас по Змеева.
– Чево посылать, он и сам налицо… – входя случайно в приказ, отозвался Змеев и, увидя Субботу, чуть не остолбенел от неожиданной радости: возможности насытить злобу над человеком, навлекшим на себя его ненависть.
– А я по тебя посылал… Вот неизвестного звания молодец приведен, якобы кабальный, этим старым плутом, а про себя говорит, будто из детей дворянских твоей губы.
– Это правда… Осорьиным, кажись, прозывается… Да спросить надо только его, где пропадал он по сей день.
– Это уже наше дело.
– А чего не мое?
– Воевода нам велел!
– Да ему какое дело?..
– Опять же не тебе знать, коли не спрашивают. Отвечай, коли спросят.
– Не мое дело это – нече и спрашивать.
– Окромя того, что требуется. Так ты вправду Осорьин! Губной признал, – обратился Суета к Субботе, а от него к ватажнику и крикнул: – Стало, ты, старый вор, кабалу явил облыжную… А в Судебнике стоит… за облыжное показание…
– Помилуй! – крикнул, грохнувшись на колени, ватажник.
– Не перечь… и то еще бить не велел… Это после будет… говори: за сколько рублев долгу писана кабала?..
– За одиннадцать… кажется.
– Вишь, мошенник… со счету даже сбиваешься, ясно, своровать хотел… Вынимай дважды одиннадцать рублев, коли в колодку не хочешь… за облыжное воровство… Подьячий, пиши. С вора доправить следует по боярскому веленью, чтобы воровать было неповадно, пени за воровскую кабалу вдвое – сиречь двадцать рублев и два рубля, бездоимочно… Каким промыслом живешь?
– Мы медведей водим.
– Много ли их?
– Пять медведей: три мишука, две медведицы.
– Изрядно. Где стоишь?
– На улице на Рогатице, у Климки у Онуфрева на дворе.
– Ярыга! Эй, кто здесь дневальный?
– Чего изволишь, я – Митюк Абросимов.
– Бери, Митюк, трех человек стрельцов да шестерых понятых, веди на Рогатицу, на двор к Климке Онуфреву. Там остановились вредные люди, поводыри, бездельные мужичонки, да с ними пять голов мишуков, самцов с самками. Всю эту самую ватагу забери и веди на воеводский двор сего часу… всех, никого не упустя, ни единого, затем што оные воры, забывши крестное целованье и диавольскую лесть излюбя, народ честной прельщают, у чернова люда деньги за посмех обирают. Слышь… все исполнишь, как повелено.
– Слышу.
– Иди же! А старого вора до взноса двадцати двух рублев на правеж поставити… и колодки наложить теперя.
– Господин честной, не тронь медведушек, трижды внесу.
– Давай.
Старик стал распоясываться и из-под пояса добыл кожаную мошну с серебром и принялся считать. Отсчитав же, положил на прилавок к казначею.
Тот стал считать и, пересчитав, взглянул на дьяка.
– Сколько внес?
– Двадцать два рубли, семь алтын, восемь денег новгородскими.
– Не трижды, как хотел…
– Видит Господь, в мошне осталось всего пять алтын…
– Ну… Бог с тобой. Подручный у ярыги дневального есть?
– Есть, – отозвался тот из-за перегородки.
– Ступай сюда! Бери старого вора теперь и сведи его в город, в колодничью избу… да скрути понадежнее, штобы не утек…
– Не боишься ты Бога, господин дьяк, коли обижаешь так бедных людей! – взвыл ватажник, которому подручный принялся руки крутить за спину.
– Не боялся бы Бога, злых людей, тебе подобных, на волю бы выпускал, а то врешь… шутишь… не уйти от нас… Веди скорее! – крикнул затем на подручного, и тот поволок старика вон из приказной избы. – Ну, брат, теперь твоя очередь, беглец!.. – кивнул Суета Субботе.
– Я не бегал никуда.
– Где же пропадал? Не слыхал, што ль, што баял губной? Отвечай же по чистой совести, не потая ничего, как на духу попу…
– Я не думал пропадать. После обиды, что нам нанес Нечай Коптев, я поехал с его двора и чуть не замерз… в этом самом кафтане и без шапки… Нашли меня монахи Корнильевой пустыни… выпользовали от немощи… А потом я к веселым попал… и от их… к ватажнику…
– Чего же перечишь, что не бегал?.. Это самое твое странствие за што же счесть, коли не за беганье от царской службы в явочную пору?
– На службу явиться мне было не про што и не с чем… без коня я, без оружия и без брони…
– И это все пропил… в непотребстве… Так ведь? Коли медвежьим вожаком стал, мужика смутил… в кабалу к ему пошел…

