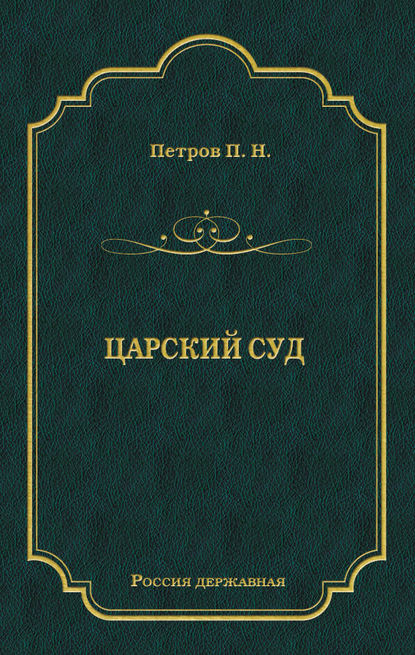 Полная версия
Полная версияЦарский суд
– Это значит, – громовым голосом разразился Иоанн, – что твоя измена вся мне известна и пришел час расплаты! Бомелий! Подай чаши князю и княгине… Мы их поздравствуем.
При произнесении имени Бомелия несчастный князь Владимир понял значение этой заздравной чаши и, с отвращением отстраняя ее от себя, молвил:
– Наш закон христианский запрещает нам класть на себя руки. Пусть отравят нас другие, а не мы сами. Волею чаши этой я не приму…
– Заставлю, так выпьешь!.. – крикнул Иоанн, трясясь от злобы.
– Не все ли равно, что заставляют пить, что льют в рот? – сказала величественно супруга князя Владимира. – Грех смерти ляжет не на тебя, милый, а на того, кто велит нам пить.
Бомелий приступил еще ближе с роковыми чашами. Князь Владимир подался назад, ища как бы в глазах племянника опоры и защиты. Царевич, поникнув головою, дрожал от ужаса. В глазах княгини блеснула слеза скорби. Превозмогши ее, она твердо взяла чашу и выпила, сказав мужу: «Прощай!»
Князь Владимир зарыдал; опустился на колени; горячо молился несколько мгновений и потом, взяв чашу, сказал Иоанну не без горечи:
– Умирая от руки твоей невинным, призываю тебя к ответу перед Страшным Судией.
– Пусть нас там судят, а теперь мой суд совершился над тобой, изменником и врагом моим! – жестко выговорил Грозный и махнул рукою, чтобы увели чету отравленных.
Поворотясь затем, чтобы уйти самому, Иоанн увидел подле себя Алексея Басманова.
Как бы стряхивая ядовитое насекомое, Иоанн стал обмахивать рукава своей ферязи и голосом, полным жестокости и отвращения, указав гневным взглядом на недавнего своего любимца, проговорил скороговоркою:
– Раздавить эту гадину, чтобы, после злодея брата моего, и об этом больше не поминать.
– Государь, чем я прогневил тебя! – крикнул было ловкий придворный, но тяжелые рукавицы двух кромешников по указанию Малюты зажали ему рот. С этой минуты не стало ни слуху ни духу про Алексея Данилыча.
Рассказывал наутро Гагара-кромешник своему приятелю, такому же извергу Шипуле:
– Вечор праздник был на нашей улице. Григорий Лукьяныч Федьку Басманова посылал батьку повершить. Вот бы ты посмотрел, какую рожу скорчил он! Прикинулся, якобы не понял, да как дядюшка зыкнул вдругорядь – пошел, покачиваясь, делать нече…
– И справил все как следует?
– У него спрашивай, милый человек… Я почем знаю… Видал сегодня – мертвецки пьян, а на роже ни кровинки. Вот, значит, лихой молодец!
– Да, брат, избави бог нас с тобой от такой участи… Родной сын?!
В то время, когда происходил этот разговор перед жилищем Григория Лукьяныча Бельского, он потребовал к себе стремянного Осетра.
Страшно переменился Суббота в эти немногие дни после встречи с дядею. Похудел он, постарел, и в кудрях показался серебряный отлив. Выражение лица получило бóльшую сосредоточенность, но при этом и бóльшую жестокость.
– Я звал тебя, Суббота, чтобы взять с собой. Едем мы попрежь великого государя. Нужно шею свернуть одному ворогу-упрямцу. За твою неудержь, что дьяка затравил в Новагороде, есть случай теперь заслужить полное отпущенье: сверни шею старому коршуну и – квит будешь со мной. На случай, коли сердце не выдержит и пустится на новую расправу с ворогом твоим, – я заступа, не выдам!
– Все едино мне теперь, боярин Григорий Лукьяныч… На душу грехов набрал – а покою по-прежнему нет. Не только не стал бы просить защиты али ухорони себе, а, пожалуй, попрошал бы скорее со мной порешить… Ноет ретивое и покою не дает ни чуточки!.. Да и какой покой прóклятому?..
– Молодо-зелено! – с участием как бы молвил хитрый зверь Малюта. – Поживешь с мое и бросишь всяческую блажь!.. Проклинают не тебя одного, а всех нас, царских слуг, вороги державного, да нам-от что? Собака лает, ветер носит… Были бы на нашем месте, сами то же бы делали, а на нас одна слава… Будь же готов, дружок! Я знаю тебя как хорошего товарища, а ворогов царя целая тьма… Я один верю тебе и защищаю, да царь-батюшка. Ужо воротимся с Новагорода – укажу я тебе твоего клеветника и обидчика.
Эта доверенность и как бы расположение Малюты на разочарованного, тоскующего Субботу не произвели никакого впечатления. Болезненное воображение его представляло ему попеременно то Таню с мечом в груди, шепчущую проклятие, то честного дьяка, один вид которого внушал доверенность и расположение. Наконец, свидание с Глашей и ее проклятье, представляясь так живо, и днем и ночью, и в дремоте и при бдении, но в состоянии глубокого забытья о всем окружающем, истомили вконец Субботу, почти лишенного сна. Если слетало успокоение на утомленные члены страдальца, то во время срочных хлопотливых поручений, сила значения которых не давала ему возможности оставаться наедине с собой и входить в себя, если можно так выразиться.
Взятие Субботы Бельским было именно таким положением в его безысходной муке, когда физические труды и хлопоты пересиливали духовную сторону. Не отказывался уже он ни от какого поручения, по первому зову вставая и идя куда велено, без отговорки и промедления, как послушное орудие воли других, как машина.
Вот спит он в прохладной монастырской сторожке Отрочьей обители, не так давно воротясь с поездки, продолжавшейся дня четыре. Тяжелое дыхание спящего давало право заключить безошибочно, что его томит страшное сновидение. Под болезненным тяготением сна вздрагивает Суббота, ежится и крепче прижимается ничком к оголовку. Что же видит он? Воочию представляется ему иерей Герасим, исповедующий и заклинающий о примирении с врагами. Суббота не кается и готов поставить на своем. Исповедник понижает голос, истощив всевозможные доводы, как вдруг голова игумена обращается в Данилу-дьяка и голосом Герасима укоряет нераскаянного: «Не думая прощать, ты дошел до тиранства надо мной, безвинным!»
– Сознаюсь! – спросонья кричит Суббота и просыпается от теребленья будившего опричника.
– Сам зовет!
– Иду.
И, шатаясь, не вполне еще освободившись от впечатления сна, вступил Суббота в келью своего нáбольшего.
– Иди с этим вожаком на конец монастыря. Введут тебя к старику и оставят. Ты его, понимаешь? – указал Малюта себе на шею и сделал руками движение, как следует крутить, крепче и разом.
Вышли. Довел вожак до порога; отворил дверь и отошел. Суббота шасть вперед. При свете лампады видит убогое ложе – и кто-то лежит в дремоте, седенький.
Подойти, сжать шею, как показал Малюта, не было бы большого труда, если бы лежащий вдруг не вскочил – и голосом подлинного, живого Герасима, так часто раздававшимся в ушах Субботы и потому неизгладимого из его слуха, не вскрикнул: «К злодейству приводит немилосердие!»
Суббота не мог выносить этого голоса и не помня себя бросился назад и упал без сил. Малюта был недалеко. Рассвирепел было, но, заметив, что чувства оставили его орудие, сам пошел безотлагательно выполнить свой умысел. Герасим – это был он подлинно – выгнан вон. Келья приперта. Филипп молящийся найден и удушен.
Выйдя из кельи Филиппа, Малюта счел нужным раскричаться, созвал монахов и настоятеля. В ужасе они не думали возражать или перечить страшному давителю, пустившему в ход явную ложь.
– Эк вы как жарите печи в келье старцевой! Никак, уж уходили его в чаду? Вошел я к нему, говорю, – не слышит будто. Подошел, глядь – он не дышит. Государь как узнает – разгневается!
Игумен и старцы только руками развели, поспешив приготовлением к погребению.
Все монастырские молчок о том, что произошло. До потомства дошел подвиг Малюты через притаившегося где-то Герасима, потом, при других порядках, рассказавшего кончину праведника.
XII
Начало конца
Уходив Филиппа, Малюта исправил свой план – при готовности отроческого игумена все показать, что будет велено. Бельский поехал отсюда прямо в Новагород со сговорчивым игуменом, оставив Субботу в монастыре, до исцеленья. Стремянный царский казался пораженным как в столбняке, утратив как бы совсем сознание.
К несчастью для страдальца, еще раз принявшись пользовать своего бывшего пациента, Герасим воротил ему память и способность мыслить. Правда, и в вылеченном совсем оставалась теперь только тень прежнего, бесстрашного Субботы. Силы, уничтоженные тяжелым недугом, не скоро собираются. Дума же о совершенном зле, неотвратимо преследующая человека, для которого в мире нет больше приманок, – только вырабатывает одно ничем не заглушаемое стремление: сколько-нибудь умирить совесть. Цена собственной жизни кажется при этом ничтожной, не покрывающей нанесенного другим ущерба, и представление самых мучительных терзаний, придумываемых возбужденным воображением, кажется безделкой и желательным искуплением прежних падений.
Оставаясь в полном неведении о всем окружающем его, Суббота в Отроче-монастыре томился почти два месяца. Тем временем на берегах Волхова совершались ужасы, от одного пересказа которых становился дыбом волос у самых хладнокровных.
Привезя игумена, Малюта расписал все приходское духовенство по десяткам и на первый случай призвал к себе поставленных им десятников.
– Видите, батюшки, – начал как бы добродушно предатель, – государю донесли, что духовные отцы сговорились со чады своими на духу послужить как бы князю Владимиру Андреевичу, упокой Боже душу его! – и сам крестился. – Укажите, коли разузнаете, хоша трех, хоша пяток, хоша десяток, что сказывали на князя, как и про что разговор был насчет щедрого князя Владимира… Может, и так, спроста, люб он кому был… Может, и владыка ваш Пимен подхваливал князя приветливого да щедрого, всяко бывает – и скажется иное, может быть… Не потаите, отцы, коли на вспросях поговорят про то вам, для своей пользы, а церковное перепишите; гнев державного авось и утишится, коли упорства не окажется… Потрудитесь за братию свою… А пока чинить перепись будете, подыскивайте столбов писаных – и мне показывайте.
– Я вот в толк не возьму, про што это боярин наказывал нам разузнавать, про какие говоры? Про коего князя Владимира? Московский боярин-то, што ль, наездом, видно, здесь был? Может, у владыки одного?.. К нему московские люди прибежливы… В наших сороках куда московских бояр на духу иметь? – заболтал поп Лука Скорохват, так его прозвали за быстроту решений и привычку ко всему на лету прислушиваться.
Одни считали этого словоохотливого подхватывателя просто болтуном, без всяких затей. Другие, и можно сказать, большая часть, смотря на отца Луку как на сплетника, видели в его речах намерение ловца расставлять силки и ловить неосторожных. Поэтому знавшие его, – а не знавших его в городе не было между своей братией, – всегда только слушали Лукины россказни и беседу его с самим собой, не проявляя попытки разрешать ответами его недоумения.
Такой человек, как Лука, в руках Малюты был драгоценностью уже по одному тому, что на вопрос, в чем бы он ни заключался, всегда готов чем бы то ни было ответить, кстати и некстати. Сперва и владыка его считал деловым за такое качество, да как раскусил, с чего брал Лука свои мгновенно созидавшиеся предположения, не стал на глаза к себе пускать. Это, разумеется, не научило Скорохвата относиться к услышанному им разумней, а только поселило в нем своего рода обидчивость на архипастыря, «больно умного да осторожного… Все ему в бороду дуй да посвистывай знай, а рта не разевай», – отзывался Лука о митрополите в кружке немногих, его слушавших всласть. Получив от Малюты предложение разузнавать и выспрашивать, Скорохват с жаром принялся за выполненье наказа, разумеется, по-своему. При этом живое воображение отца Луки, пустившись скакать, как испуганный конь без узды, занесло его в непроходимые дебри противоречий и бессмыслицы. Да ему об этом всего меньше было заботы.
– Слыхал, Кузьмич, – обратился он к купецкому человеку, любившему его беседу, – что к нам выслали москвича, князя какого-то, щедрого и тороватого, на житье. А богомольный такой уж, что нашему брату только знай фелонь вздевай да служи. Истинно Господь Бог о малых своих попечение имеет, чтобы не горевали о находящих напастях.
– В твой приход, што ль, отец, водворили боярина-то? – поспешил отозваться знакомец.
– Нет… Должно, владыка своему какому прихлебателю порадел… Да я узнаю, как и што. Свое не пропущу!..
– Еще бы!..
И сам дал тягу. Недосужно было.
Идет навстречу Луке звонарь соборный Михей Обросимов, под хмельком, бурча себе под нос что-то. Скорохват дослышал в этом бурчанье слова «князь-господин» и прямо напал на Михея:
– От него ты, знать, теперя?.. То-то и накатился изрядно… Видно, милостивый…
– От него самого, отец!.. Из его собственных ручек три стопки принял, да и в мошну перепала малая толика… Да и…
– Велико имя Господне! На сиротскую долю истинно посылается… И княгиня тоже добрейшая была, бедных жаловала, – присовокупил Лука, вдохновенно входя в восторг.
– И была и есть и будет такова!.. – подтвердил Михей. Шел он с купецкой свадьбы. Князем и княгиней называли новобрачных, его угощавших. Он и выразил этим желание получить впредь благостыню.
Для Луки, еще больше подбитого подходящими выражениями, не существовало теперь преград для разгула летевшей вскачь мысли.
– И нашего брата много там, отцов духовных? – поспешил он задать вопрос Михею.
– Есть-таки!.. Знаменский протопоп, от Вознесенья Самсон, с Сыркова уставщик… Да и подгородных есть…
– Давай бог больше!.. Всем место будет… Не оскудевает рука милостивого.
Благословил Михея большим крестом и сам дальше пустился.
Хватаясь за кончики фраз и ухитряясь лепить воедино отдельно услышанные слова, Лука в течение одного этого дня, обежав только свой десяток, вмещал в голове целый ворох самых разнообразных известий, и поутру уже явился с донесением к Малюте.
Получив разрешение говорить, Скорохват рассыпал такой ковер узоров перед допытчиком, что подьячий его, успевая записывать из девяти слов десятое, упарился даже от непривычного труда. Когда же читать стали написанное, Григорий Лукьянович понял, какую околесицу нес перед ним словоохотливый Лука, но, отнеся противоречия к спешке самого записывателя, нашел, что из этого материала без большого труда изготовить можно кашу, в которой увязнут все, кого угодно ему будет в Новагороде припутать.
Отпуская Луку с приветливой улыбкой, так редко являвшейся на зверском лице, Малюта велел ему к себе чаще наведываться и обещал свое покровительство. Тут же Бельский включил Скорохвата в команду отца Евстафия, с казначеем Фуниковым назначенного для переписи церковной казны по всем приходам и городским соборам. Целая книга написалась доношенья Грозному о мнимом заговоре с участием князя Владимира. Здесь владыка Пимен не один раз прихвачен к соучастию.
Читая на пути эту злобную цепь наветов, где уже о первом доносе почти ничего не говорилось, а на свежей канве выведены новые узоры, связывавшие в бесчисленных заворотах имя Владимира, Пимена и попов да монахов новгородских, – Грозный царь приходил в раздражение, охватившее наконец его страстную натуру до состояния полного обаяния. Из него же, как из очарованного круга, отуманенный взор его не мог видеть подлинной действительности, а одни призраки коварных врагов, подлежащих уничтожению.
Такое состояние, верно рассчитанное Малютой, ставило злодея единственным и безответственным выполнителем всего, что он сам мог подсказать, а Иоанн бессознательно повторить, не входя ни в какую оценку или проверку, как бы мысль живая в нем на это время бездействовала или отсутствовала.
Страшно такое состояние и для лица, имеющего только достаток: во время потемнения рассудка можно бесследно все потерять. Еще страшнее представить в подобном положении лицо, одно слово которого служит законом, выполняемым по первому мановению. Преступны те, кто, зная возможность вызова припадков подобной душевной болезни, для своих целей производят их. Но можно ли относить к воле страдальца – почти бессознательного в это время – совершение того, что угодно его руководителям, с этой целью и вызывающим душевную горячку? Она между тем служит разгадкой действий, подобных совершенному Грозным в январе 1570 года в Новагороде.
Уже весь отдавшийся исступлению, навеянному доносом Малюты, царь Иван Васильевич на пути в Новагород дал приказ оцепить отчину Святой Софии.
Ужас горожан, увеличивавшийся с каждым новым распоряжением, предвещавшим незаслуженную, а потому и неведомую грозу, достиг полного развития со вступлением в слободы тысячи опричников, когда царь остановился на Городище.
Чуть брезжился дневной свет в праздник Богоявления, когда владыка Пимен со всем духовенством пошел с крестным ходом навстречу самодержцу при звоне всех колоколов в городе.
На Волховском мосту приблизившийся к государю владыка остановился служить соборно молебен о благополучном государевом прибытии. Чинно совершено служение. Смиренно подступил владыка со святым крестом к самодержцу, как вдруг, отстраняя от себя крест, царь грозно изрек архипастырю:
– Злочестивец! В руке у тебя не крест, а оружие на погубление наше… Сердце мое истерзал уже ты злым умышлением. Мне известны советы твои и злотворцев, решивших предать град врагу нашему… С дознания этого не назову я тебя ни пастырем, ни учителем, ни сопрестольником апостольской церкви… Имя твое – волк, хищник, губитель, изменник, досадитель нашему державству!.. – От ярости Иоанн не мог больше говорить и рукой указал идти к Софийскому собору. Как тени, беззвучно двинулись ряды духовных.
Сколько слез горячих пролито было у искренне молящихся во время литургии; не дошла до Создателя только молитва о миновении чаши гнева царского. Звук грозных слов укора архиепископу успел несколько затихнуть в умах трепетавших служителей церкви к концу мирно совершенного богослужения. Думали уже, авось этой вспышкой на мосту и пройдет зло софийского доноса, когда государь из собора пошел в архиерейский дом к обеду. Чинно сели за стол. Владыка прочел робко, но внятно молитву. Стали обносить блюда по рядам столовавших, по чину. Отведали крепкого меду софийского бояре московские – и, поглядывая издали на государя, стали перекидываться словами, как вдруг опять мрачнее бури поднялся Иван Васильевич. Увидел он, что владыке подали чашу и он собирался ударить челом державному.
– Бери его! – указав перстом на архиепископа, крикнул державный кромешникам – и через мгновение умчали из палаты преосвященного лютые исполнители царской воли. Бояре и дворяне, софийские духовные власти и вся прислуга владычная тут же были схвачены. Царь с сыном уехали на Городище. Одни бояре московские остались доканчивать обед.
Через день открылся невиданный суд.
На Городище, на улице, наскоро устроили род возвышения с престолом для царя и для его сына. По сторонам разместились густыми рядами опричники, оставив широкий проем для приближения к возвышению. У ступенек его поставлены столы для приказных и дьяков, размещенных кучками и назначенных для записывания разом нескольких допросов новгородских обывателей и обывательниц, якобы прикосновенных к делу. Малюта, нахватавший, что называется, «всякой твари по паре», задумал окончательно напустить мрак в державные очи царя Ивана Васильевича, раздув из ничего страшное кровавое дело о существовавшем будто бы заговоре целого города. Вечером в день Богоявления он успел чтением своего прибавления к доносу обратить царскую подозрительность, напряженную и без того болезненно, на существование будто бы колдовства: что с помощью его Пимен и его клевреты уловили умы целых тысяч горожан, связанных самыми страшными клятвами. Эти-то несуществовавшие клятвы будто бы и оказывались ничем не побеждаемым препятствием при расспросах верных слуг царских.
– Только на присутствие лично государя, – заключал свое рабское донесение коварный лжец, – и можно еще надеяться как на последнее средство. И если кроткое обращение царя-батюшки не вызовет ответа, то что значить могут усилия исполнителей государевой воли с таким народом, обуянным своими духовными руководителями? Они ведь на этом отнекиванье и основали невозможность быть уличенными и наказанными!
Читая хитрый подход, Иван Васильевич терялся в столкновениях противоположных мыслей. Здоровый ум его прежде всего возбуждал сомнение в возможности поголовного отрицания чего бы то ни было; но, не чуждый предрассудков своего времени, он невольно верил в возможность опутывания души человека нечистой силой посредством колдовства. В таком же состоянии ум Иоанна допускал действия околдованного не только противные совести и рассудку, но также и осознание зла до известной степени, мучения совести, а за всем тем – невозможность высказать заговоренное, какие бы со стороны воли ни употреблялись усилия разрушить чары. Раз дойдя до такого решения, нашептанного, разумеется, Малютой по причине собственной безопасности, Иван Васильевич принимал и другое, настолько же в наших глазах метафорическое положение: что представитель власти от Бога, поставленной в торжественные минуты праведного суда, могучим словом своим, как глаголом Божества, разрушающим чары, может разорвать узы языка, связываемого колдовством. На то государь и помазанник Божий!
Двадцать раз, может быть, начиная раздумывать, ум Грозного приходил к решению, неблагоприятному этой посылке, – и слова: «Царь тоже человек и смертный» – срывались с его уст, погружая душу в состояние нравственного глубокого страдания. Совесть раскрывала тогда перед ним длинный ряд промахов и действий, не одобряемых его чувством правоты, но допускаемых в минуты слабости.
– Неужели в ту пору со мной был дух Божий? Как же благодать, присущая ему, допустила несправедливость? Я совершал, верно, эти деяния сам, когда по слабости моей доверялся самомнению? Кто же порукой, что самая торжественность мгновения удалит непременно от меня подобное гибельное состояние? Когда начиналось самомнение, однако?.. Да, помню, не раз было, при Селиверсте и при Алексее покойном. Нападало на меня сомненье, что и они человеки и у них есть личные побуждения… Своя шайка, свои друзья и противники… Представляли – так выходило по толкованью их, а другие не то говорили. И сомневался я! Шел напролом со своей волей, сознавал, что и она кривит в ту сторону, как ей представляется… Если ошибались они, почему мне не ошибиться?.. Ведь не любо мне было влеченье к Казани, они хотели, я не одобрял захвата гнезда хищников, а как взяли – понял, что опасности, мной представляемые заранее при неуспехе… И ущерб и потери видел я прежде и считал больше, чем случилось… В этой ошибочности моей участвовала греховная воля, ища покоя и сладости, когда жизнь дана для труда и подвигов. Как же себе доверяться? Разве не мешали нашим храбрецам колдуны казанские? Разве не напустили они безумия на своих казанцев в угодность меньшинству, думавшему еще тягаться с моей силой верной… Много, значит, может обаянье?! Устоит ли воля, и укрепленная верой, перед началом зла, когда злу этому и я, помазанник, против воли поддаюсь в мгновения слабости?.. Укрепить может и просветить этот мрак благодать… Испросим ее в молитве…
И самодержец повергся в умилении перед иконами. Горячо помолившись, он раскрыл Божественную книгу, и глаза его упали на слова: «Вскую шаташася языцы и людие поучишася тщетным!»
Еще большее раздумье напало на державного при этом откровении, смысл которого в применении к теперешним обстоятельствам можно было ему толковать и за и против.
Глубокая дума сменилась раздражением, когда вошел Малюта и таинственными намеками дал новую пищу подозрительности, доложив, что приведенных баб-ведуньев он всячески склонял к признанью: призывал отца Евстафия, заставлял его отчитывать, кропить святой водой… Чары демонские не поддались, и упорство их осталось непреклонным. «Вот и добрался до корня, да ничего не поделаешь!» – заключил донесенье опытный злодей, напугавшийся было от подслушанных речей Иоанна Васильевича самого с собой. Да и как не напугаться злодею, когда понимал он, что напущенные страхи разлетаются, когда проницательный ум и воля склонны к правде, вступали в права свои над совестью Грозного. Ввернуть призыв ведуний было для Малюты вдвойне выгодно: новая декорация для завтра и новое сбиванье с прямого пути бодрой царской мысли. Расчет оказался верен.
– Так ты ведуньев этих поставь мне завтра спервоначалу! – решил державный, снова поддавшись минутной уверенности, что царское слово его способно разрушить чары и заставить говорить правду.
Малюта на этот раз высказал тоже что-то вроде его уверенности. Он знал уже, что у баб отрезанные языки не нарастут за ночь, а их бурчанье, вследствие невозможности говорить, примется за явное вмешательство противника Божия в дела человеческие.
Малюта слишком хорошо знал своего повелителя, чтобы мог не принять в расчет и подвижности его ощущений, легко менявшихся да переходивших из одной крайности в другую, от одного противоречия к другому. На этом и был построен им план трагедии с плачевным концом, данной в Новагороде 8 января 1570 года.
Мрачно начался этот грозный день. Совсем рассвело, когда вошел отец Евстафий в ложницу государеву и своим приходом перервал чуткий сон Грозного, всю ночь не смыкавшего глаз под напором мрачных мыслей, терзавших сердце своей правдивой едкостью. Была минута, когда государь совсем было решился бросить розыск новгородский, – положив на совесть обвиняемых смутное сплетение мнимых ветвей заговора, выпустить Пимена и всех захваченных да неоглядкой ускакать в свою Александровскую слободу. Отравление брата, вина которого представилась теперь совести державного недоказанной, мощно повлияло на такое решение. Послан был Истома Безобразов к конюшему даже – поднять конюший чин и уже немедля подавать царские сани, но постельничего (угрозой покончить тут же) остановил все понявший Малюта – и Истома в трепете явился на рассвете доложить, что нигде не отыскал конюшего! Тем временем воспользовался Малюта и пересказом, по-своему бессвязной болтовни попа Луки, взвел целую гору обвинений на попов и монахов. Якобы под видом юродивых покрывали знахарей и ведуний, и внушали они пасомым своим возможность верить их предсказаниям. А предсказанья эти были между тем подговоры, что под правлением князя Владимира Андреевича, под покровительной сенью ляшского господства все воображаемые беды и невзгоды Новагорода кончатся. Что всюду будет довольство и обилие вместо теперешнего упадка и скудости наступивших неурожайных лет.



