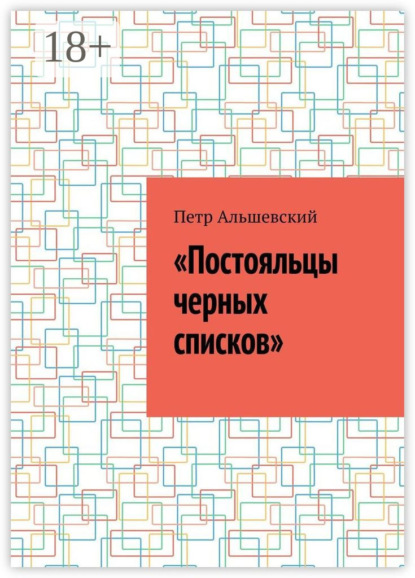
Полная версия:
«Постояльцы черных списков»
– А я и не подумал, – не узнав ничего нового из отцовского признания, восхищенно пробормотал Алеша. – Борей это, значит, ветер?
– Изначально борей – это не сам ветер, – сказал Павел Зотов, – это бог северного ветра: огромный великан с крыльями, как у нашей бабочки, только очень большими. Рассказать о нем поподробней?
– Расскажи, – попросил Алеша.
– Я расскажу, но не только для себя – ты все-таки тоже послушай. Если не заснешь.
– Не засну, – пообещал сын.
– Верю, – недоверчиво покачал головой Павел Зотов.
В согласие и прохладе отец рассказывает Алеше историю о борее, и мальчик его внимательно слушает.
Да и бабочка старается ничего мимо ушей не пропускать: боги, легенды, крылатые великаны – хотя она уже давно упокоилась, она внимала, а Павел Зотов, съев поздним вечером шесть формально очищенных морковей, пошел вместе с сыном на железнодорожную станцию встречать свою жену, прервавшую заканчивающийся послезавтра отпуск, чтобы вернуться в столицу и в очередной раз попытаться образумить беспробудно пьющего брата.
Ее неженатый и искательный брат Семен «Пачино» Багаев пил так сильно, что денег у него уже не оставалось ни на себя, ни на прочих.
Он пил много лет.
Долго и часто, но бросил – не принимая в расчет мольбы любивших его людей, а исключительно после того, как увидел наяву благодарно кивающего ему дьявола.
Семен «Пачино» Багаев не пьет уже практически месяц, и денег у него становится больше; их достаточно и на подарок сестре – недорогой вибратор или иконку с ее святым – и на игрушки для детского дома.
На выпивку тоже есть.
Вовсю ночуя на пеньке, он не давал обет молчанья.
Крича в сне, вопя в тайге: «Я человек! В беде сознанья!»; удивившись своему материальному достатку, поддерживающий тайные контакты с верхоянскими эзотеристами Семен Багаев снова начал пить. Благо, за последнее время он не истратил на водку немало средств.
День пьет, а второй уже терпит; пить не пьет, но похмеляется. День пьет, неделю похмеляется.
Похмелиться и, не удержав в памяти личину благодарно улыбающегося дьявола, еще немного выпьет.
Случается и упадет, но руки впереди себя Багаев никогда не выставляет – расколет подбородком нециклеванную паркетину и худо-бедно соберется с мыслями.
Сам поднимется, а приподнять мысли «Пачино» не в состоянии: неподъемные они у него.
Подобных людей ни за что не вытолкаешь из-под их зонта. Смертельный удар наносится изнутри… лишь бы не пропустить в хранилища эго какую-нибудь Лизу; однажды на Полянке Семен под сырный пирог жестко надрался с Мартыновым.
Семен «Пачино» Багаев по привычке упал, Мартынов шатается – на его пути развязно обнимающаяся парочка, и Мартынов чуть-чуть не рассчитывает степень своей качки и задевает отнюдь не дефективным плечом низкую девушку; она практически не удерживается на ногах, Мартынов думает: от удара об мое плеча голова у нее, наверное, распухнет – она увеличится в объеме и в ней появится еще больше свободного пространства. Девушке будет еще более не по себе. Но если ее мужчина попробует меня отмудохать, то и я ему с каждой стороны выбью по несколько зубов, так как мне уже надоело, что меня бьют, а я понимающе не сопротивляюсь.
Мартынов не изливает свою душу в матерных частушках. Он готов сцепиться и с продажными егерями, и с деятельным трезвенником Константином Цепковским; с одного попадания, я имею намерение положить его с одного попадания, с одного… занятно: похоже тут надо сначала положить, а потом попадать; при ближайшем рассмотрении выясняется, что кавалер этой девушки отнюдь не мужчина. Ее сопровождает определенно женщина. Комично настаивая на своей неженской сути, она обзывает Мартынова излишне хриплым голосом – давай-давай, напрягайся… я вряд ли пригожусь твоему зову плоти; у Мартынова уже проходит его настроение биться: не кладите меня в катафалк. Я сам дойду до могилы. Она его оскорбляет, но Мартынов, по старым традициям всегда отплевывающий на землю перед тем, как поцеловать икону, не притрагивается к ней ни рукой, ни озлобленным взглядом.
– Иди, алкаш, – процедила она. – Ставь на ноги своего обожравшегося друга. Все лучше, чем с залитыми глазами из угла в угол ходить.
– Как-нибудь без тебя разберусь, – промолвил Мартынов. – Согласно Дайсэцу Судзуки «истинные Бодхисаттвы выше чистоты и добродетели».
– Да пусть твой… твой… как ты сказал?
– Ступай на гору Кайлас и найди там Шиву – он еще иногда заходит в свой райский сад. Поздоровавшись с ним за одну из его рук, ты…
– Гляди, сволочь, огребешь сейчас!
– Не сутулься, – усмехнулся Мартынов.
Она все же женщина: гротескная декадентка-лесби Светлана Горюнова провинилась перед ним не настолько, чтобы осоловелый Мартынов ее по-серьезному бил. Да и настроение биться внутри Мартынова далеко не завсегдатай: оно посещает его не чаще заблеванных гуманоидов.
Не место ему в нем.
В Мартынове и без него дышать нечем.
Но есть кому.
После состоявшейся в марте 1999-го семичасовой хмельной беседы с крупнейшим из не засматривающихся на мальчиков теологов Александром Палычем Кавало-Лепориниди для Антона «Бурлака» Евгленова Рождество Христово также является очень большим событием: он посещает храм не только по праздникам, но на Рождество он прибывает туда в обязательном порядке; постоит, покреститься и выдвигается на мороз принимать посильное участие в крестном ходе и хлебать из старого термоса обжигающий мятный чай – выныривать из каждодневного дерьма; он и неухоженные женщины, мордовороты и облака, Плотник и Морж…
Пройдя крестный ход, Антон идет домой и незамедлительно звонит ущербному человеку современного типа Николаю Чаялову, которому, что Рождество, что тараканьи бега: Чаялов давно спит. Он отдается возвышенному труду плотских утех статным лирическим героем и примеряет перед ромбовидным куском чистейшего льда шляпу с султаном из перьев марабу; печень не болит, крест шею не натирает, до рассвета Николаю еще далеко: звонок, искры, взрыв, нашаривание стоящего на тумбочке аппарата – из трубки слышится приподнятый голос Антона Евгленова.
Чаялов его радость не разделяет.
Проорав, чтобы «Бурлак» больше никогда не звонил ему посреди ночи, он вновь пытается уснуть.
В этом году Евгленов ему опять позвонил – Николай Чаялов не подошел к телефону, и Антон «Бурлак» искренне за него обрадовался: Чаялов, вероятно, тоже ушел на крестный ход, подумал Антон, лучше я ему попозже перезвоню – с Рождеством от всего сердца поздравлю.
Николай Чаялов на крестный ход не ходил.
Он лежал под ватным одеялом, фактически рыча от плохо скрываемой ярости; Чаялов знает – Антон ему звонит… с Рождеством, как обычно, поздравлять собирается.
Чаялову не спится.
Только что спалось, а теперь нет, не спится, и во взгляде на рождественскую ночь у Чаялова не наивный восторг – черное пламя у него там. Бушующее и не пропитанное даже по самым верхам беззаветной любовью к человечеству.
Чаялову не спится, телефон снова звонит; Николай этой ночью один, жена вместе с дочерью в санатории под Каширой: катается, если ей верить, на лыжах и санках – Чаялов вспоминает, что, когда он с женой, его организм работает, как часы.
Все три года семейной жизни он занимается с ней любовью под две песни «Jethro Tull»: предварительные ласки он проводит под «Aqualung», а сам половой акт происходит у них под «Cheerio».
«Aqualung» длится около семи минут, «Cheerio» всего одну, и организм у Чаялова работает, как часы – его жена ненавидит «Jethro Tull», словно бы Иан Андерсон и подыгрывающее ему сопровождение виноваты перед ней в чем-то непростительном.
Привычку к «Jethro Tull» привил Николаю именно Антон «Бурлак» Евгленов. Занимавшийся любовью не совсем под те же песни, под которые ей подчинялся Чаялов, как-то слышавший, что одна из женщин «Бурлака» Евгленова – Инна Поликанова, начинающий специалист в области естественного лесовосстановления – обрадованно визжала за стеной на протяжении песен пяти-шести. Ну, а у Чаялова организм работает, как часы: ни минутой, ни лишними десятью секундами не поступится.
Чаялов бы не изменил себе и в рождественскую ночь, и при мысли об этом, Николай Анатольевич подошел к телефону: может быть, ему звонит жена? она или Антон Евгленов? она или он? он… «Бурлак»… друг…
В рождественскую ночь, помимо выбивающих из колеи звонков, случаются и великие чудеса: с дочерью Чаялова Леной они ранее никогда не случались, однако в санатории под Каширой, скорее всего, свершилось; проснувшись, Лена вскрикнула и протерла глаза – возле живой, но уже мертвой елки неспешно прогуливался пластмассовый пупс.
Лена Чаялова звала своего пупса Сережей.
Он заметил, что она на него смотрит и быстро-быстро прикрылся руками; Сережа же совсем не одет: елка горит не ярко, но он все равно стесняется.
Ни капли не сочувствуя его смущению, Лена Чаялова громко и ехидно рассмеялась: повсюду ночь, многие уже спят – ей все это не важно.
– Что же ты, Сережа, пустой твой чан, руками-то прикрываешься? – риторически спросила она. – Тебе же там и прикрывать нечего!
Лене Чаяловой абсолютно не стыдно, а пупсу Сереже не по себе: лицо пластмассовое, но из-за несовершенства представшей перед ним конструкции оно багровеет и предстает решительно злым.
Рождество, рождественское чудо – Сережу едва ли удовлетворяет оживление его пластмассы: муторно ему.
Злоба прошла, но муторно.
На утро Сережа валялся под кроватью в своем привычном виде. Полностью обезжизненным, но с изменившимся выражение лица – Лене Чаяловой оно показалось невероятно мрачным; временное пробуждение не оставило на нем ни следа от прежней пластмассовой глупости.
Он поглядывал на нее сосредоточенно, со свойственной человеку хмуростью – так же, как и ее отец Николай Анатольевич Чаялов двумя неделями спустя.
Его жена с дочерью уже вернулись из санатория; вы не ко мне?… в том числе и ко мне? заходите, не замыкайтесь в себе… под тройным покровом самоумаления Николай Чаялов смотрел на кухне «Психоз» Альфреда Хичкока.
Смотрел, записывая в голову, чтобы потом в спокойной обстановке просмотреть без рекламы и навязчивых вопросов маленькой.
Чаялова бесит реклама.
Гораздо меньше, чем вопросы его жаждущей откровений дочери.
– Ты, папа, такой большой и сильный, – сказала Лена, – но что же с тобой станет, если тебя в какао подлить половинку колбочки серной кислоты?
– Отстань, – устало проворчал Чаялов.
– А почему у нашей мамы такие неровные зубы?
– У нее и спрашивай.
– Спрошу. Но сначала я еще кое о чем спрошу у тебя. К примеру, кто выиграет в шашки – ты или даун?
– Боже, дай мне сил…
Чаялов просматривал «Психоз» в ту же ночь. Не в рождественскую – в кровати с женой, но отвернувшись в стене; супруга Николая не отвлекала: надо же, как тяжело он дышит, шептала она про себя, наверное, очень серьезный фильм, очень… просмотрев, Чаялов еще не решил, стирать ли его или все-таки сохранить. В голове у Николая Анатольевича скопилось уже немало фильмов: «Донни Браско», «Строгий юноша», «Фейерверк» – плохо дело… никчемная пытка прекрасным, покой из этого не сшить; Чаялов сделал свой выбор.
Он стирает.
Еще стирает – еще, еще…
Трудно… больно… стирает. Жена сразу же поняла, что Николай сейчас стирает из головы фильм – весь трясется, потеет, шея, как гусеница во время ломки, извивается.
Седов проводит свое свободное время не столь экстремально. Он читает в Кусково обтрепанную книгу: «…. и четырнадцатого июля мы с дядей Луишем напоролись на тигра. Дядя Луиш не испугался и метнул свой мачете полосатому в горло. Нож летел точно, но слишком медленно. Так медленно, что и у колибри хватило бы времени птенцов высидеть. И тигр успел увернуться. Что было дальше я не помню. Дядя Луиш помнит, но не говорит. Не только мне, но и отцу Алонсо. Тигровых шкур в нашем доме не прибавилось, а за дядю Луиша я очень волнуюсь. Даже больше, чем за собственного отца, который прошлым летом ушел за крокодильими глазами и до сих пор не вернулся»; через десять-пятнадцать минут между Седовым и сидящей на той же скамейке женщиной установилась подтачивающая их связь.
– Одна из моих знакомых, – пробормотал Седов, – однажды бросила в меня воздушный поцелуй. Он сбил меня с ног и полетел куда-то дальше. К Мытищам… сидя на мокрой земле, я сказал ей: «Тяжела любовь твоя». Она воскликнула: «Но искренна!». Я попытался образумить ее вопросом, я спросил: «Другие-то в чем виноваты?». Попытался, но ничего не вышло, поскольку ее ответом было: «К ним я тоже хорошо отношусь». Я не знал, кто там следующий на линии огня, однако я уже слышал и крики, и звон разбитых окон… А с вами приятно не беседовать.
Его не терзало желание с ней поговорить – ни о спасении Каабы в год слона, ни о византийских пурпурных кодексах, но она задвигалась.
Продвигаясь к нему.
К Седову.
– Но, но… не увлекайтесь, – осадил ее Седов. – Я не планировал рассказывать вам историю о моем настроенном на страдания однокурснике Калопове – о том, как он с целью подрочить забрался под одеяло, но у него ничего не получилось и в окрестностях его кровати раздался тихий стон: «Ну вот, даже я ко мне желания уже не испытываю». Он называл свое тогдашнее положение солнценестоянием – на небе отчасти солнцестояние, а у Гены Калопова не так, как на небе: по-другому. Вас же я попрошу не сокращать предложенное нам расстояние. Нам с вами предложили его не просто так.
– Да ладно… – сказала она. – Я же молча.
– А дыхание? – спросил Седов.
– Что дыхание? – не поняла она.
– Ничего. Но чем оно ближе ко мне, тем оно для меня слышнее; сами вы его слышите на одном и том же уровне и не зависимо от того, насколько вы близко ко мне, но я же могу быть таким невосприимчивым к его неорганичному присутствию.
– Неорганичному присутствию во мне? – спросила она.
– В вас, – ответил Седов. – Как в человеке с правильным лицом должным образом созданной женщины. Лично вам так не кажется?
– Я думаю…
– Если обо мне, то вам следует знать – меня невозможно встретить в икорных или устричных домах.
– Для меня это мало что…
– Голытьба смеется на галерке, – процедил Седов.
Они уже не молчали. Обыденно и бездарно. Барахтаясь в предгрозовой липкости и не выставляясь на авансцену – без взятия передышки на снискание славы; вдохнуть ли в тебя часть моего… чего-нибудь моего?… успокойте меня, ангелы… или вы, или развязный штукатур Федоров, изголодавшийся по настоящей тоске и в ноябре 2003-го приносивший Седову журнал с декларациями доходов и имущества кандидатов в депутаты: Федоров с Седовым тогда приняли по двести пятьдесят и немного поулыбались тому, что в собственности одного человека из ЛДПР числится лишь мотоцикл «Минск».
«… ты же догадывался, Седов – белые волки разговаривают со мной на одном языке».
«Только те из них, что преследуют выпавших из гнезда птенцов»; Максим Федоров с переменным успехом держится тротуара. Не придерживается культа женщин и не связывает свою жизнь с оплакиванием вырубаемых вишневых садов; на Большой Никитской он увидел трех монголов.
Смотревшийся постарше и пожелтей что-то увлеченно говорил, двое других не менее заинтересованно его слушали; общающийся с Седовым штукатур отнюдь не глуп – выпить он выпьет, но нервно-паралитическим газом не занюхает, и ему ли не понимать, что молодежь слушала пожилого монгола только из-за свойственной им природной забитости. Была бы их воля… была бы она у них, они бы не слушали его ни минуты; какой им интерес его слушать, если ни единого слова из его лопотания не разберешь? ну как такой бессмысленный набор звуков поймешь? штукатур Федоров человек куда поумнее, но и он не понимает, а если и я не понимаю, подумал он, то как каким-то темным монголам понять?
Полетел бы я к тебе, Господи, да движок слабоват.
У запуганных камней мною вобран заряд метафизической сонливости.
Максим Федоров подходит к монголам и строго обращается к тому из них, что заставлял двух оставшихся впустую тратить свое время: кончайте дурить, мосье монгол, довольно отвлекать забитых людей вашим никчемным лопотанием, они же все равно не понимают – ну сами посудите, разве вас поймешь, если вы несете какую-то бредовую чушь? Хотя бы одно человеческое слово позаботились вставить.
Немолодой и тертый монгол всматривался в Максима Федорова, осмотрительно реагируя безропотной улыбкой на его выдающие «Зубровку» слюновыделения; ни слова не понимая, но по Федорову сразу видно – дело он говорит. Нечто важное хочет до них донести.
Он говорит, и монгол с ним не спорит; пожалуйста, пусть говорит, размышляет монгол – ко всему прочему, у штукатура Федорова очень широкие плечи и для отвлекаемого им монгола это служит основным доказательством того, что Максим Федоров человек не глупый.
Белый человек.
Как и приверженец древнейшей новгородской тактики «Бегите или мы побежим сами» господин Мартынов, напоровшийся под Автозаводским мостом на не отшатнувшуюся от него женщину; Мартынов не притязает на всхлипывающих супермоделей и испытывает пониженную социальную чувствительность – он еще не успел с ней толком сблизиться, но они уже начали пить. Гулять по осенней Москве и пить, сидеть друг у друга на коленях и пить… в основном сидела она: Мартынов сел ей на колени всего один раз. Слезай, иронично сказала она – слезай и двинем пить, заходить в воспетые нежеланием расставаться бары и пить, пить; она женщина крепкая, литром не остановишь, да и Мартынов в этом деле испытанный профи.
Они переезжают из района в район. Иногда целуются, но главным образом поддерживают единение алкоголем; Мартынову не хочется с ней спать. Член не обманешь.
Время уже далеко за полночь. Они все никак не успокоятся, в словах не прорезается смысловой элемент; меня защитят твои пришельцы, усмехался? да, усмехался, но улыбаться мне нечему, сознание с пробуксовкой проясняется, легковесно и уклончиво, перекраивая до неузнаваемости мысли светлых людей, передвигаемся мы с трудом, но нам весело и свободно, будто бы мы доживают последние часы; не лезь своим носом в мою бутылку, весь градус в себя втянешь – Мартынову сначала казалось, что это лает бешеная собака, а это смеялась она. С мутноватым выражением лица упоенно ссылаясь на непоседливого Илью-громовержца; явные человеческие недостатки… скромные планы на жизнь, на Большой Черкизовской возле них притормаживает «шестерка» с легавыми, и небритый старший лейтенант предлагает им проехаться в отделение.
Мартынов его предложение не отвергает. Он по возможности ровно идет к их машине.
Перепившая бурная женщина легавым не подчиняется: скоро ее будут запихивать силой. Пока же просто делятся своими намерениями.
– Прошу в машину, дамочка, – сказал старший лейтенант, – в тепле переночуете. И не психуйте: гораздо больше шансов, что вас изнасилуют здесь, а не у нас в отделении.
– Не уверена, – протянула она. – Читать умеешь?
– А что? – переспросил лейтенант.
– Умеешь, читай.
Не побоявшись вызвать у него психофизический кризис, она сунула ему под нос прокурорскую ксиву; старший лейтенант как-то сразу попятился, заскреб по щеке, поослаб, а Мартынов, наоборот, прижался вплотную к ней – не закатывая глаз. Имея в виду, чтобы они, передумав заметать, оставили в покое и его, но легавые про Мартынова даже не вспомнили. Не пообещали подловить ни на горе Кайлас, ни на карельской Смерть-горе: удачи их бифидобактериям и лактобациллам, расходиться бы нам с тобой, отоспаться… отследив отъезд милиции с органичным блаженством обоснованно презрительного взгляда, женщина сильно ударила Мартынова по плечу.
– Что, неожиданно для тебя? – спросила она. – Такова жизнь, Мартынов. В ней случается разное – я, думаешь, почему с тобой этой ночью пью? А потому, что беда у меня: муж мой в больнице… сегодня вечером что-то произошло с его головой. Завтра утром я пойду разговаривать с врачом… ложись, Мартынов, конечно же, ложись, я тебе свою визитку оставлю. Помогу, если все же в отделении проснешься.
Когда она коснулась его плеча, Мартынов действительно чуть не упал. Но выстоял – вряд ли вертикально, однако всем телом; каменный дом не разберешь на дрова, лютый голод не прикончишь в два беляша, Мартынов до рассвета ходил вокруг закрытой церковной лавки, послушай свою Люду… хороший ты, Мартынов, мужик, но я запросто проживу без тебя; женщина из прокуратуры уже в девять часов была у врача.
Глухо прокашлявшись, он затушил ментоловую сигарету и приступил к оглашению вердикта; Леонид Сергеевич Пустыловский безусловно понимал, что с женой пострадавшего стоило бы обойтись помягче, но тут как ни смягчай, все одно выходило крайне жестко.
Непрофессиональное сострадание вязким комом перекрыло ему горло, и Леониду Сергеевичу пришлось прокашляться заново.
– У вашего мужа, – поведал он, – было кровоизлияние в мозг, вызванное стрессовым образом жизни и практически полным истощением организма. Вероятно, сосуд не выдержал из-за перенапряжения умственной деятельностью в совокупности с какими-то пока нас не ясными нюансами. Мозговая активность вашего мужа находится на очень низком уровне и я боюсь…
– А вы не бойтесь, – перебила врача непохмеленная супруга его пациента.
– Как вас понимать? – недоуменно спросил врач.
– Его мозговая активность приелась мне уже на второй день после нашей свадьбы – для меня важнее иное. Вы мне не скажете, как и насколько обстоит у него с мозговой пассивностью?
Неожиданный вопрос не поставил врача в тупик.
– Мозговая пассивность, – вяло пробормотал доктор, – термин не медицинский и я бы не взял на себя смелость…
– В норме? – спросила она.
– Да, пожалуй, и выше…
Людмила кивнула и вычурно, словно бы на публику, расстегнула верхнюю пуговицу блузки, одобренной не безразлично отстраненным мужем, а ее собственным все пребывающим вкусом – по наведенным на доктора глазам стало видно: сейчас она уйдет. Но, вспомнив о чем-то маловажном, Людмила полезла в кожаную сумку.
– Он у меня любит читать, – сказала она, – и я ему принесла ему его любимого Павича. Передайте ему и скажите… – Уличив себя в беспардонной оплошности, она никому ничего не передала. – Нет, Павича, он теперь не осилит, впустую я его сюда принесла. Но с другой стороны после такой ночи хоть немного соображать – уже успех… И я соображаю… Придумала! Передайте ему моего Сидни Шелдона, с ним-то он справится.
– Но читать ему категорически…
– Послушайте, доктор – Сидни Шелдон же…
– Сидни Шелдона можно, – согласился врач.
Разрешая ее мужу вникать в приличествующую его состоянию литературу, Леонид Сергеевич окажет ему всю возможную помощь, но своему крестнику Алексею Сликову не может помочь даже он: из кипящего молока не выудишь хохочущую ящерицу, аллегории… мефистофельская комбинаторика: ее не удержишь на цепи, по-настоящему верны только мертвые; примерный студент Алексей Сликов не хочет женщину. Раньше он не хотел женщину лишь в тех случаях, когда он совсем недавно с ней был, теперь просто не хочет, и все это началось с тех пор, как в Алексея Сликова попал мяч.
Алексей играл за сборную института против идейных сподвижников неконкурентноспособного авторитета Мирона «Половца»; едва в Кузьминки прилетали первые грачи, Мирон веско говорил подвыпившей братии: «Весна. Грачи улетели», и многократно проверенный трус «Трамвай» Буераков непонимающе возмущался: «Так прилетели же!», и Мирон бил его по загривку, безапелляционно утверждая: «Но чтобы прилететь к нам, они же откуда-то улетели»; мяч попал Сликову никак не в пах, но женщину он все равно не хочет – это же рог Роланда, думал Алексей, нетерпимая импульсивность; будь я капитаном команды на Кубке Дэвиса, я бы в качестве покрытия выбрал бы воздух, и взгрустнулось бы тогда моим бесам, от моей лютой благости щетина на моем лице росла бы вовнутрь; сознаюсь – я канат, но я позволю пройти по мне не всякому канатоходцу, бизнесмены выпили у Дилана все вино и лучше бы вообще не жить, но ведь живем же. И еще как живем! хватит восторгов и соплей: первый звон церковных колоколов я расценю как знак, что пора закругляться.
Пора, так пора – живем и живем неплохо, но лишнего нам не надо…. в Алексея Сликова попал мяч. Он попал ему в голову: летел к северу, попал в голову, отскочил на восток.
Не задев окопавшегося там Фролова.
Перед ним настольная лампа.
Фролов зажмурил глаза и представил словно бы он уже умер; где-то в глубине души Фролов осознает, что, выиграв, он отправляется в последнее путешествие, и ему не стало бы хуже, если бы он не вернулся: в лицо ему мягкий свет.
Страшно зажмуренные глаза, космическое обаяние мягкого света, высокие образцы любовной поэзии вакуума; Фролов все еще представляет свое последнее путешествие, но жмуриться ему не от чего – темень… не просматривается никакого мягкого света. Неужели я прибыл? – подумал Фролов. По дороге светло, а как прибыл, ситуация моментально прояснилась: темно на том свете. Почва для каких-то мелких иллюзий раскопана лишь на дороге. Действительно ли он умер, Фролов пока не разберет – вариантов немного. Здесь судьба к нему благосклонна; она не нервирует Фролова особым богатством выбора: или умер, или лампа перегорела.



