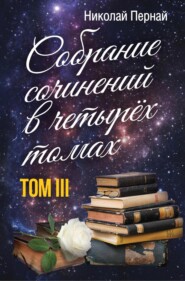скачать книгу бесплатно
– Кто это был?
– Васька кричал, что это были деревянные люди в касках.
– В каких ещё касках?
Мать ещё пыталась что-то выспросить у меня, но я не мог ничего толком сказать. Тогда она налила большой таз воды, отмыла меня с куском хозяйственного мыла, смазала шишку на голове йодом, накормила и уложила спать.
А утром следующего дня, задав корм поросенку и курам, мать велела мне собираться:
– Надо нарвать травы для курочек. Ты мне поможешь.
Она взяла серп и мешок, и мы пошли. Я думал, мы пойдем в поле, но мать выбрала тропинку, которая вела в лес. Я шел с некоторой опаской, но мать была совершенно спокойна, и её спокойствие передалось мне.
Солнце поднялось высоко и уже припекало, но в тени деревьев было прохладно и хорошо. Лес был не густой, в основном акациевый, но попадались и молодые дубки, клены, одичавшие яблони и вишни, березки, верба, кусты орешника-лещины.
Мы быстро нарвали, мать – серпом, я – руками, полмешка травы, и можно было возвращаться домой. Но мать всё дальше углублялась в лес.
– Сейчас, – сказала она, – я что-то тебе покажу.
Мы ушли довольно далеко от магалы. Вскоре лес начал редеть, и мы вышли на огромную поляну. Но – что это?
Перед нами открылась удивительная картина: на большей части поляны стояли длинными рядами кресты. Кресты были деревянные, некрашеные, высотой с метр или чуть больше, они идеально ровными шеренгами тянулись далеко в лес.
– Что это? – спросил я маму.
– Это немецкое кладбище, здесь во время войны хоронили немецких солдат.
Но самое поразительное, что я увидел – это каски. На каждом кресте сверху была надета серая немецкая каска. Их было много. Очень много. Я никогда не видел столько крестов с нахлобученными на них касками.
– Вот, они, твои каски, – сказала мама.
Кажется, я начал понимать: каски, деревянные кресты … Вид у них был довольно зловещий.
Так это же – деревянные человечки, наконец, догадался я. Точно. Это они, только неживые…
Но кто-то догадался их одушевить, и превратить в злобных тварей.
Так была разгадана тайна главной страшилки нашей детворы.
– Теперь ты всё понял? – спросила мама. – Кресты с касками, правда, похожи на человечков. Но бояться их не надо. Они были страшными, когда были живыми. Немцами. А деревянные они уже не опасны.
И мы пошли домой.
А Васька Кривой всё же проболтался. В конце лета, находясь в состоянии подпития, он стал рассказывать о своих подвигах и не мог удержаться, чтобы не похвастать, как разыграл пацанов, инсценировав нападение на нас деревянных человечков, и какого страху он нагнал на нас.
Мы понимали, что Васька человек нехороший и даже подлый. Однако время от времени он снова заманивал нас своими сказками и завиральными историями. И мы снова садились кружком вокруг него и слушали его трёп.
Фантазёр он был ещё тот.
Флорика
1945
Бельцы
Война окончилась, но отец всё еще был в армии. Он писал, что служит в комендатуре Берлина.
Почти каждый день с восходом солнца мать уходила на заработки. Чаще всего это была работа в поле: либо у дедушки Николая (ему был выделен клин около двух десятин земли), либо у престарелых или одиноких соседей. Работа была крестьянская, хлеборобская, к которой мать привычна с детства. Рассчитывались с ней кто чем мог: зерном кукурузы, ржи, пшеницы, брынзой, салом, овощами, фруктами, молоком, иногда, поздней осенью, мясом и салом. Особенно много помогал нам дедушка.
Я оставался дома один.
– Ты остаешься за хозяина, – наказывала мать. Это означало, что я не должен был уходить со двора.
Пребывание дома предполагало ничегонеделание и скуку, но я не скучал. У меня была своя компания: поросенок, который жил в просторном ящике на подстилке из соломы, и кот Васька. Я залезал к поросенку в ящик, и он тут же опрокидывался на спину и подставлял мне свое розовое брюшко: «Почеши». Я почёсывал его, и он начинал умиротворенно хрюкать и теребить пятачком мое ухо. Через какое-то время кот Васька присоединялся к нашей компании, прыгал в ящик и тут же выгибал свою спину, чтоб погладили. У нас была полная идиллия.
Затем мы с моими животными начинали играть в больницу. Я изображал доктора, а поросенок и кот – пациентов. Поскольку в нынешнем году я болел довольно долго, и лечили меня всевозможными снадобьями в порошках, в доме скопилось много бумажек из-под порошков. Я брал пустые бумажки и наполнял их «лекарством» – крупой кукурузы. Поросенок в нашей больнице «болел» животом, и «доктор» давал ему порошки с крупой кукурузы, а у кота, как у меня еще недавно, была «ангина», и он получал «микстуру» – чайную ложечку молока. «Больным» очень нравились такие «процедуры», и они с удовольствием принимали свои «лекарства».
Мы могли, с обязательными перерывами на тихий час, играть целый день, и когда приходила мама, все были довольны жизнью: и кот Васька, и поросенок, и, конечно, я. Мама с удивлением спрашивала:
– Сынок, как ты тут один, целый день?
И я говорил одно и то же:
– Я был не один, у меня хорошая компания.
Иногда приходили мои друзья: Иван и соседка Муся, и мы играли в семью. Иван, как старший по возрасту, был «отцом», а мы с Мусей – его «детьми». Первым делом мы начинали строить свой «дом». В ход шли две имеющиеся табуретки, единственный стул, пустые мешки, старые платки и другое тряпьё. После постройки «дома» мы залезали в него. Было тесно, каждый дышал в затылок или в ухо другому, но нам было хорошо: мы пребывали в своем «доме», который, казалось, защищал нас. Мы могли сидеть в «доме» довольно долго, но Иван вылезал первым и говорил:
– Пора обедать.
Мы начинали суетиться. Муся приносила из дому – она жила с матерью рядом с нами – либо большую плацинту с тыквенной начинкой, либо кусок мамалыги с брынзой. Я доставал то, что мне оставляла мать: мамалыгу и бутылку кипяченого молока. Иван выкладывал на стол хлеб, абрикосы и сливы из своего сада, потом, как старший, делил всё на три равные кучки, и мы садились обедать.
Через некоторое время после обеденного перерыва начиналась игра в школу. Иван перешел во второй класс и умел читать и писать. Мы с Мусей как неграмотные «дети» были зачислены в первый класс, Иван был нашим «учителем». Писать было не на чем, поэтому в ход шло всё, что можно было найти: обрывки оберточной бумаги, старые газеты. Карандашей тоже не было, Иван просто выковыривал из печки твердые черные угольки и ими писал. Вероятно, он хорошо помнил, как его в первом классе учили грамоте, потому что вместе с изучением букв, например, «А» и «М», он тут же учил нас складывать буквы в слоги и слова, и уже после первых занятий мы умели читать слово «мама».
Иван был хорошим выдумщиком и к обязанностям «учителя» подходил серьезно. После урока грамоты он проводил урок сказок и начинал рассказывать нам, «ученикам», всё, что читал сам и слышал в школе. Потом после «перемены» мог начаться урок арифметики, и так продолжалось до тех пор, пока не приходила мама. Наш семейный «дом» быстро разбирался, вещи водворялись на свои постоянные места, и гости расходились по домам.
Мать никогда не выказывала своего недовольства, даже если что-то было не так.
В погожие дни мы с Иваном и Мусей ходили за город, на речку Реуцел, купались, играли.
По воскресеньям мать не работала. «Грех», – говорила она. Иногда мы с ней ходили в церковь, а после утренней службы – на базар, который назывался «толкучкой».
На толкучке было людно. Казалось, всё население города столпилось на огромном пустыре в центре города, чтобы что-то продать или купить. Здесь было также много крестьян из окрестных сел: они чуть свет кто пешком с торбами, кто на каруцах прибывали на базар по всем шляхам – кишиневскому, флорештскому, рышканскому, глодянскому, фалештскому. Много было и цыган: они торговали самодельными гребешками, красивой конской сбруей, коваными топорами, серпами, молотками и прочим железом, – люди говорили, что все изделия цыганских ремесленников высокого качества. А цыганки то и дело приставали с гаданием или бродили небольшими группами в поисках ротозеев, которых можно обдурить или у которых можно что-нибудь стащить.
Время было послевоенное и бедность большинства бессарабцев, таких, как мы с матерью, граничила с нищетой, поэтому и выбор товаров не отличался особым разнообразием. Мелочь и всякое барахло выставлялись прямо на земле на подстилках из ткани или бумаги. Здесь, среди ржавого довоенного хлама, можно было найти вещи, нужные для хозяйства: от гвоздя, болта, молотка до столярного и слесарного инструмента.
Одежду, в основном поношенную, продавали с рук. Некоторые продавцы со своими тряпками были очень нахрапистыми, не давали проходу, приставали, совали в руки свой товар и требовали назвать свою цену.
Небогатый набор продуктов продавался тоже с рук. Лето было необычайно засушливым, был недород, особенно, по зерновым. Товаров было немного, и продавались они по так называемым коммерческим ценам, совершенно недоступным для большинства покупателей. Буханка черного, как дёготь, хлеба стоила сто рублей – сумасшедшие деньги. Полукилограммовый брусочек сала стоил еще дороже. Несколько скорбного вида тёток продавали пшеницу и рожь в мисочках. Овощей и фруктов вообще не было, хотя стоял август – время сбора плодов.
Дальше располагались повозки с бочками: здесь торговали домашним вином урожая прошлых лет. Говор был, в основном, молдавский: лучшие вина делали в молдавских селах.
– Пофтим, ун пагар де вин! (Пожалуйста, стаканчик вина!) – весело предлагал пожилой усатый виноторговец.
Другие торговцы были не менее приветливы. Каждому желающему купить хотя бы литр вина наливалось для пробы полстопочки. Тех, кто проявлял интерес к пробам и доходил до последней бочки в ряду, обычно уже потягивало на подвиги, песнопения и прочие проявления высоких чувств.
По пути увидели небольшую шевелящуюся толпу. Что такое? Оказывается, мужики поймали вора: залез к кому-то в карман. Били толпой. По-крестьянски старательно, но без особой злобы. В последние годы дармоедов и ворья расплодилось изрядно. Били для назидания другим.
Когда битьё закончили, толпа мгновенно растаяла, а на желтой глинистой земле остался лежать щуплый босоногий парнишка лет восемнадцати в испачканной сорочке и рваных черных галифе. К нему подошли две сердобольные женщины, которые приподняли его. Он смотрел куда-то вдаль безумными глазами, из носа его текла кровь. Ему оказали посильную помощь. Чуть поодаль стоял милиционер в белой гимнастерке с большим револьвером на боку. Он старательно делал вид, что ничего не замечает.
Дальше шёл ряд горшечников. В нескольких арбах с высокими бортами, рядами, аккуратно упакованные в солому, стояли глиняные кружки, миски, горшки ёмкостью от литра до одного, двух и даже трёх ведер. Здесь же были выставлены детские глиняные свистульки. Мы остановились у одной арбы, и мать спросила у краснощекой приветливой молодицы, откуда вся эта красота.
– Мы з Окраи?ны, тут нэдалэчко, з пид Хмельницкого, – ответствовала украинка.
– Знаю ваши места, бывала там. Хорошие там люди, – говорила мама. И мы поспешали дальше, пожелав молодице успехов.
Маму интересовал скот. Дальше на пустыре вплоть до самой Цыгании шла торговля поросятами, овцами, козами, коровами, волами. Мать с любопытством приглядывалась к овечкам, гладила их волнистые спины. Те благодарно блеяли, вскидывая свои сопливые мордочки. Мимо коз мы прошли быстро, не обращая внимания на бородатых животных: в нашей родове к козам относились пренебрежительно. Крупное рогатое поголовье было представлено худыми от бескормицы мосластыми коровами и телушками бурой, черной и пестрых мастей. Мать долго стояла возле них, явно любуясь и вздыхая: корова стоила в те времена целое состояние. Нам ли, голытьбе, думать о покупке коровы? И всё же, несмотря ни на что, мать тайно мечтала о своей корове, при всем несоответствии наших возможностей такой мечте.
Оказалось, однако, что некоторые мечты имеет свойство сбываться.
В один из воскресных дней наше хождение по толчку затянулась дольше обычного. Мать встретилась со знакомыми селянами и не могла удержаться от расспросов. Крестьяне рассказывали о своей жизни, о наделах, которые им достались при дележе земли, о тревоге за урожай этого года. Лица людей были озабочены: как выживать при такой засухе? Многие, став владельцами наделов, начали обзаводиться скотом: овечками, лошадьми, а некоторые – и коровами. А чем кормить скот, если травы высохли, соломы мало, а других кормов нет?
Как понял Павел много лет спустя, это были первые заботы и надежды недолгого послеоккупационного периода, когда бессарабский крестьянин поверил в лозунг «Земля – крестьянам» непосредственно перед этапом коллективизации. К сожалению, позднее, после страшного голода 1946–1947 годов, когда всех начали загонять в колхозы под угрозой раскулачивания, радости сменились разочарованием, страхом и даже злобой.
И только в 1960-х годах, когда колхозы стали на ноги, крестьянин вновь почувствовал себя сытым, обеспеченным и более-менее довольным.
Вернулись мы домой после полудня и обнаружили, что на нашем подворье происходит что-то необычное: на завалинке дома сидели какие-то люди, у дерева шелковицы на привязи паслась чья-то тёлка, которая успела накакать на наш огород.
– Ну, наконец, явились, – произнес, вставая с завалинки, невысокий человек. – Мы заждались.
– Тато, мамо! – тонко вскрикнула моя мать, узнав родной голос, и бросилась в объятия гостей.
Оказалось, это были мамины родители – мои дедушка Харлампий и бабушка Кассандра. В их доме в селе Молдаванка я родился и прожил первые месяцы своей жизни. Потом мы с моим отцом и матерью уехали из Молдаванки в город и больше с дедушкой Харлампием и бабушкой Кассандрой не виделись. А они продолжали свое житье в селе. Вместе с ними жили их младшие дети – мои тётки и дядя.
Дедушка был еще нестарый, плотного сложения крепыш, с выдубленным солнцем, ветрами и дождями конопатым лицом и седыми волосами. Бабушка Кассандра, напротив, была очень худой и выглядела изможденной. У неё было удлиненное лицо красноватого цвета с выпирающими скулами и большими глазами цвета чернослива. Голова её была покрыта, несмотря на жару, двумя платками: белым, ситцевым, и поверх него серым, шерстяным. На ногах дедушки и бабушки была необычная обувка – остроносые лапти из сыромятной телячьей кожи – постолы.
– А это кто такой? – обратил на меня свое внимание дедушка.
– Это ваш внук Павел, – объяснила мама.
Я подошел к дедушке. Он обнял меня и поцеловал в лоб.
– Гарный хлопец. Да ещё с самовязом. – Дедушка достал из огромной торбы горбушку ржаного хлеба и протянул мне:
– Бери, это от зайца.
– От какого зайца? – поинтересовался я.
– От дикого, – с серьёзным видом начал объяснять дедушка. – Сегодня рано утром встретили мы в поле зайца. Он сидит себе на меже и ест хлеб. Я попросил у него горбушку, а заяц спрашивает: «Зачем тебе?» Я говорю: «Иду в гости к внуку». Заяц подумал, подумал и отдал мне хлеб.
– Диду, а разве зайцы разговаривают по-человечьи?
– Зайцы – нет. А мы с ним не по-человечьи говорили, а по-заячьи.
– Хитрите вы, диду, – сказал я, догадываясь, что дедушка шутит. – Но хлебчик вкусный. Я давно такого не ел.
– Как вы добирались до нас? – спросила мама.
– А мы вышли из Молдаванки до восхода солнца, – объяснил дедушка, – и пошли не шляхом, а просёлками, через Старую Обрежу. Так ближе. К полудню были уже в городе.
– Тато, это же больше двадцати километров. И вы совсем не молоденькие. Какая нужда заставила вас с тёлкой идти в такую даль?
Дедушка с бабушкой хитро, как заговорщики, переглянулись, но сохраняли молчание.
– Вы что, тёлку привели на продажу? Да? – допытывалась мама.
– Пойдем, поближе посмотрим нашу красавицу, – вместо ответа предложила бабушка Кассандра.
«Красавица» паслась у забора, где нетронутая трава не сильно пожухла и была еще густой. Тёлка была необычного окраса: оранжево-бурые пятна на фоне чистой белой шёрстки покрывали её стройный корпус. Маленькое, как и положено телушке, девственно розовое вымечко было покрыто белым пушком. Крепкие мосластые ноги опирались на аккуратные копытца. Голову её украшали небольшие рожки, а широченный лоб – большое белое пятно – звезда.
Тёлка была в самом деле красавицей. На людей она не обращала никакого внимания, спокойно пощипывала траву, время от времени отмахиваясь от мух и оводов крепким хвостом с метелочкой на конце.
– Ну, как вам наша тёлка? – спросила бабушка.
– Очень хорошая, – глубоко вздохнув, ответила мама.
– Как её зовут? – спросил я.
– Её зовут Флорика, что по-молдавски значит «цветочек».
Мало кто из городских соседей мог себе позволить держать корову или тёлку. Во время войны оккупанты, а потом и Красная Армия реквизировали большую часть лошадей и коров. После войны у большинства горожан доходы были совсем мизерные: большая часть предприятий не работала, заработков не было. А вот селяне, кормившиеся с земли, без скотины жить не могли. Не хватало промтоваров, люди ходили в рванье, но скотом начали обзаводиться. Пока не началась засуха.
– Недавно, – объясняла бабушка, – мы водили Флорику к быку. Так что она своё отгуляла, и на будущий год после отёла станет настоящей коровой. И даст молочка.
– Да, – откликнулась мама. – Хорошая будет корова.
Она снова вздохнула.
– Докия! – вступил в разговор дедушка. – Послушай, дочка, что скажу. Мы видим, как вы с Павлушей живете. Бедно вы тут, в городе, живете. Мы в селе тоже не богатеем, но, по крайней мере, пока не голодаем. Недавно скосили жито и пшеницу, – молотить нечего: колос пустой. Но надеемся на кукурузу, может, соберем ещё.
Дедушка задумался, помолчал немного, а потом сказал:
– Нам трудно, а вам тут еще труднее. Решили мы с матерью помочь тебе. Мы привели эту телицу на твой двор и отдаём её в твои руки. Тебе и нашему внуку.
– Как – мне? – изумилась мама. – А как же вы?
– У нас остается Ружана, мать Флорики. Она добрая корова. Нам хватит.
И тут моя мама не выдержала и, отвернувшись от всех, тихо заплакала.