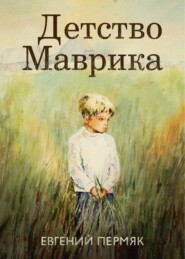
Полная версия:
Детство Маврика
Так и случилось.
Терентий Николаевич вбил пять кольев, обшил их досками, и получился почти настоящий нос парохода. С него уже можно было бросать настоящую чалку и отдавать якорь.
Ямка за ямкой – четыре ямы, четыре столба. Опять доски. Доски с боков, доски сверху.
Тётя Катя зовёт обедать, но до обеда ли, когда прорезаются окна и вставляются настоящие рамы со стёклами, валявшиеся в каретнике.
– Шабаш! – командует Терентий Николаевич. – Свисток на обед. – И он свистит куда громче и «настоящее» Гени Шаньгина.
В кухне накрыт стол. Деревянные ложки, общая чашка, а в чашке уха. Всё по-настоящему. Кормят, как плотников, которые рубили новую баню, когда Маврик был маленьким.
– Пожалуйста, рабочие люди, садитесь за стол, – приглашает тётя Катя и отрезает по большому ломтю ржаного хлеба каждому.
Маврик не знает, что всё это делается для того, чтобы он ел. Ел с аппетитом и здоровел. И Маврик ест. Он решительно откусывает от ломтя чёрный хлеб, зачерпывает за Терентием Николаевичем полную ложку ухи, дует на неё, а потом проглатывает и счастливо улыбается, переглядываясь с тётей Катей. Она не ест. За этим столом на кухне могут есть только рабочие люди. И они едят. Уписав уху, принимаются за гречневую кашу с маслом. Тоже из общей чашки и теми же деревянным ложками.
После обеда Терентий Николаевич набивает махоркой свёрнутую из белой бумаги цигарку и долго курит её, а потом, видя нетерпение Маврика, говорит:
– Шут с ней… Пошли на пароход…
И мальчики с шумом и криком бегут за Терентием Николаевичем.
IIIТерентий Николаевич увлёкся строительством парохода не меньше ребят. Наверно, в его шестьдесят с лишним лет проснулось недоигранное детство. Он рано пошёл в судовой цех нагревать заклёпки. С тех пор от темна до темна Лосев проработал без малого пятьдесят лет в судовом цехе. Помешала болезнь, случившаяся «от надсады». Уж он-то знал, какие бывают пароходы.
Не подёнщины ради, не ради отплаты покойному мастеру Матвею Романовичу за его добрые дела, а для своей душеньки строил он, потому что дитё должно жить во всяком старике, ежели он «путный человек».
Терентий Николаевич себя чувствовал «путным человеком», поэтому понимал, что пароход без дыма всё равно что собака без голоса.
– Катенька! Ты не бойся, дорогая моя, – увещевал он. – Ну какой же может быть пожар, если в старый самовар накласть угольев, поверх их навалить сосновых шишек, а лучше ладану. Дымить будет так, что и ты залюбуешься.
Екатерина Матвеевна колебалась – можно ли играть церковным ладаном, которого осталось с фунт после похорон Матвея Романовича.
– Так не в кабаке же он будет дымить, Катенька, – продолжал убеждать её Терентий Лосев, – в божье же небо дым от него пойдёт. И Матвею Романовичу оттуль будет видно, как хорошо живётся-играется его внучоночку.
Это решило исход дела. Ладан был выдан, и пароход задымил сизым, пахнущим церковью дымом.
Маврик и Санчик завизжали от восторга. На заборе появился босой розовощёкий мальчик. Это был Толя Краснобаев. Маврик сразу же узнал его и зазвал к себе.
– Хочешь быть рулевым? Ты умеешь править?
– Нет, – застенчиво признался Толя, – я лучше пока побуду матросом.
Следом за Толей на заборе показался его брат Сеня. Он был старше Толи, но ниже его ростом, зато коренастее и крепче. Тётя Катя называла его «очень самостоятельным мальчиком», которому можно доверять, и предложила заведовать «котлом» и подсыпать в самовар, то есть в котёл, уголь и ладан.
Сеня, довольный этим, серьёзно мотнул головой, понимая, какая ответственность возлагается на него.
Не хватало матросов. Маврик вышел через калитку и сказал ребятам, приникшим к щелям забора:
– Нужны матросы, пассажиры и грузчики.
Ребята переглянулись. Смелые на улице, не все из них набрались храбрости появиться на зашеинском дворе, где они никогда не бывали. Выручил Толя:
– Маврик, ты иди и свисти, а я выберу, кому кем быть.
Засвистел пароходный свисток. Засвистел он не ртом Терентия Николаевича, а резиновым кругом, к которому была приделана свистулька. Отвернёшь у круга запорную шайбочку, затем сядешь на круг, из него начнёт выходить воздух, и он засвистит, а потом опять надувай и садись. Сколько раз сядешь, столько и свистнет.
Трижды надули круг. Трижды просвистел пароход. Тётя Катя, бабушка, Терентий Николаевич, Толина и Сенина мама остались на «берегу».
– Отдать носовую, – скомандовал Маврик.
И носовую начали выбирать.
– Руль налево. Отдать кормовую. Полный вперёд.
И пошёл белый, крашенный известью пароход с чёрной трубой на всех парах. Замахали руками на «берегу». Направо-налево поворачивает Санчик рулевое колесо. Ходит капитан Маврикий Андреевич по палубе и смотрит в маленький тёти Катин бинокль, велит то с того, то с другого бока махать встречным судам белым флагом, сделанным из носового платка, раздувает во всю мочь Сеня котёл-самовар, и валит сизый дым из трубы с красной полосочкой…
Маврик не может сдержать себя… Прыгает в «воду» с верхней палубы и сначала «плывёт», а потом бежит по зелёной «воде»-мураве к тётечке Катечке, целует её, целует Терентия Николаевича и благодарит за пароход, за свисток, за дым, за красную полосочку на трубе и за всё, за всё…
Умилённая Екатерина Матвеевна приглашает всю команду, всех матросов, всех грузчиков и пассажиров на обратном пути из Рыбинска остановиться в старинном городе Сарайске, где будет выдано угощение.
Растроганный Терентий Николаевич не выдерживает… Он вышибает ладонью пробку из шкалика, выпивает его через горлышко и, притопывая, поёт:
И-эх! Пароход плывёт по Каме,
Баржа семечки грызёт.
Мил уехал напокамест,
Он обратно приплывёт.
И пока под тесовым обломом сарая готовится немудрёное угощение, пароход успевает сходить в Рыбинск и вернуться обратно. Терентий Николаевич тем временем сколотил на скорую руку пристанские сходни.
Маврик смотрит в бинокль и объявляет всем:
– Скоро Сарайск!
И все оживляются:
– Вон, вон… Я тоже вижу! – кричит Санчик. – Полна пристань народу.
Как хорошо бы сюда Ильюшу и молчаливую девочку Фаню. Уж она-то бы могла стать пассажиркой первого класса… Вы представляете на ней тёмную, оставшуюся от траура вуаль… В руках у неё чёрный страусовый веер… Длинные чёрные, тоже тёти Катины, плетёные перчатки… И все наперебой:
«Барышня… Позвольте мне снести на берег вещи…»
«Нет, ваша светлость, позвольте уж мне… Я задаром… Мне не нужны никакие чаевые…»
А она, не глядя ни на кого, отвечает:
«Ах, зачем же… У меня только лакированная шляпная картонка и ридикюль песочного цвета. Могу и сама…»
Но Фани нет. Первый класс есть, а в нём некому ехать. Как же мог Маврик не вспомнить о своих новых друзьях… И только теперь, когда пароход так торжественно причаливает к Сарайску, он вспомнил о них. Как это нехорошо и, наверно, безнравственно.
IVКиршбаумы нашли временное пристанище в Гольянихе. Так по имени старой деревни назывались концы Замильвья, где тосковал Ильюша, требовавший и ночью сквозь сон отвезти его на Ходовую улицу. Но Киршбаумам было не до встреч Маврика и Ильюши. Не состоялись более важные встречи. Киршбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулёмина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве, слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья, стариком Матушкиным, оказаться на весенней охоте и встретиться с Киршбаумом в лесу, на болоте. Однако Киршбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».
Рисковать было нельзя. Уже давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.
Во всех случаях Киршбаум должен был побывать у пристава. Без его разрешения он не мог открыть своего заведения. И он, не теряя времени, отправился к приставу.
Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо. Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской берёзы, любуясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем магазина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему весёлый пикник в ознаменование губернаторского письма.
– Адъютант! – крикнул за дверь пристав. – Кто ко мне?
«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий, толстый дежурный, урядник Ериков. Он вошёл и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:
– Имею честь, ваше благородье… господин из Варшавы.
– Проси.
Григорий Савельевич Киршбаум ещё не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошового счастья. Но, увидев блистательного Вишневецкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киршбаум сразу же нашёл нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склонённой, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:
– Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я есть предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне так же благосклонно, как ко всем другим, кто живёт в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твёрдые ноги.
– К вашим услугам, – ответил Вишневецкий. – Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста… «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.
Поблагодарив за предложенную дорогую папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от неё, Киршбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии и он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своём деде – «николаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киршбаум подтвердил всё это предъявленным паспортом.
– Так какой чёрт, досточтимый Григорий Савельевич, – удивился Вишневецкий, читая паспорт, – заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?
– Нужда, ваше высокое благородие, господин пристав. Нужда. Наверно, вы слышали о существовании этой неприятной дамы. Вот она-то и заставила меня искать город, где квартиры дешевле и руки дороже. Так я приехал в Пермь. Приехал и доучился на штемпельщика. Хозяин штемпельной мастерской, хотя и молился тому же богу, что и я, но не обращался со мной по-божески. И тут я услышал, что есть на свете счастливая Мильва. Мильва, где царит благополучие, где каждый имеет свой кусок хлеба, Мильва, где тихая, но процветающая жизнь, где нет беспорядков и, конечно, не может быть погромов и где нет, но может быть мастерская штемпелей и печатей «Киршбаум и сын». А в скобках – из Варшавы. Теперь скажите мне, ваше высокое благородие, назвали бы вы меня ослом или даже хуже, если бы я не бросил всё, не продал кое-что на дорогу и не приехал сюда?
– И преотлично сделали, – одобрил пристав. – В таком большом, по сути дела, городе Мильвенске нужна такая мастерская. «Киршбаум и сын», да ещё «из Варшавы» – превосходная вывеска. Благословляю! – Пристав простёр руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за удовольствие, доставленное остроумнейшим разговором. – Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит излишние хлопоты полиции.
– Я уже это сделал, ваше высокое благородие… И не могу поручиться, что не сделаю ещё… В губернии – губернатор, а здесь – вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет улыбнуться вашему покорному слуге?
После ухода Киршбаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса: «Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», а затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, оказавшимся слишком безупречным и на редкость благонадёжным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава, и особенно – замечаемого самим губернатором.
А Киршбаум, великолепно понимая, что это так и будет или примерно так, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.
VДом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киршбаумы, представлял собой обычное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, как и горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киршбаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построившись, эта рабочая семья дорожила каждой копейкой. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие пожили у них подольше. Им продавалось молоко, первые овощи, а самое главное, для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне…
Зубы у Анны Семёновны заболели вскоре после её приезда. Зубная боль была единственным поводом для встречи с Матушкиными.
Старик Емельян Кузьмич Матушкин в своё время ходил в знатных колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позаботился о детях. Одна дочь, Елена, – учительница. Вторая, Варвара, – зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семёновне. Попасть умно. Не просто завязала щёку и – «здрасте, Варвара Емельяновна».
Так не могла явиться осторожная подпольщица. И она, «маясь зубами», дождалась, когда сочувственная хозяйка Дарья Сергеевна сказала:
– К доктору бы тебе, девка, надо.
А та, держась за щёку:
– А разве они у вас есть?
– Вот те на. Целых три. Один много берёт и плохо лечит. Другой мало берёт, но только дёргает. А третья – душа человек, Варвара Емельяновна Матушкина, самая дешёвая и самая толковая. За малое лечение даже вовсе не берёт. Желаешь сведу?
Этого-то и надо было Анне Семёновне.
– Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе?
И вскоре Анна Семёновна была доставлена к Варваре Емельяновне.
Так началось знакомство и установилась связь Киршбаумов с мильвенским подпольем. Анна Семёновна получила возможность встретиться с «самим». Его можно было принять за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, и назвать болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовощёком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.
Емельян Кузьмич Матушкин был человеком вне подозрения. И если он был в чём-то замечен, то разве только в неразборчивом гостеприимстве и неумеренном хлебосольстве.
В те дни, когда Анна Семёновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», новоявленный предприниматель штемпельщик Киршбаум налаживал коммерческие знакомства.
Между тем в полицию поступали самые приятные для Киршбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из них он пообещал выбить зубы, если тот посмеет ещё раз сказать при нём хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что господин Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Киршбаум. Такие губернаторы, и только такие, как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.
Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, которое прочило ему пост вице-губернатора.
– Хватит искать чертей в кадильнице, у нас есть поважнее дела, – сказал пристав своему помощнику по негласному надзору и принялся распекать его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича Тихомирова, высланного по доносу из Петербурга в Мильву. – Уже полгода, и ни одной зацепки.
Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустив голову. Иного ему и не оставалось.
Тихомиров – юрист по образованию, столбовой дворянин по происхождению, опасный, но неуличенный внутренний враг империи – жил в доме своего отца, генерал-лейтенанта в отставке, жил, не давая полиции даже малейших поводов для подозрений.
А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировал» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Киршбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы».
Впрочем, у Валерия Всеволодовича были основания посещать Матушкиных не только по зубным недугам, но и недугам сердечным. Младшая дочь Матушкиных, Елена, называлась досужими языками невестой Тихомирова задолго до того, как он понял, что любит её и что только она будет его женой.
VIА рабочая Мильва жила по заводскому свистку. Первый свисток – просыпайся, второй – беги на завод, третий – начинай работу. С третьим свистком закрываются ворота проходных.
Ранним утром оживают улицы Мильвы, и особенно те, что ведут к заводу.
Ходовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный зашеинский дом, особенно шумны в этот утренний час. Здесь сливаются людские потоки со всех улиц по эту сторону пруда и текут шумной лавиной к главной проходной. Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топанье ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стёкла окон не предохраняют от шумного говора, и Маврик слышит сквозь сон это с детства привычное оживление, и оно не будит его.
Вчера он вместе с ребятами тоже решил работать на заводе, как только подрастёт. Толя Краснобаев сказал, что будет техником. Сеня, его брат, пойдёт к отцу в механический цех и станет токарем на самоточке. А Маврик и Санчик пойдут в судовой цех нагревать заклёпки, а потом будут строить шаланды, землечерпалки, а может быть, заводу дадут заказ на большой пароход. Давали же. И Толя Краснобаев уверен, что дадут.
Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только потому, чтобы не огорчать тётю Катю.
Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на площадке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.
– Санчик, ну что же ты? – приглашает Маврик.
– Иди, иди, – подтверждает Екатерина Матвеевна. – Поешь.
Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест всё и самое простое, а самое простое – самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек проглотил лишний кусок. И как только Маврик перестаёт есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тётя Катя говорит:
– Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не съест больше тебя.
И Маврику ради Санчика приходится есть.
Вот и сегодня, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», отбывается самая трудная утренняя повинность еды. Маврик уже закормлен, а Санчик никогда не отказывается от еды. Правда, теперь он, с приездом из Перми своего друга, сытно и часто ест, но всё равно его тельце тоще, руки худы, щёки впалы. Ему трудно наверстать недостаток в питании первых лет его жизни. Когда он был младенцем, ему не хватало молока, а потом, когда он подрос и сел за общий стол, семье не хватало и всего остального, даже не всегда доставало хлеба.
Но зачем вспоминать об этом сегодня, когда на столе белая молочная лапша, когда в чашку чая кладётся два куска пилёного сахара, когда чай пахнет чаем, а не прелым сеном, а хлеб, как тополиный пух, мягок и бел. Как вкусно и как хорошо есть досыта, и будто нет другого стола, где в этот же час сидит Санчикова семья и его мать со вздохом режет ржаной хлеб и думает, как всегда, где и что раздобыть на обед. А здесь уже топится печь и в глиняной латке-жаровне лежит утка, аккуратно обложенная кружками картофеля, дожидаясь, когда сгорят дрова, а угли загребут в загнетку, чтобы ей, утке, начать томиться в вольном жару при закрытой заслонке и начать пахнуть нестерпимо вкусно, а потом появиться на обеденном столе и отдать одно крылышко Маврику, а другое ему, Санчику.
– А у нас, – говорит он, – в прошлом году тоже была утка. Не целая, а хватило всем.
Этим он как бы показывает, что и они живут вовсе уж не так плохо.
С завтраком покончено. Маврик вскакивает. Санчик бежит вслед за ним, дожёвывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждёт, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносится вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.
В пароход играть уже не хочется. Как он ни хорош, но надоело ездить в Рыбинск и обратно. На одном и том же месте.
Манит улица. Её-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно Маврику придётся открыть туда ворота.
Она недавно разрешила ему перелезать через три изгороди и ходить через два огорода к Толе и Сене Краснобаевым. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий огород. Красная комолая «не бодучая» корова. Куры, которых можно кормить. Но самое интересное – лазить по закоулкам большого сарая и собирать яйца. Но ещё интереснее спускаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.
VIIТоля и Сеня Краснобаевы многое умеют делать сами. Ружья. Свистульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые поворачиваются против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Сеня поможет доделать её, а потом, наверно завтра, Маврику и Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они могут быть приняты в славную дружину храбрых воинов.
Медленно вытёсывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяжеловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посечь ногу.
– А ты не бойся его, не бойся, – наставляет Сеня Маврика. – Пусть он тебя боится. Вот так, вот так…
И Маврик тешет «вот так… вот так». Мало-помалу, мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее…
– Вот так… Вот так, – приговаривает вышедшая во двор бабушка Краснобаиха и нахваливает: – Ух ты, какие ровные щепочки начали отлетать – видать, понятливая у тебя рука, тетечкин кормилец-поилец… Вот так… Вот так… Сдружайся с топором. От него всякий струмет пошёл – и долотья, и пилы, и струги, свёрла, а потом станки-машины. Все они топору доводятся детками, внуками, внучками, правнучками… Сдружайся с топором. С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит. А таким ли тебе расти, коренное молодое дерево, от старого дуба сильный росток…
Наговаривает-приговаривает так Краснобаиха, а топор всё легче и послушнее становится в слабой и тонкой руке Маврика. Рука уже побаливает в локте. Пусть болит. «С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяпах ходит»… Боли рука, не отвалишься…
И вот уже вытесано лезвие меча. Со лба льётся пот. Обе рубашки прилипли к спине. Теперь нужно, как учит Сеня, помахать руками, да быстро-быстро, чтобы разошлась по жилам застоявшаяся кровь. И Маврик быстро-быстро машет руками, и расходится по жилам застоявшаяся кровь, и от этого веселей блестит отдыхающий на чурбаке топор. И он уже не пугает своим блеском и не говорит: «Я острый-преострый, живо отрублю тебе палец». Нет. Нет, он смеётся, отсвечивая солнечными лучами, и говорит совсем другое: «Тебе со мной скоро не будет страшен никакой сук, никакое дерево».
Как мало ещё сделано, а уже свистит свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие потоки текут по улице. Не все рабочие обедают дома, а только те, что близко живут.
Отец краснобаевских ребят Африкан Тимофеевич и его брат Игнатий Тимофеевич обедают дома. Они живут очень большой неразделённой семьёй. За стол садятся человек двенадцать. Игнатию Тимофеевичу давно хочется жить самостоятельно. Но этого сделать нельзя, пока жив старик Тимофей Краснобаев. Игнатий ненавидит старый кирпичный дом с «голубятней» наверху, как он называет мезонин. Краснобаевские ребята не любят своего дядю Игнатия и скрывают это от всех и от Маврика.
У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулёмин – ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март. Когда как. В нём нет устойчивой теплоты даже к племянникам. Он может и поколотить. Поэтому они побаиваются его. Зато своего отца Африкана Тимофеевича они считают за товарища. За старшего, конечно, как Маврик тётю Катю, с которой можно говорить обо всём.
В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но не во всём.
Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит:



