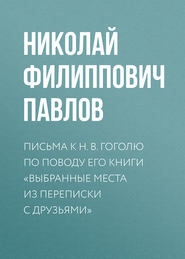 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Письма к Н. В. Гоголю по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями»
Второе письмо
До сих пор, в первой половине вашего завещания, вы были лицо страдательное: вы предоставляли действовать другим; другие должны были не привлекаться вниманием к праху, не ставить памятника и не плакать. Теперь вы являетесь лицом действующим, вы хотите поучать нас вашим словом и сделать доброе дело вашим портретом. Рама картины раздвигается, и горизонт становится шире; выступают на сцену не близкие ваши, не друзья, а читатели, «все ваши соотечественники», т. е. Россия. С одной стороны они, с другой вы; с одной стороны миллионы людей, которые чрезвычайно нуждаются, чтоб какой-нибудь писатель оставил «им» в наследство благую мысль, братское поучение «принес пользу их душе», с другой писатель необыкновенный, предлагающий свои услуги.
В четвертой статье вы завещаете «всем вашим соотечественникам» лучшее будто бы из всего, что произвело перо ваше: прощальную повесть. Она, как увидят, относится к ним. Ее «носили вы долго в своем сердце, как знак небесной милости к вам Бога; она была источником слез никому не зримых, еще со времен детства вашего».
Я не стану останавливаться на том, может ли эта повесть быть лучшим вашим произведением, если написана в роде вашей новой книги и противуположна вашим прочим, «бесполезным», но чудным созданиям; знак ли она божией милости или иного не столько священного вдохновения, – какое мне дело до ее родословной!.. Конечно, вам не следовало бы упоминать, что вы плакали над нею, будучи еще дитятей: назначая ее на великое дело поучения для людей взрослых, вы даете им право требовать, чтоб она была задумана и оплакана в менее нежном возрасте. И завещать ее соотечественникам можно бы иначе, – простым действием типографского станка, как завещаны «Мертвые Души», «Ревизор» и ваши другие повести. Книгопечатание изобретено именно с той целью, чтоб избавить нас от лишнего письма. Но вы рассудили принять на себя напрасный труд. В нем есть некоторая торжественность; да будет так: не эти мелочи достойны внимания. Я перейду к предмету более важному и более существенному. Написав: «завещаю всем моим соотечественникам», вы, по-видимому, почувствовали все значение su всю важность этих слов, а потому выставили несколько причин, которые послужили поводом к такому громогласному воззванию. Вы завещаете нам прощальную повесть, основываясь единственно на том, что «всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям…» Вы говорите: «Умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит что-нибудь похожее на поучение; я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поученье людям». Чтоб более уяснить себе, в каком смысле принимаете вы поученье, я приведу еще одно место из письма вашего о Мертвых Душах: «Создал меня Бог и не скрыл от меня назначения моего. Рожден я вовсе не затем, чтоб произвесть эпоху в области литературной; дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни». В пример этого простого, близкого вам дела и в подкрепление своей теории вы приложили образцы – ваши письма: «Женщина в свете», «О помощи бедным», «Споры», «Советы», «Русский помещик», «Чем может быть жена в домашнем быту», «Сельский суд и расправа», «Близорукому приятелю». Все это не что иное, как опыт поучений, которые, вероятно, достигают в прощальной повести большего совершенства; ибо в ней вы думаете, сердце наше «услышит хотя отчасти строгую тайну жизни и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны», между тем как в поименованных письмах собственно таинственного ничего нет, и обещаемой музыки еще не слышно. Из приведенных слов, из слов, следующих далее в 5-й статье вашего завещания (где вы надеетесь, что письма, изданные после вас, «снимут с души вашей хоть часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного)»; наконец, из многих мест вашей книги ясно, что, по вашему мнению, в так называемых вами приятных занятиях уму и вкусу не заключается «благая мысль», о которой идет речь, что они не полезны душе и не поучительны людям. Эту мысль, эту пользу, это поученье вы отделяете от своих прежних сочинений, давая им (из ложного понимания или из похвальной скромности) значение умственной игрушки. Но то, что вы называете приятными занятиями уму и вкусу, ни более, ни менее, как произведения искусства. Если они дурны, разумеется, в них ничего нет; если хороши, есть – и благая мысль, и польза душе: ибо есть истина, выраженная только особенным способом, выраженная не логическим выводом, не в правилах и наставлениях, а в художественных образах. В той же вашей книге вы говорите о литературе с великим уважением, и в одном из писем, задавая, вследствие самого странного воззрения, предметы лирическому поэту в наше время, присваиваете ей право на поучительный характер и явно считаете способною приносить пользу душе.
Чтоб разрешить эти сомнения и противоречия, я обращусь к вам же самим. Вы предсказываете между прочим Одиссее, переводимой Жуковским, такую великолепную будущность, которой позавидовало бы любое поученье. Вы полагаете, что ее прочтут у нас все возрасты и звания, что она подействует на всех вообще и отдельно на каждого, что народ наш, почесав у себя в затылке, почувствует, что он молится ленивее язычника, что Одиссея произведет впечатление на современный дух нашего общества, что в ней услышит себе сильный упрек наш девятнадцатый век (несчастный, коснея в невежестве, он не знал ее до сих пор), что она есть самое нравственное произведение, принесет много общего добра, возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка мыслей и чувств, возвратит его к простоте. Словом, вы ожидаете от Одиссеи какого-то коренного переворота. Из всего этого следует, что она не шутка и не может быть пустым развлечением, одним приятным занятием уму и вкусу. Предназначая свою прощальную повесть на поученье своих соотечественников, вы, какое бы высокое мнение не имели о ней, не можете, однако, желать, чтобы она произвела на души более благодетельное действие, чем то, которое обещаете Одиссее; а между тем ее написал язычник и по свойству своего положения не мог напитать душевной пользой, приличной нам, дать ей поучительное направление, желаемое вами; не мог, в вашем смысле, оставить христианину никакой благой мысли, ничего, кроме ничтожной забавы, веселой сказки: ибо в понятиях о нравственности, о душе, каждый из нас, безграмотный марака, стоит несравненно выше Гомера.
Вы отгадали художническим сочувствием силу художественного произведения вопреки своей теории. Одиссея, через три тысячи лет, еще жива, благодаря автору, что он вздумал написать ее и не вступал в духовную переписку с друзьями. Одиссея еще заставляет нас высказывать мечтательные мнения и делать несбыточные, предсказания; а множество так называемых поучений лежит в библиотеках неразвернутыми с справедливо-забытыми именами их сочинителей. Это случилось оттого, что искусство, сопутствуя исторические народы в их развитии, служит не только приятным занятием уму и вкусу, но раскрывает также и глубокую тайну жизни и глубокие истины души. Покорится ли оно влиянию мимоидущих происшествий, ежеминутных изменений общества, или явится в спокойном созерцании идеала красоты, носимого человеком в самом себе, это будет все он, все дух его, воплощаемый в светлые образы поэзии.
Нет ни малейшей трудности указать на добро и зло; но трудно настроить душу к гневу и любви, которых вы справедливо советуете кому-то молить у бога. В этом-то смысле искусство, рассматриваемое с наставительной точки зрения, выше многих поучений, и «Мертвые души» выше ваших писем. Все поучает человека: искусство, наука, жизнь, и часто всего менее поучают поучения. Обязанность писателя-художника ограничивается художеством: напишет он произведение, проникнутое художественной истиной, его дело сделано. Но вам показалось этого мало. «Бог не скрыл от вас вашего назначения, ваше дело проще и ближе: ваше дело душа». Велика важность, что искусство входило в воспитание народов и вместе с другими составными частями жизни имело влияние на их историю! Какая нужда, что человеческое сердце переживало с ним все радости и все печали!.. Эта польза душе, извлекаемая из искусства, натянута, не та, – это поучения косвенные, дела мира сего; нужны поучения прямые, которые бы определяли образ душеспасительных действий. «Строго взыщется с писателя; если не останется от него ничего в поучение людям». Строго или не строго, вы не можете знать и не должны брать на себя, что знаете: это тайна не нашей премудрости. Но, переступив за границу искусства, с какими же наставлениями может писатель обратить к нам прощальную повесть? С наставлениями разума и науки? Но они не наложили своих несносных оков на вашу книгу, и очевидно речь идет не об истине. Какие же поучения услышим мы, в которых откроется нам хотя отчасти «строгая тайна жизни и сокровеннейшая небесная музыка этой тайны»? Отчего преимущественно на писателя возлагаете вы часть поучений такого рода? Чему же он станет поучать нас? Нравственности? Добродетели? Как нам вести себя на земле, чтоб спасти свою душу? А ему до этого какое дело? Он писатель! Но кодекс христианской добродетели не велик и не затруднителен для памяти, для него не нужно особенных знаний, высокого просвещения, необыкновенных дарований; он есть общее достояние, собственность богатых и бедных, мудрости и простоты, – собственность единственная, которой не может отнять человек у человека. Этот кодекс, составленный неисчерпаемой любовью, таков, что писателю, потому только, что он писатель, трудно преподавать его и особенно в тот век, когда раздвоение мысли с жизнью и книги с делом доведено до такой печальной утонченности. Книжники, поучавшие о приходе Мессии, не узнали Христа; Он был узнан невеждами, безграмотными. Тут писатель не может сказать безграмотному: послушай меня; в этой науке безграмотный может быть ученее его. Тут наши нравоучительные речи, книги, наши повести, даже и прощальные: не что иное, как пустой звук, мертвая буква. Тут поученье имеет обязательную силу не столько для поучаемого, сколько для поучающего, и на этом тяжелом поприще одни те подвизались с пользою, которые поучали не на письме, которые не писали завещаний, а сами были завещаньем. Блаженный Августин, бывши еще язычником, гремел в Риме с кафедры против кровавых игр, где человеческие жертвы приносились в потеху просвещенному народу древности; но игры продолжались, не слушался народ ни законов Константина и Гонория, ни поучений знаменитого писателя и других. Тогда отправился с Востока монах, неизвестный до того времени; он явился в Римский амфитеатр, сошел на арену, стал посреди гладиаторов, хотел разнять их и лег между ними, дав побить себя камнями кровожадным зрителям. Монах ничего не написал, ничему не учил; история только запомнила его имя, да остался памятен день его смерти, потому что с этого дня человекоубийства на играх прекратились. Магометане не позволяют писать картины и ваять статуи, опасаясь, что они на том свете потребуют себе живых душ. Так, слово спасения требует на этом свете живого дела. Если всякий писатель станет поучать в вашем смысле, потому что он писатель: отчего не поучать богатому, потому что он богат, сильному, потому что он силен? Таким образом поучение и превращается в гордую забаву для поучающего, в горькое оскорбление для поучаемых и в поругание над святынею нравственности и добродетели. Доказательством этому служит ваше письмо к Русскому помещику.
Мысль о поученьях, которые, с одной стороны, легче всякого другого ремесла, была у людей причиною самых страшных и самых бессмысленных явлений. Можно иметь так называемые знания и через них стоять выше себе подобного, можно распространять их со всем жаром настойчивости, и никто не потребует, не осмелится потребовать, чтобы человек пожертвовал хотя вкусным обедом в доказательство своего умственного убеждения. Можно даже, из любви к ближнему, и при средствах, которые эта любовь умеет находить, поставить его в такое положение, что ему удобнее будет помышлять о душевной чистоте; но вообразить себе, что в христиански-духовном смысле писатель, во имя только своего знания, имеет право на поучение и, следовательно, стоит выше другого, кого бы то ни было, – этого нельзя, и вопрос о преимуществе такого рода человек сам разрешать в свою пользу не должен.
Чему же, повторяю, станет поучать писатель? Пониманию истин веры? Но, боже мой, при такой мысли самое заносчивое высокомерие должно ринуться с своей высоты. Каких великих органов не имели уже эти великие истины? Ведь надо вспомнить, надо знать, что люди, особенно призванные на это дело, соединяли с несокрушимыми убеждениями необъятную твердость разума, всеобъемлющую ученость; что с ними невозможно, если б даже следовало, входить в состязание. А между тем они поучали не от своего имени, а от имени самой веры, ибо хранили святую заповедь: «Вы же не нарицатейся учители».
Но что я говорю? Может быть, ваша прощальная повесть, написанная во благо всех ваших соотечественников вообще, направлена к цели менее огромной. Служа выражением вашего особенного радушия и самой человеколюбивой склонности к так называемым светским людям, склонности знаменательной, положившей отличительную печать на всю вашу книгу, может быть, повесть ваша займется одним их спасением. И это понятно, и это извинительно. Они кружатся среди мира, в вихре соблазнов и прельщений. Чье сердце не восскорбит о жертвах суеты? Кому не захочется избавить их от этой опасности? Кто, истратив на них все драгоценности своей любящей души, не позабудет других, не «светских» существ, и не станет отзываться об них с таким пренебреженьем, каким наполнены все ваши письма. Но, ради бога, скажите серьезно, неужели вы в самом деле думаете, что светские люди, начало и конец ваших поучительных посланий, не знают, как спасти свою душу?
Знают, не меньше вашего знают, да не хотят. Им хочется не спасения; им хочется жить в свете, как они живут, делать, что делают, не отказаться ни от одной выгоды, ни от одного удовольствия, ни от одной почести, оставаться именно в том положении, в каком находятся; а для успокоения совести, восстающей иногда с упреками, и для комфорта душевного им нужно, чтоб книга или человек придумывали за них поучения, сообразные со степенью их желаний. Им нужно, чтоб кто-нибудь сказал: живите, как вы живете; будьте тем, что вы есть-, – и при этих условиях можно спасти душу. Уверьте женщину в свете, что она может быть и женщиной в свете, и святою; докажите помещику, что он и помещик и учитель спасения. Вот от этого иногда они затруднятся; вот тут, правда, полезен бывает человек с высоким дарованием и необходимы поучения особенного рода. Но зачем, кому бы то ни было, браться за это дело? Зачем принимать на себя лишний труд? Стоит выписать из порядочной библиотеки реестр сочинений, изданных на такой предмет: их очень много, над ним трудились тонкие умы, и после них не остается ни слова прибавить к их снисходительному учению.
Четвертое письмо[2]
Je veux faire sentir el comprendre à tous quelle peut être, la puissance morale de la beauté, or comme m-r l'avocat – général no comprend pas comment la Forme, ta beauté peuvent recevoir une destination saint* el moralisante je devais lui apprendre la puissance qui ex isle dans la с haïr dans le corps, indépendamment de la parole. Un procès[3]
Надо вам сказать, что я всегда с особенным уважением размышлял об учителях и наставниках. Их обязанность всегда казалась мне самою мучительною и самою мудреною. С одной стороны, они должны учить тех, кого нельзя выучить; с другой – учить тому, чего сами не знают. После этого можете представить, какое высокое мнение составилось у меня об их важном звании и с каким чувством предубеждения в вашу пользу начал я читать письмо, которым открываются ваши поучения женщине в свете и разным другим женщинам. Первая моя мысль была, что вы взялись за дело… Пора уже приняться просвещать их!.. Существа нежные, существа прекрасные, и они заразились демонской гордостью нашего века… Любовь, которая в продолжение многих столетий, под разными формами, составляла их внутреннюю деятельность и их лучшую игрушку – любви уже им мало. Семейная жизнь, супружеское счастье, милые дети, – и это не удовлетворяет их новой жажды. Домашние добродетели, домашнее благополучие перестали быть целью. Она из-под мирного крова перенесена в невидимую даль. Мы ошибемся, если скажем, что женщина добродетельная находит спокойствие в чувстве своего достоинства и что женщина счастливая точно счастлива: добродетель и так называемое счастье сделались положением отрицательным, условием, при котором легче жить, пристойным платьем, без которого не так ловко показываться. Главное дело – влияние на общество, лихорадочные заботы о других, участие в судьбах человечества. Виновата ли в том чудная женщина Франции, рассказавшая нам историю страшных болезней и не придумавшая ни одного лекарства; или сама она не что иное, как горькая жертва своего времени – здесь не место такому вопросу.
Вследствие этого направления поднялись отовсюду крики о правах женщины, о новом угнетении, не замеченном теми, которые брались пересчитать все виды угнетений. Эти крики непонятным образом достигали в самые отдаленные места и нарушали согласие у людей самых мирных. Европа усеялась вечерами политическими, литературными, социальными; явились разные женские общества. Разумеется, стало несносно, мелко ютиться в своей семье, как улитке в раковине, и изливать на нее все сокровища своего сердца, когда предстоит поприще более обширное, когда там, где-то, страждет человечество. Высокая мысль, полное отсутствие эгоизма, породившее, однако ж, страшную пустоту души. С одной стороны представляется нам в женщине стремление к чему-то прекрасному, новому, но до сих пор необъяснимому, развитие какой-то теории, до сих пор еще мертвой; а с другой – тоска, тоска невыразимая. Посмотрите на противоречие, в какое женщина впала сама с собою; вы видите, что она как будто бы готова посвятить душу и состояние свое новой идее, а между тем разоряется на неистовые требования моды и с утра до вечера терзается в сатурналиях общественности. Она бежит от своей тоски, ищет забвения, боится опомниться. При этом широком сочувствии к человечеству, при этом похвальном попечении о благе ближнего, ей должно бы приучиться невольно к самозабвению, опрометчивости, ошибкам; и между тем посмотрите, напротив, как мало она ошибается и как она благоразумна!
Положение мужчин от такого порядка вещей не стало слаще. Жалкий актер на вечерних представлениях, он, как планета, послушная механическим законам, все еще вертится около своего солнца; да солнце это не греет более, а только светит. Теперь разговор с женщиной не есть уже приятное препровождение времени, а также кабинетная работа. Вам нечего говорить об этих милых центрах, о литературных собраниях: вы знаете их глубокую скуку.
По всему изложенному выше я полагал, что вы войдете в жалкое положение как женщин, так и мужчин, и если уже пошло на советы и нравоучения, то вы вашей женщине в свете, как и прочим дочерям Евы, дадите добрый урок, произнесете суровое слово истины, скажете светлую мысль, которая поможет нам в нашем общем несчастии.
Велико было мое разочарование, тщетны были мои надежды. Вы пустились в комплименты, бывшие в употреблении по гостиным осьмнадцатого века; вы смотрите на историю, как смотрел Француз Лемонте; вы проповедуете идолопоклонство перед женской красотой, позволительное не нравоучителю девятнадцатого столетия, а герою того войска, которое когда-то дралось десять лет за прекрасную Елену; вы признаете в красавице такое могущество, что, читая вас, так и хочется влюбиться в женщину безобразную; вы снимаете с человека ответственность за его порок или преступление, приписывая их влиянию побочной причины, а не его собственному произволу, и наконец вы слишком много истощаетесь на жалость о таких страждущих, которых болезни проистекают от излишества здоровья.
Чтоб определить яснее смысл ваших советов и прямое отношение их к женщине в свете, необходимо составить себе понятие об ее характере, каким он является в вашем письме. Первая черта, которая поражает нас, состоит в том, что у нее два характера: один природный, другой составился из переписки с вами. По всему вероятию, вы уже прежде не оставляли ее своими письмами, и она очень извинительным образом, с понятным отвращением к неучтивому и ледяному анализу, смешав художника с нравоучителем, во имя одного поверила другому. Это замечание я постараюсь оправдать очевидными доказательствами, для чего необходимо рассмотреть, в какой духовной пище имела она нужду и какую вы предложили ей. Женщина в свете говорит у вас: «Зачем я не мать семейства, чтоб исполнять обязанности матери; зачем не расстроено мое состояние, чтоб заставить меня ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем муж мой не занят какою-нибудь общеполезною должностью, чтобы мне хотя здесь помогать ему и быть силою, его освежающею, и зачем вместо всего этого предстоят мне одни выезды в свет и пустое, выдохшееся общество, которое теперь кажется мне бездомнее самого бездомья!» В этих желаниях есть мысль, есть потребность деятельности; тут слышится естественный ропот сердца, страдающего под игом светских отношений. Далее, она «не знает и не может придумать, чем может быть кому-нибудь полезна в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой умной и всезнающей женщиной, что у нее кружится уже голова при одном помышлении о том, что она слишком молода, не приобрела ни познания людей, ни познания жизни, словом, ничего того, что необходимо, дабы оказывать душевную помощь другим». Эта скромность, это отречение от пагубной мысли оказывать душевную помощь, эта безнадежность быть полезною в свете кому-нибудь – все это принадлежит ее личности, потому что на всем есть свежий след жизни и истины; это черты не из переписки, а из души. Какой же бальзам льете вы на глубокую рану этой женщины; чем разрешаете вопрос, заданный ясно и определительно? Вы начинаете с того, что предсказываете ей в лице всех женщин великую будущность; вы говорите, что нужно «содействие женщины для оживотворения утомленной образованности гражданской, душевного охлаждения, нравственной усталости; что эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и все чего-то теперь ждет от женщины». Но ведь эта великолепная фраза не помогает делу, тем более, что она принадлежит к области чистой фантазии: мы не знаем этих углов, где все чего-то теперь ждет от женщины. Речь идет не о различии полов, а о чем-то поважнее.
В том наше и горе, что мы ни от женщины, ни от мужчины ничего не ждем. Если б ждали, не было бы душевного охлаждения, нравственной усталости, утомленной образованности. Ждал осьмнадцатый век, ждал и от мужчин, и от женщин, и от взрослых, и от юношей, – нам уже нельзя ждать: мы пережили все обманы ожиданий; мы ждали второго тома «Мертвых Душ», а читаем «Избранные места из переписки с друзьями». Утешительно бы было думать, что женщина, которая вносила столько поэзии в нашу жизнь, примет, наконец, на себя и ее черную работу, согласит свободу личности с существованием общества, определит отношения труда к капиталу, укажет исход из результатов, поставивших в тупик современную философию… Это бы очень оживотворило общество; но ведь можно играть словами, да зачем же играть тогда, как милая женщина относится к вам с своим горьким недоумением, с непритворной болью своего сердца?.. Одна ложная мысль повела к другой. Если вы, без всякого основания, без всяких данных, пророчествуете женщинам такой великий подвиг в будущем, то в настоящем тотчас же вслед за этим пророчеством возлагаете на них ответственность за такое дело, в котором они вовсе не виноваты. Кто отвергает влияние, какое имеет жена на мужа? Об этом ни спорить, ни говорить не следует. Но я не вижу, каким образом можно доказать, что в России мужья берут взятки большею частью оттого, что жены или «Жадничают блистать в свете, или предаются идеальным мечтам, а не существу своих обязанностей». Да ведь брали взятки и тогда, как не было света, т. е. до Петра, когда жены не жадничали блистать и не предавались идеальным мечтам. Зачем хотите вы путать понятия о нравственности в молодой и прекрасной женщине? Если человек делает преступление, то вся ответственность лежит на нем самом, и не признавать этого значило бы лишать его свободной воли, человеческого достоинства, превратить в машину, которая в своем движении повинуется посторонней силе. Если вы хотите извинить его, христиански отпустить ему его прегрешение, вы можете сказать, что он покорился влиянию всего, чем окружен, всех общественных стихий, – и жены, которую дала ему судьба, и друзей, которым жал он руку, и тех, кого слушается, и тех, кому приказывает, и законов, под которыми живет, и воздуха, которым дышит. Все вместе действовало, конечно, на его внутренний организм и влекло в ту или другую сторону; но в сложности впечатлений, воспитывавших его, вы не отыщете нити, управляющей его рукою; он образовался миллионами людей, целой историей, а виноват все-таки останется он сам, и никто еще: он имел свободу пасть и устоять. Пожалуй, «жена может возвратить мужа с кривой дороги на прямую, быть его злом и погубить его навеки»; но ведь это в смысле житейском, материальном, а не в смысле нравственном. «От нравственной заразы», неправда, она не может «уберечь» его; ибо тут уберегает человек сам себя. Думать и хотеть – запретить ему нельзя; это неотъемлемая собственность его, и в ней должен он давать отчет один, без сопровождения своей жены. Нет, не оттого берутся взятки, что наряжаются жены, а оттого наряжаются, что мужья взяточники. Да и с чего вздумали вы, что взятки приносятся в дань к ногам жены? Они мужу необходимее, чем ей. Часто в то время, как она сидит в нужде, они проматываются на другое. Их гораздо больше пропивается на вино, проигрывается в карты, чем тратится на самый богатый женский туалет.



