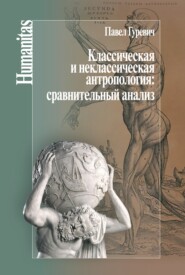
Полная версия:
Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ
Такая позиция характерна для тех мыслителей, которые отстаивают тезис об абсолютном приоритете культуры, общественных форм жизни над природными предпосылками человеческого бытия. В частности, среди структуралистов бытует убеждение, что человек есть слепок формирующих его культурных условий. Отсюда вывод: хочешь проникнуть в тайну человека – изучай те или иные структуры самой культуры, ибо индивид отражает их изменчивые формы.
Не только биологическая конституция человека, не только культурная символика наводят на мысль о некой единой человеческой природе. Несомненно, общей чертой служит также высокая гибкость поведения, которая в свою очередь связана с человеческой способностью включаться в символическую коммуникацию. У всех людей есть какой-то язык. Человек повсеместно обнаруживает дар к рефлекторному мышлению. Следовательно, ему присуща возможность предвидеть последствия своего поведения.
Итак, человеческая природа сохраняет свою внутреннюю устойчивость. Противоположное положение, о котором мы говорили («человеческая природа беспредельно мобильна и не фиксирована»), наталкивается на определенные парадоксы. Идея безграничного формообразования человека может привести к далеким и неожиданным следствиям. Представим себе, что человек как существо безграничен и бесконечно подвижен. Он создал некие институты, которые вполне отвечают его благополучию. Дальнейший импульс к пересотворению утрачен. Человек вполне доволен общей жизненной ситуацией.
Не означает ли это, что человек полностью выявил собственный потенциал? Разумеется, нет. В таком случае человек оказался бы заложником или марионеткой определенных жизненных обстоятельств. Именно эти обстоятельства стали бы его лепить. Формообразование человека стало бы прерогативой общества, истории. Внутренняя способность человека к изменениям не получила бы реализации…
Подытожим: человеческая природа как некая данность, безусловно, существует. Мы не в состоянии представить ее конкретную расшифровку, ибо она раскрывает себя в различных культурных и социальных феноменах. Человеческая натура, следовательно, не сводится к перечню каких-то устоявшихся признаков. Наконец, эта природа не является неизменной и косной. Сохраняя себя в качестве определенной целостности, она тем не менее подвержена изменениям.
Но где же все-таки искать ответ на вопрос, какова человеческая природа? Философы обычно указывали на какой-нибудь доминирующий признак, который заведомо характеризует человеческую стать: разум, социальность, общение, способность к труду. То, что человек необычен для природного царства, казалось, ни у кого не вызывает сомнений. Вот почему его оценивали как особую форму жизни, которая похожа на другие формы жизни, но вместе с тем принципиально отличается от них.
Некоторые мыслители пытались превзойти сложившуюся традицию в трактовке человеческой природы. Они говорили о человеке как об особо организованном сознании, специфическом витке эволюции Вселенной. Однако на поверку оказалось, что все эти по видимости разнородные подходы все-таки не выходят за рамки понимания человека как особой формы жизни. Ведь и особым образом структурированное сознание не существует без живой плоти.
Э. Фромм предложил принципиально иной подход к характеристике человека. Оценивая его как особый род сущего, американский исследователь подчеркивал: не стоит приискивать все новые и новые признаки. Взглянем на ситуацию с принципиально новых позиций. Определим человека экзистенциально, т. е. через способ его существования. Это, несомненно, впечатляющее открытие философии XX столетия. Сам Э. Фромм подчеркивал, что прилагательное «экзистенциальный» появилось у него независимо от философии человеческого бытия, в ходе развертывания вполне самостоятельного подхода к феномену человека.
Человек остается частью природы, он неотторжим от нее. Но теперь он понимает, что «заброшен» в мир в случайном месте и времени, осознает свою беспомощность, ограниченность своего существования. Над ним тяготеет своего рода проклятье; человек никогда не освободится от этого противоречия, не укроется от собственных мыслей и чувств, которые пронизывают все его существо. Человек – это единственное животное, отмечал Э. Фромм, для которого собственное существование является проблемой: от нее нельзя никуда уйти, он ее должен решить.
Человек – это существо, которое не имеет своей биосферной экологической ниши, и в этом состоит противоречие его бытия. Все, что есть в человеке, как бы отрицает самое себя. Человек принадлежит природе и в то же время отторгнут от нее. Он наделен инстинктами, но они не выполняют роль безотказных стимуляторов поведения. Человек властвует над природой и в то же время оказывается ее «дезертиром». Он обладает фиксированными признаками, но они двусмысленны, поскольку ускользают от окончательных определений. Человек имеет трагическое представление о способах своего существования и в то же время заново в каждом индивиде, т. е. в себе самом, открывает эту истину…
За последние десятилетия радикально изменились философские представления о человеческой природе. Решительное изменение прежних взглядов было обусловлено, прежде всего, множеством открытий в области медицины и естествознания, движением пост-гуманистов, которое поставило перед собой невероятную задачу – создать «постчеловека», становлением трансперсональной психологии, выступившей против картезианско-ньютоновской картины мира, и развитием постмодернистской рефлексии, декларирующей «смерть человека».
Вновь возник вопрос: существует ли человеческая природа как некая данность? На этот вопрос классическая философия отвечала однозначно: да, существует… Утверждалось также, что эта человеческая природа обладает устойчивостью, стабильностью, целостностью. Разумеется, некоторые мыслители, например, Кант, писали об испорченности человека как живого существа. Но он также отмечал: «Если человеческой природе предназначено стремиться к высшему благу, то и мера его познавательных способностей, в особенности их соотношение, должно считаться подходящей для этой цели»[54].
Кант связывает понятие «человеческой природы» с феноменом «разумного человека». Э.Ю. Соловьёв в книге «Категорический императив нравственности и права» отмечает, что философ не возлагал на себя титанической обязанности дать разностороннее онтологическое толкование понятия «разумного существа». Однако Кант обеспечил абрис, достаточно определенный для того, чтобы его можно было привлечь для разъяснения самых различных концептов[55]. Каждое «разумное существо», полагал Кант, имеет волю, или способность поступать согласно представлению о законах, то есть согласно принципам[56]. Разумное существо хочет, чтобы развивались его способности. «Теперь я утверждаю, – пишет Кант, – человек и вообще всякое разумное существо существует как цель сама по себе, а не только как средство для любого применения со стороны той или другой цели»[57].
Человек и вообще всякое разумное существо… Кант, похоже, размышляет, покидая земные просторы. С этой точки зрения, Э.Ю. Соловьёв разбирает понятие трансцендентального у Канта как объективно субъектного. Определенная организация сознания, согласно Канту, обязательна для всех нас. «Один человек видит мир многоцветным, другой (дальтоник) двухцветным, третий (больной желтухой) как окрашенный в желтый цвет. Однако все они, независимо от состава их ощущений, воспринимают являющуюся им реальность в качестве мира предметов, размещенных в трехмерном евклидовом пространстве. Последнее определяется Кантом как “трансцендентальная форма чувственности”. К трансцендентальным формам (но уже к формам рассудка) он, как известно, относит и категории, с помощью которых упорядочивается наш опыт. Они так же едины и общепринудительны для всех людей, сколь бы своеобразна ни была их жизненная практика»[58].
Итак, «разумные существа» могут иметь самое различное устройство тела и чувственности, (в том числе и качественно отличное от нашего). Они могут быть летающими или ползающими, могут в отличие от нас воспринимать ультразвук и инфракрасный свет или, наоборот, быть глухими и слепыми. Состав их ощущения окажется, соответственно, принципиально иным. Но как бы они ни были устроены, у них непременно будет какой-то непосредственно чувственный контакт с миром (то, что Кант называет аффицированием); они будут воспринимать пространство как трехмерное, а время как необратимое. Для них окажутся обязательными различие предмета и процесса, а также «чистые понятия рассудка» (категории): количества, качества, модальности.
Но речь идет не только о принципах разумного постижения реальности ради блага и счастья. «Разумному существу», а, стало быть, и всей человеческой природе свойственно представление о добре и зле, альтруизме и себялюбии, свободе и рабстве, сострадательности и черствости.
Итак, человеческая природа в классической философии воспринимается как универсальная, постижимая, обладающая набором стойких особенностей. Классическая философия в целом наделена объективностью, пониманием мира как разумно упорядоченного целого, стремлением к систематичности, вниманием ко всем сферам бытия, признанием силы духовного мира в жизни человека, природы и общества. Классическая философия проповедует идеал царства разума, который в античной философии выражается в идеальном государстве Платона, в средневековой – в граде Божьем Августина, в философии Нового времени – в разумном государстве Гегеля.
Не случайно в книге известного постмодерниста Ж. Делёза, которая посвящена Юму, Канту, Бергсону и Спинозе, есть глава, которая называется «Принципы человеческой природы»[59]. Делёз, в частности, отмечает: «Между отношениями и терминами, субъектом и данным, принципами человеческой природы и силами Природы в самых разнообразных формах манифестируется та же самая дуальность»[60].
Представители неклассической антропологии предлагают вообще отказаться от понятия «человеческая природа», поскольку оно включает в себя самые различные содержания. Высказывается также суждение: у человека не одна, а много природ. Нет сомнений в том, что «сегодняшний образ Человека – разорван, темен, неведом»[61]. Однако понятие «человеческой природы» носит не прикладной, а общефилософский характер. Да, оно обладает множеством смыслов и конкретных толкований. При этом человек меняется, есть основания полагать, что он и дальше будет испытывать ряд преобразований. Наконец, человек может вообще исчезнуть. И тогда (точнее сказать, до того, как это случится) мы должны иметь представление, что такое нечеловеческое или то, что мы условно называем пост-человеком. Поэтому собирательное понятие «человеческая природа» при всем разнообразии своих коннотаций имеет конкретный смысл: оно характеризует человека в самом обобщенном варианте, не устраняя множества конкретных постижений человека.
В классической философской антропологии использовалось также понятие «человеческая сущность». Оно имело особый смысл. Сущность выражает основную, базовую черту человека. Дело в том, что человеческая природа включает в себя множество качеств и свойств. Какое из них главное? В этом отношении не было единой точки зрения. В античной Греции, к примеру, основным качеством человека считалась разумность. Но в эпоху романтизма истинно человеческим свойством наделялась фантазия. В африканской культуре эмоциональность ставилась выше рациональности, которая вообще не имела особой положительной ценности.
Глава 3
Джон Локк о тождестве человека
Парадоксальность понятия тождества (идентичности, самотождественности) состоит в том, что оно включает в себя два противоположных состояния – неизменность и переменчивость. Можно, разумеется, трактовать это понятие как некую субстанцию или как набор определенных характеристик, обладающих определенным постоянством. В этом случае акцент будет поставлен на таких чертах, как одинаковость, схожесть, подобие. Но данный феномен нередко осмысливается и как процесс. И тогда особое внимание уделяется трансформации, изменениям, новизне и нетождественности. При таком подходе оказывается, что идентичность обладает лишь мерцающей, условной неизменностью.
В философской классике идентичность трактовалась как обретение постоянства, сходности, похожести. Это соответствовало общей когнитивной установке классической философии – отыскать за множеством различий известное тождество. «Начиная с Аристотеля и вплоть до Гегеля понятие тождество (идентичности в оригинале) использовалось в философии прежде всего в контексте обоснований того, что реальность и процесс ее познания, бытие и мышление совпадают. В таком контексте инобытие, различие, многообразие в онтологическом плане считались акциденциями всеобщего и не имели собственного субстанционального значения: их всегда можно было редуцировать к единому самотождественному. Понятие использовалось в обсуждении вопросов, как возможность непрерывности при очевидности изменений и тождественности среди наблюдаемого разнообразия»[62].
Именно в работах Дж. Локка («Опыт о человеческом разумении») и Д. Юма («Трактат о человеческой природе») мы видим, как рождается сомнение в приоритетности эмпиризма и начинает складываться убеждение в том, что конечной целью познания является поиск всеобщности, несменяемости, неизменности. Дж. Локк, касаясь темы идентичности, начинает с такого слова, как вещь. Он приходит к мысли, что две вещи одного и того же рода не могут существовать в одном и том же месте в одном и том же времени. Суждение английского философа неоспоримо: «одна вещь не может иметь двух начал существования, а две вещи – одного начала»[63]. Но вот если речь идет о мысли, то логика иная. Поскольку она находится в непрерывной цепи последовательности, то вряд ли ее можно закрепить, согласно Локку, в одном и том же месте и времени. Так английский философ показывает сложность и многомерность самой проблемы, особенно при последовательном познании предметов, живых существ и, наконец, самого человека.
В неживой природе, надо полагать, ничто не стремится к изменению своей природы. Камень не испытывает стремления стать чем-то иным, например, ручьем или деревом. Б. Спиноза, рассуждая на сходную тему, отмечает, что, если камень обладал бы сознанием, он думал бы, что, будучи брошенным, он летит по собственному разумению. Однако камень не обладает ни сознанием, ни волей, поэтому он постоянно находится в собственной идентичности. Да, вода точит камень, но при этом, теряя массу, он все равно остается камнем, до последних песчинок и полного уничтожения.
А. Шопенгауэр наделяет волю онтологическим статусом. По его мнению, всё волит. Цветок пробивается сквозь расщелину скалы. Река ускоряет свое движение. Огонь пожирает сучья. Однако ни цветок, ни река, ни огненная стихия не стремятся быть чем-то иным, нежели их природные сущность и назначение. В рамках немецкого идеализма сохранилось убеждение в том, что воля обладает неоспоримой значимостью при обретении и сохранении индивидуальной самотождественности. По мнению Шопенгауэра, именно воля, а не разум вносит постоянство в признаки идентичности.
Английский философ в последующем размышлении проводит различение между массой, которая представляет собой разрозненное сцепление материи, и организацией различных частей в растительном мире, в частности, у дуба. Вот почему, согласно Локку, дуб сохраняет свою сущность, поскольку в нем поддерживается соотнесенность древесины, коры и листьев дуба. Следовательно, индивидуальная жизнь дуба существует в одной и той же непрерывности частей, незаметно сменяющих друг друга и соединенных в растении в живой организм. Это и обеспечивает тождество дуба в отличие, скажем, от других растений.
Теперь вслед за Локком переходим от растений к другим живым организмам. Скажем, жеребенок стал лошадью. Она в свою очередь может оказаться перекормленной или тощей. Можем ли мы утверждать, что при всех версиях это – лошадь и ничто иное? Вывод Локка однозначен: «Случай с животными не настолько отличается, чтобы отсюда нельзя было видеть, что составляет и сохраняет тождество животного»[64]. Однако по отношению к человеку эти утверждения теряют свою ценность. Человек, прежде всего, обладает сознанием. Да и сам наделен сложной структурой. Действительно, что является основой идентичности человека? По мнению З. Фрейда, таким фундаментом служит тело. Но в человеке есть еще душа и дух. Они тоже служат индикаторами человеческой идентичности.
Если тождество человека определяется разными слагаемыми (телом, душой, духом) и эти компоненты трудно сочетаются, то, стало быть, всякое тождество может оказаться непрочным, эфемерным, противоречивым. Или, может быть, в индивиде можно обнаружить некий фактор, который скрепляет эту разнородность? Ход мысли Дж. Локка именно таков. Говорящий попугай, размышляет он, может быть и разумен, но он не обладает обликом человека. «А если идея человека именно такова, то в его тождество наравне с тем же самым бестелесным духом входит то самое тело, которое изменяется не сразу, но постепенно»[65]. Дж. Локк вместе стем отмечает не столько различие разных составляющих идеи человека, сколько озабочен поиском их тождества. Критерием такого скрепления оказывается у Локка понятие личности.
Итак, в историко-философской традиции выработались два критерия выявления тождества личности. Согласно первому критерию, необходимым и достаточным условием тождества личности является телесное тождество, согласно второму критерию – тождество состояний сознания. В большинстве случаев эти критерии дополняют друг друга. Но возможны конфликтные ситуации (например, описанный Дж. Локком случай «обмена» телами между сапожником и принцем). Тогда возникает вопрос, какой же критерий – телесный или духовный – получает приоритет?
Проблема осложняется тем, что во многих философских учениях связь сознания и тела признается случайной. Например, Локк определяет личность как мыслящее, интеллигибельное существо, обладающее не только сознанием, но и самосознанием, которое позволяет индивиду рассматривать себя как одну и ту же мыслящую вещь, в разное время занимающую различные положения в пространстве[66]. Несмотря на то, что в обыденном языке слова «человек» и «личность» употребляются как синонимы, Локк считает, что этим двум выражениям соответствуют разные идеи: «личность» относится к рациональному «я», а «человек» – просто к физическому телу. Разумного попугая, рассуждает Локк, нельзя назвать человеком, а неразумный человек – все же человек. Однако попугай может быть личностью, а идиот не может.
Личность, по мнению Локка, не может быть определена как разумный человек, ибо телесная форма не является частью значения «личности». Личность должна иметь своим денотатом что-то нетелесное и невидимое. И поэтому, доказывает Локк, нет двух различных критериев отождествления личности, но есть две сущности, каждая из которых имеет свой собственный критерий идентичности. Тождество личности есть просто тождество сознания, и если человек осознает себя той же личностью, то он и остается ею, несмотря на самые кардинальные изменения его тела.
Согласно Локку, тождество человека определяется сознанием. «Так как человека, – пишет он, – делает для себя одним и тем же тождественное сознание, то от этого одного и зависит тождество личности, все равно, связано ли оно только с одной индивидуальной субстанцией или может продолжаться в различных субстанциях, следующих одна за другой. Ибо, насколько разумное существо может повторять идею прошлого действия с тем же самым сознанием о нем, настолько оно и есть одна и та же личность. Благодаря осознанию своих теперешних мыслей и действий разумное существо бывает для себя личностью теперь; она останется той же самой личностью и в будущем, поскольку может простирать то же самое сознание на действия прошедшие или будущие, и не превратиться в две личности вследствие интервала во времени или перемены субстанции, как человек не превращается в двух людей оттого, что он сегодня носит не то платье, чем вчера, или оттого, что в промежутке у него был долгий или короткий сон… Одно только сознание образует личность»[67].
Тело может изменить свою форму или свои очертания. Допустим, согласно Локку, человек потерял руку или ногу. Мы все равно опознаем этого человека, хотя эти части индивида в данном случае отделены от сознания. Если ввести эту мысль Локка в современный контекст, то проблема окажется не столь ясной. Допустим, можно ли считать одним и тем же человеком индивида, которому трансплантировано новое сердце, вкачена иная кровь? Сознание вряд ли остается безупречным фактором тождества человека при современных экспериментах с телесностью. К тому же далеко не всегда индивид может удерживать в своей психике прошлое, настоящее и будущее. Существуют различные техники, дающие возможность купировать какое-либо состояние, связанное с временнóй последовательностью.
Локк готов вообразить мыслящую субстанцию и вне телесности. Он задается вопросом: «могут ли быть две различные личности там, где остается одна и та же нематериальная субстанция?» Христианин, платоник или пифагореец вполне могут полагать, что одна и та же духовная субстанция вселяется в различные тела. Тут у Локка есть и сомнения. Ведь если душа Сократа располагается в теле другого человека, то можно ли полагать, будто перед нами та же самая личность, что и Сократ? «Таким образом, мы можем без всякого затруднения представить себе тождество личности при воскресении хотя бы в теле, по своему сложению или частям вполне тождественном тем, которое имели здесь. Но все-таки одной лишь души при смене тел едва ли кому-нибудь достаточно для образования того же самого человека, за исключением тех, кто душу делает человеком. В самом деле, если душа князя, унося с собой сознание прошедшей жизни князя, войдет в тело башмачника и оживит его сейчас же, как оно будет покинуто своею собственной душой, то всякий видит, что это будет та же самая личность, что и князь, ответственная только за действия князя. Но кто скажет, что это тот же самый человек? Тело также принимает участие в образовании человека и в разбираемом случае, предполагаю я, определяет человека для всех, между тем его душа со всеми своими княжескими мыслями не образует другого человека; этот человек был бы для всех, кроме него самого, тем же самым башмачником»[68].
Но сведение отождествления личности к отождествлению сознания вовсе не решает проблему, ибо, как показал Юм, в восприятии нельзя найти ничего постоянного. Тождество сознания иллюзорно, личность есть лишь «пучок восприятий», и неизвестно, что служит связующим его «шнуром». Д. Юм выступает против того, чтобы приписывать постоянство изменчивым или прерывистым объектам. Представление о чем-то неизменном и непрерывном философ называет фикцией. Однако все же наделяет этим свойством объекты, состоящие из последовательности частей, связанных друг с другом посредством сходства, смежности и причинности. Но главное – он отрицает в своем «Трактате о человеческой природе» существование личности как некоего духовного единства, тождественного себе на протяжении человеческой жизни.
Локковская и юмовская концепции личности широко известны как классические образцы анализа данной проблемы. Все последующие обращения к проблеме личного тождества тел, так или иначе, исходят из достигнутых ими результатов, хотя и выраженных ими в негативной форме.
Локк гарантом тождества индивида считает память. Именно она, по его мнению, помогает человеку помышлять о себе в разное время и в разных местах. Такая версия не поддерживается последующим развитием психологии.
Представление человека о себе самом, о собственной идентичности не может быть постоянной визитной карточкой индивида, безусловно удостоверяющей личность. Люди перерождаются, меняется их облик, социальный статус, внутренний мир. С годами человек способен преобразиться до неузнаваемости. Сошлемся хотя бы на роман Э.Л. Войнич «Овод». Писательница намеренно погружает Артура Бертона в такие трагические ситуации, что читатель следует за каждой жизненной драмой героя. И что же в итоге? Джемма, любящая Артура, спустя время не узнает друга своей юности. Можно возразить: это ведь художественный вымысел. Однако так ли далек он от жизненной реальности? Увидев собственную фотографию или услышав свой голос в записи, многие недоумевают: «Неужели я так выгляжу? Правда ли, что это мой голос?».
Каким же образом мы можем судить о том, что конкретный человек, хотя и является в разных ипостасях, проходит череду всевозможных перевоплощений, все же остается самим собой? Что может гарантировать другим людям, что перед нами все же один и тот же человек? Как скрепляется внутреннее личностное ядро? Ведь если каждый индивид взрослеет, обретает социальные роли, меняет собственные взгляды на протяжении жизни, то всякая попытка скорректировать идентичность кажется невозможной. Джон Локк тщательно продумал многие варианты этой тайны. Однако не нашел, на наш взгляд, ответ на вопрос, что же все-таки позволяет индивиду обеспечить собственную сохранность как неповторимой человеческой особи.



