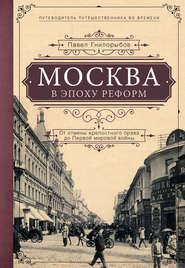
Полная версия:
Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны
Илья Репин вышел из павильонов в тягостно-кислом настроении, о чем не преминул сообщить В. В. Стасову: «Неприятнее всего поразило меня в Москве (Москву я люблю как родную мать и нахожусь всегда точно в гостях у матери – в Москве) противно, гадко выстроенная Политехническая выставка, особенно наверху у колокольни Ивана Великого и внизу против гостиницы Кокорева, где я имею большое удовольствие проживать… Очень большое удовольствие потому, что из окна я вижу Кремль, Василия Блаженного, Спасские ворота, башни, стены, колокольню Ивана Великого, все эти колоссальные, освященные веками и замечательно художественные вещи. Теперь особенно чувствительна их художественная грандиозность, когда есть сравнение: внизу слепили «курам на смех» клетушки для выставки – должно быть, немец задался опошлить пресловутый мотив русской избы – хуже выдумать нельзя. Внизу здания имеют вид прачешной; назначения их не знаю. Впрочем, Морской отдел очень хорош, по крайней мере общеевропейская вещь».
Сам Стасов отмечал, что выставка не производила целостного впечатления, хотя именно в 1870-е годы сложился столь чтимый им тип павильона в русском стиле: «Московская выставка 1872 года была устроена в Кремлевском саду, по нескольким направлениям и с несколькими поворотами за углы, да притом еще раскинулась своими многочисленными и разнокалиберными постройками среди целого леса деревьев – значит, никакого общего вида не могла иметь»[75].

Железнодорожный отдел Политехнической выставки 1872 года
На выставке работал Народный театр, организованный режиссером Александром Федотовым. Провинциальные и начинающие играть на подмостках Малого театра актеры ставили пьесы, понятные и доступные простой публике – «Ревизор», «Недоросль», «Бедность не порок», «Жизнь за царя», «Свои люди – сочтемся», «Мельник – колдун, обманщик и сват». После закрытия выставки Федотов ходатайствовал о даровании театру статуса постоянного. Но правительство отказало ему в этой просьбе: видимо, власти боялись талантливого мастера, ведь многие произведения в Народном театре ставились в оригинальном, неискаженном, остросоциальном контексте.
Александр II, посетивший выставку, посетовал, что всем в России движет корыстный и личный интерес: «Не то мы видели здесь: все участвовавшие в деле Политехнической выставки так же трудились, так же усиленно работали, но при этом они задавались иными целями. Они не рассчитывали ни на денежные, ни на материальные выгоды и имели в виду исключительно желание принести пользу нашему Отечеству».
Политехническая выставка 1872 года дала начало двум самостоятельным музеям: прикладных знаний и Историческому. Появление последнего совпало с зарождением «русского» стиля в архитектуре. Правда, каждый москвич рисовал себе образ былинного прошлого по-своему. А. С. Уваров, известный археолог и идеолог охраны памятников старины, хотел видеть в облике нового музея мотивы зодчества Владимиро-Суздальской земли. Историк И. Е. Забелин находил свою прелесть в московской школе XV–XVII веков и предлагал ориентироваться на собор Василия Блаженного. Строительство продолжалось с 1875 по 1881 год и закончилось присвоением новому учреждению имени Александра III.
Разночинцы постепенно открывали для себя новые площадки, театры, выставки, сказывался постепенный рост доходов среднего москвича. И. Е. Репин восхищенно писал: «Вчера мы были в Румянцевском музее. По случаю воскресенья, а потому бесплатного входа, там было много мужичков; нас удивило ужасно их художественное понимание и умение наслаждаться картинами: мы ушам своим едва верили, как эти зипуны прочувствовали один пейзаж до последних мелочей, до едва приметных намеков дали; как они потом, как истые любители, перешли к другому пейзажу («Дубы» Клодта), все разглядывалось в кулак, все перебиралось до ниточки. Вообще в Москве больше народной жизни; тут народ чувствует себя как дома, чувство это инстинктивно переходит на всех и даже приезжим от этого веселее – очень приятное чувство. На костюм не обращается никакого внимания, даже очень богатыми, про купцов и говорить нечего».
Для художественной жизни 1870-х годов характерны резкие перепады и контрасты. Так, за выдающейся картиной Алексея Саврасова «Грачи прилетели» прятались ужасные будни самого живописца. Кутающийся в дрянную кацавейку, он находил спасение в трактирах и ночлежных домах Хитровки. Чтобы заработать копеечку, Саврасов рисовал по памяти свои лучшие пейзажи на Сухаревом рынке и дрожащей рукой подписывал их. Сухаревка тут же продавала «полотна» маститого художника по два-три рубля.
Лучшие культурные кадры уезжали попытать счастья в Северную столицу: «Большинство устремлялось к центру, в Петербург, – в «писательскую Мекку», как шутили иногда сами же писатели. Но как ни была придавлена общественность, жизнь делала свое дело; дух не угасал. Как ни старались разъединить людей, но люди все-таки встречались, стремились друг к другу, и общение не умирало»[76].
Еще жили в Москве свидетели александровского и николаевского царствования, участники салонных баталий 1840-х годов. Многие из них ностальгировали по обаянию старого города. Б. Н. Чичерин вспоминает образ жизни Николая Христофоровича Кетчера, литератора и переводчика, друга А. И. Герцена: «У этого записного москвича, который кроме Москвы ничего не признавал, который Петербурга не выносил и скучал в деревне, было и живое чувство природы. Высшим его наслаждением было бродить по целым дням по лесу и собирать грибы. Это чувство было взлелеяно в нем раннею молодостью. Он любил вспоминать про старую Москву, еще не застроенную и не загаженную фабриками, с ее громадными садами, с многочисленными прудами, наполненными прозрачною, текущею водою, с прелестными прогулками по берегам светлой еще в то время Яузы. Он с грустью рассказывал, как все это на его глазах мало-помалу исчезало. Но он любовался и всеми остатками прежней очаровательной обстановки. Всякое красивое дерево приводило его в восторг. У себя дома он целое лето копался в саду, с любовью сажал и лелеял цветы. Друзья его сделали складчину и купили ему почти на конце 3-й Мещанской небольшой дом с довольно обширным садом. Здесь с ранней весны можно было найти его по утрам, в рубашке и нижнем платье, с грязными руками, копающегося в земле, или вечером, когда он после дневной работы спокойно курил на своем балконе, наслаждаясь вечернею прохладою и любуясь тенью высоких деревьев, с играющими в прозрачной листве лучами заходящего солнца»[77].
Кетчер вспоминал долгие прогулки с Белинским по Страстному бульвару, берега извилистой Яузы и любил сиживать в старом вольтеровском кресле, доставшемся ему от рано ушедшего Грановского. Владимир Александрович Черкасский, московский городской голова в 1868–1870 годах, писал одному из знакомых: «Что сказать вам о московской жизни? Она проходит тихо, бесцветно и весьма безжизненно. Старая Москва, интеллигентная, литературная, исчезла надолго. Ее заменили – биржа, торговля, промышленность».
Еще один старый москвич, Н. В. Давыдов, сетовал, что город теперь ничем не отличается от Петербурга, даже прохожие приобрели «космополитический» вид. Перевелись знаменитые московские калачи и сайки. «Нет, наконец, строго говоря, и настоящего «москвича», – сетует старожил. Забавно вычитывать подобные пассажи в начале XXI столетия, когда население столицы каждый год обновляется на пару-тройку процентов. Впрочем, все ворчание о «понаехавших» разбивается в лепешку при упоминании Гиляровского, который появился на свет отнюдь не в границах Камер-Коллежского вала.
Н. Д. Телешов нашел весьма точное сравнение для метаморфоз городской среды 1860—1870-х годов – Москва Грибоедова превращалась в Москву Островского. Из «темного царства» вылезли крупные финансовые воротилы, в переулках Китай-города каждый день считали сотни тысяч рублей. «…Многие «тятеньки» и «папаши» – малограмотные и безграмотные, – забогатев, воображали, что им «при их капитале» все доступно и все дозволено, поэтому – «ндраву нашему не препятствуй!».

Шорно-экипажный заводик, располагавшийся недалеко от современного Белорусского вокзала
Сдавали под напором буржуазии центральные районы, но социальное членение столицы все еще соблюдалось: купцы неохотно занимали «дворянские» кварталы между Арбатом и Пречистенкой, предпочитали селиться в местах, где их брат обитал прочно и давно. «Строили крепкие, грубые особняки, разводили просторные сады с фруктовыми деревьями, настаивали из своей рябины ведерные бутыли водки, заводили «своих лошадей», чтоб ездить «в город» и в баню, и чувствовали себя лучше, чем в центральных кварталах».
Старый быт сохранялся и в московском доме Л. Н. Толстого: «Ничто тут даже не намекало на то, что вы в доме великого писателя, который выработывал себе целое новое миропонимание, готовился быть вероучителем и производить в душах своих соотчичей и обитателей обоих полушарий ломку их религиозных и этических исповеданий веры. Просто дворянский дом, где-нибудь на Плющихе, или на Сивцевом Вражке, или в Староконюшенном переулке, у богатых помещиков, проживающих зимой в Москве, где много детей, где собирается молодежь, музицируют… болтают за чайным столом. В этом было что-то бытовое, чисто русское: полное отсутствие того «священнодействия», каким семья какой-нибудь западноевропейской знаменитости непременно наполнила бы весь ритуал жизни дома в дни приемов»[78].
Великие реформы прошедшего десятилетия продолжились введением в 1874 году всеобщей воинской повинности. Рекрутчина ушла в прошлое. 21-летние юноши читали по складам строчки из устава: «Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного». Появился стимул получить полноценное образование: закончившие гимназию служили всего лишь полтора года, а имевшие университетский диплом – шесть месяцев.
Однако сразу же появились желающие обойти закон. Жуликов, практиковавших свое черное дело долгие годы, вывели на чистую воду только при городском голове Николае Алексееве: «…В помещении городской думы ежегодно осенью происходил набор московских юношей к отбыванию воинской повинности. Здесь учитывались всякие льготы, давались годовые отсрочки по состоянию здоровья и т. д. Здесь же предъявлялись свидетельства, освобождающие молодых людей, если они состояли учителями народных школ. Десятки лет все это происходило благополучно, но Алексеев вдруг пожелал проверить освобождающие права не по бумагам, а на самом деле. Он посадил всех этих учителей за стол и заставил написать каждого свою краткую биографию, назвать учебники, по которым обучают они детей… И что же оказалось? Большинство этих «учителей» не смогли грамотно написать даже несколько строк. Оказалось много мошеннических проделок для уклонения от воинской повинности, и все эти забронированные сынки богатых родителей тут же попали в солдаты. Способ, практиковавшийся долгие годы, был выявлен и уничтожен». Хороши оказались «учителя»…
В 1870-е годы женщины отвоевывают себе все большую свободу личности. Широкие взгляды первоначально вызывают удивление. «Стриженые волосы, отсутствие кринолина или барашковая шапка на голове женщины производили сенсацию в публике и приводили многих в ужас. Такой женщине не было прохода от презрительных взглядов и насмешек, сопровождаемых кличкой «нигилистка». По примеру образованного класса, извозчики и лавочники также преследовали этих женщин грубым смехом и остротами», – вспоминала гражданская жена Некрасова А. Я. Панаева-Головачева[79].
С. В. Ковалевская с восхищением писала о своей старшей сестре Анюте, познакомившейся с первым номером «Колокола»: «Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто, в черные платья с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку»[80]. Костюм вовсе не означал радикальных взглядов, но в России 1860—1870-х годов именно одежда вызывала оторопь со стороны власть имущих. Совершенно карикатурен приказ нижегородского самодура Николая Огарева, вздумавшего бороться с проявлениями «оппозиционности» в костюме: «Замечено мною, что на улицах Нижнего Новгорода встречаются иногда дамы и девицы, носящие особого рода костюм, усвоенный так называемыми «нигилистами» и всегда почти имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие короткостриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина».
Дальше властитель клеймит позором каракозовский выстрел и продолжает: «Среда, воспитавшая злодея, заклеймена в понятии всех благомыслящих людей, а потому и ношение костюма, ей присвоенного, не может не считаться дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования… Подобных дам и девиц обязывать подписками изменить костюм. В случае же сопротивления с их стороны к выдаче требуемого обязательства, объявлять им, что они будут подлежать высылке из губернии на основании существующих узаконений». В Москве подобных курьезов не случалось, но «нигилистический» костюм, вероятно, приковывал косые взгляды.
Постепенное раскрепощение женщин ведет к появлению специализированных учебных заведений, куда допускались дамы. В 1869 году открылись Лубянские курсы, знакомившие с программой классической гимназии. В 1872 году распахнулись двери Высших женских курсов, основанных профессором В. И. Герье. В течение двух лет слушательницам читались лекции по истории, литературе, искусству. Курсы имели гуманитарную направленность, однако точные науки в учебном плане тоже присутствовали. За год обучения дамы платили 30 рублей, наиболее способным выделялась стипендия от Московской купеческой управы.
Занятия проводили лучшие профессора Московского университета, среди преподавателей числились П. Г. Виноградов, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. С. Тихонравов, Ф. А. Бредихин. С 1879 года продолжительность обучения увеличилась до трех лет. Число слушательниц постепенно росло: в первый год работы сюда заглядывали 70 женщин, а к середине 1880-х уже около 250. Мнение общества разделилось: «Одни из нас, «из публики», просто определяют это явление словами: «бегают на курсы»; другие через пень колоду присоединяют рассуждения «о женском вопросе»; иной почему-то произнесет слово «самостоятельность» и ехидно улыбнется. Словом, все мы, «публика», имеем понятие о том, что «бегают», что «идут против родителей», иногда «помирают не своей смертью», что, с другой стороны, самостоятельность «хорошо», что «пущай», что лучше всего «мать»; назначение женщины – «мать», а не бегать на курсы, что мозг женщины мал, что ничего не выйдет и что опять-таки как будто «хорошо»[81].
На Высших женских курсах училась Мария Павловна Чехова, затем преподававшая историю и географию в одной из частных гимназий. Учебное заведение закрыли на волне реакции в 1888 году. Вдохновитель идеи негодовал: «Слабоумные люди, заправлявшие в 80-х годах, полагали, что одержали большой успех над революцией, запретив прием девиц на Высшие женские курсы». Однако всеобщую тягу к образованию и свету не могли запретить возмущенными циркулярами. Ценность знания росла с каждым годом. На фоне всеобщей милитаризации В. И. Вернадский заметит в 1914 году: «Высшая школа есть орудие в мировой борьбе за существование, более сильное, чем дредноуты»[82].
Идею женского образования защищал и философ-публицист Василий Розанов: «Стране нужны не одни Ломоносовы: стране более, чем Ломоносов, нужно просто образованное общество, читающая и размышляющая масса, деятельные и знающие члены; наконец, стране в высшей степени нужны мягкие нравы, деликатные привычки, человечные взгляды по всем направлениям и во всех областях. Всего этого решительно нельзя достигнуть, пока женская половина общества будет признана каким-то ублюдком по самой организации своей… неспособным к усвоению высших идей и знаний. Нет более надежного и более ревностного распространителя вообще всякого рода нововведений, чем женщины, – чего бы дело ни коснулось, от покроя платья до философии, от удовольствий до религии! У нас Екатерина II распространяла идею Дидеро… Женщины – вечные популяризаторы, талантливейшие. Без помощи их специально мужское образование останется каким-то неходким, бескрылым, тяжеловесным, косным»[83]. Когда на Западе уже вовсю работала первая женщина-программист Ада Лавлейс, в России только спорили, нужно ли подпускать дам к образованию. Средний россиянин подумает и вспомнит Софью Ковалевскую. Однако в конце XIX века только в швейцарских университетах обучалось свыше 500 наших соотечественниц!
Характерно, что в баталии о модном в семидесятые годы женском вопросе включился даже старейший москвич П. А. Вяземский, с благословением вспоминавший допожарную Москву и бывший ее певцом: «Нет сомнения, что мужчины могли бы, с вежливою уступчивостью, поделиться с женщинами некоторыми своими присвоенными себе профессиями и занятиями, другие даже им вовсе уступить. Но все это исключения, случайности. Но все же настоящее, природою указанное, святое место женщины есть дом, есть семейный очаг, будь она мать, дочь или сестра. Внешняя, шумная, боевая, деловая жизнь, многосложная деятельность, можно сказать, несовместна с призванием женщины, даже недостойна ее; в скромном и светлом призвании она выше, независимее, свободнее, нежели будет она на искусственных и завоеванных ею подмостках. Впрочем, искони бывали примеры, что женщины входили в благородное совместничество с мужчинами. Всегда и везде бывали женщины ученые, политические; бывали женщины великие писатели, превосходные художники… Скажем мимоходом: если признавать семью, то надобно же кому-нибудь оставаться дома; а когда и жена с утра, подобно мужу, будет обязана отправляться на службу, на работу и к должности, то кто же останется представителем и ответственным лицом семейного дома, семейного начала?»[84].
Г. И. Успенский, описывая свои впечатления от нашумевшей картины «Курсистка», размышляет о формировании нового типажа личности: «Главное же, что особенно светло ложится на душу, это нечто прибавившееся к обыкновенному женскому типу – опять-таки не знаю, как сказать, – новая, мужская черта, черта светлой мысли вообще (результат всей этой беготни с книжками), не приклеенная, а органическая, что она уже в крови, что если прежде, например в тридцатых годах, какая-нибудь Марья Петровна должна была предварительно разойтись с тремя мужьями, чтобы задуматься о несчастном положении женщины, и только через посредство трех «очень развитых молодых людей» могла еле-еле добраться до мысли о необходимости самостоятельности, то здесь, в этом нарождающемся «новом типе», это даже и не вопросы, и думать-то о них нечего, так как они, повторяю, достались уже даром. Вот это-то изящнейшее, не выдуманное и притом реальнейшее слитие девичьих и юношеских черт в одном лице, в одной фигуре, осененной не женской и не мужской, а «человеческой» мыслью, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий».
Крупнейшим студенческим выступлением семидесятых стали волнения 1876 года в Петровской академии. Одним из непосредственных участников был впоследствии исключенный В. Г. Короленко. Молодых людей все чаще притесняли формальностями, делали замечания за длинные неопрятные волосы, плохой костюм, «непочтительную позу при разговоре с начальством». Постепенно кто-то стал копаться в личных вещах студентов, вводил меры если не полицейские, то гимназические. Учащимся такая мелочность казалась оскорбительной. Они подают коллективную петицию, что само по себе являлось преступлением.
Один из усмирителей старался направить разговор со студентами в мирное русло: да, все мы были молоды и горячи, совершали ошибки. «Вот вы, господа, увлекаетесь Щедриным. Конечно, остроумный старик, громит чиновников и помещиков. А вам это и любо… Ну а сам?.. Сам не что иное, как бывший советник вятского губернского правления… В Тверской губернии у него имение, и мне лично пришлось по долгу службы усмирять крестьян в его имении». Зачинщиков волнений отправили в Басманную полицейскую часть, где они познакомились с «прелестями» тюремного быта: «Вдоль стены под окном были нары, на которых лежали три грязных узких тюфяка, набитых соломой. Тюфяки были покрыты толстыми простынями из мешочного холста… Одеяла из серого арестантского сукна, по которым ползали огромные участковые вши, сразу кидавшиеся в глаза на темно-сером фоне одеял. Отодвинув эти постели, мы устроились на краях нар и стали пить чай из принесенных городовым оловянных кружек».
Росли и множились подпольные кружки. Министр юстиции К. И. Пален отмечал в записке «Успехи революционной пропаганды в России»: «Еще в конце шестидесятых годов в… Москве, в среде учащейся молодежи стало проявляться стремление к образованию ассоциаций, кружков с целью взаимного денежного вспомоществования, обмена мыслей и пополнения путем чтений и бесед пробелов школьного ученья»[85]. К началу 1870-х годов «мирные» члены кружков становятся более радикальными в своих суждениях, полиция работает плохо, «в народ» идут сотни юношей и девушек.
Оппозиционно настроенные представители встречались в любой социальной прослойке: «Так, например, трое из самых ярых вожаков крайней революционной партии: отставные артиллерийские поручики Рогачев и Кравчинский и студент Клеменс проживали несколько месяцев в разных семейных домах города Москвы, отнюдь не скрывая, а напротив, пропагандируя свои учения и направления». Хорошо организованный и законспирированный «кружок москвичей» разгромили в 1875 году. Специальный судебный процесс сделал звездой рабочего Петра Алексеева, произнесшего пламенную речь: «Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и каждый встречный квартальный бьет нам в зубы кулаком и пинками гонит вон, – значит, мы – крепостные. Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи».
После суда Алексеева закидали лакомствами: «Сочувствие публики к Петру Алексееву после произнесенной им речи было так сильно, что на другой день вся камера Петрухи была завалена табаком, сигарами, фруктами, жареной дичью, поросятами, индейками, конфетами и печениями, а также платьем и бельем. Петруха, вскормленный на черном хлебе, иногда быть может пополам с лебедой, дивился, какими сластями питаются бары, купцы и попы, и шутя говорил, что, если бы всегда его кормили как на убой, он, пожалуй, и не произнес бы своей речи»[86].
Хотя общество и волновалось, общественное хозяйство развивалось планомерно. Это разбивает доводы нынешних «охранителей» (пишу в кавычках, потому что звание охранителя нужно заслужить), что в случае введения нормального европейского парламентаризма встанут трамваи и отключится канализация.
В 1870-е годы Москва получает долгожданную систему внутригородского транспорта – конно-железную дорогу. Извозчики были по карману не каждому, кроме того, они не имели твердой таксы на свои услуги, обывателям приходилось долго, азартно и мучительно торговаться. Система действовавших с конца 1840-х годов линеек отличалась сумбуром: предприниматели спорили из-за мест, у Ильинских ворот Китай-города могло скапливаться до 200 лошадей!
Конно-железные дороги частично сняли остроту транспортной проблемы. Конка стала предшественником электрического трамвая. К тому же, если рельсы вовсю используются в междугороднем сообщении, то почему бы не организовать пассажирские перевозки внутри Первопрестольной? Прокладку первого пути приурочили ко времени работы Политехнической выставки. Инициатором открытия первой линии конки стал М. Н. Анненков, в 1880-е он будет строить железные дороги в Средней Азии. Строители управились за месяц, длина маршрута составила 4,5 версты. Восемь вагонов английского производства 7 июня 1872 года проследовали от Иверской часовни до площади Тверской заставы. «Вагоны очень красивы, и по изяществу отделки и удобству не оставляют желать ничего лучшего», – отмечала пресса.
Первоначально новый транспорт москвичи использовали для развлечения. «Русские ведомости» писали: «Несколько дней тому назад в Москве открылось новое увеселение для москвичей – это железно-конная дорога. Каждый раз отправление вагона привлекает многочисленную толпу зрителей, и москвичи по целым часам стоят и глазеют на невиданное ими зрелище». Коммерсанты чесали затылки и понимали, что неслыханное диво может приносить неплохую прибыль. В Московскую городскую думу посыпались проекты и предложения.
В итоге власти отдали концессию на строительство и эксплуатацию конно-железных дорог компании графа А. С. Уварова. Он привлек к делу В. К. Делла-Воса и Н.Ф. фон Крузе. Совместное предприятие назвали «Уваров и Ко». Характерно, что вышеназванная троица успешно зарекомендовала себя во многих сферах: Уваров занимался историей и археологией, Делла-Вос распространял технические знания. Крузе был известным журналистом и удостоился похвальных строчек от Некрасова, очень точно передающих ощущение всеобщих надежд в ожидании реформ:



