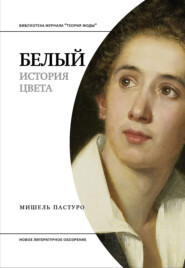
Полная версия:
Белый. История цвета
Шерсть и лен: одеваться в белое
Оставим на время живопись и скульптуру и обратимся к красильному делу. Для поиска материалов по данной теме не придется заглядывать в доисторические времена. Человек начал заниматься живописью задолго до того, как освоил крашение. Нам трудно с точностью установить, когда наши предки провели первые опыты такого рода, мы можем лишь утверждать, что произошло это не раньше их перехода к оседлому образу жизни и, по-видимому, не раньше, чем они стали заниматься ткачеством. Самые ранние из дошедших до нас фрагментов окрашенной ткани, обнаруженные в Европе, датируются концом четвертого или началом третьего тысячелетия до нашей эры (в Китае есть и более древние). Все они вписываются в гамму красных тонов. Желтые относятся к более позднему времени; зеленые, фиолетовые, черные и коричневые появляются еще позже. Что же касается белых, то они либо выцвели, либо до первого тысячелетия их не существовало вообще. Ведь долгое время окрашивать в белое было очень трудно, и у многих народов бытовало мнение, что ткань, плохо впитывающую краситель или быстро выцветающую от воды, от солнца, от стирки либо просто от времени, лучше оставлять в природном цвете, чем пытаться окрасить в белое37.
В любом случае, средств для такого окрашивания было немного, причем они не давали настоящей белизны, а только различные варианты почти белого: серовато-белый, желтовато-белый, светло-бежевый. С шерстью поступали так: вместо окрашивания ее раскладывали на траве и отбеливали с помощью утренней росы и солнечного света. Но для этого требовалось очень много времени и очень много места, а зимой такое отбеливание вообще было невозможно. Вдобавок белый цвет, полученный при такой обработке ткани, по сути нельзя было назвать белым: он был нестойкий, и в скором времени становился тусклым и грязноватым. Поэтому в реальной Античности редко можно было увидеть людей в белых, как снег, одеждах, которых мы так часто видим на картинах, в фильмах и комиксах на исторические сюжеты. Здесь мы опять-таки имеем дело с ложным образом. Добавим еще, что применение в качестве красителей растений (из семейства мыльнянок), стирка в воде с золой или даже глиной, смешанной с минералами (магнезия, мел, свинцовые белила), придает белым тканям синеватые, зеленоватые или сероватые отсветы и приглушает их сияющую белизну. Поэтому шерсть и лен часто и не пытались окрасить в белое, а использовали в их природном цвете38.
Лен – одно из древнейших в мире культурных растений. Из его стеблей с незапамятных времен изготавливали текстильные волокна, а из семян отжимали масло. На Среднем Востоке, в долинах Евфрата, Тигра и Иордана выращивание льна началось еще в эпоху неолита, в самых ранних земледельческих поселениях. Позднее эта практика получила распространение в Египте, затем в Европе39. Но есть основания полагать, что сбор и применение дикого льна начались еще до перехода человечества к оседлому образу жизни: об этом с большой вероятностью свидетельствуют фрагменты волокон, которые были найдены в глинистой почве пещеры в Грузии и возраст которых – приблизительно 30 000 лет40. В начале нашей эры ткачество из льна было распространено на большей части территории Римской империи. По крайней мере, так утверждает Плиний, отмечая, что льняные ткани, высоко ценимые за их тонкость, мягкость и белизну, идут на одежду женщин и на облачения жрецов и жриц. К сожалению, он не рассказывает, какими средствами достигается эта белизна, как выращивают лен и как его обрабатывают. Зато от него мы узнаём, что цена льна обычно превышает цену шерсти41.
А специалисты по сельскому хозяйству (Колумелла, Палладий) приводят некоторые подробности. Когда лен созреет, его надо вырвать из земли, стебли положить в воду или на влажную почву. Затем с них удаляют деревянистые части, высвобождают волокна из оболочек, собирают вместе, расчесывают и наконец прядут. Ткани из льна – прочные, тонкие, мягкие и быстро сохнут. Как правило, они используются без окрашивания, в изначальном цвете: это богатейшая гамма тонов, от цвета яичной скорлупы до коричневого или светло-серого, включая все оттенки бежевого. Если ткань все же нужно отбелить, римляне вымачивают ее в молоке либо обесцвечивают водой, насыщенной кислородом (росой), щавелевой солью или веществом, которое содержится в водорослях и некоторых морских растениях. Однако придать ткани настоящую белизну – задача нелегкая. Иногда лен, как и шерсть, просто отбеливают мелом, разведенным в воде. Полученный белый цвет весьма нестойкий, поэтому процедуру нужно повторять всякий раз, когда одеяние должно быть белоснежным (священнодействие в храме, исполнение важных государственных функций, праздничные дни)42.
Несмотря на престижность пурпура и особое место, которое он занимает в работе красильщиков, успехи греков и римлян в красильном деле весьма скромны. С египтянами и финикийцами, от которых они унаследовали основные секреты мастерства, им удалось сравняться только в одном – окрашивании в различные оттенки красного. Только этот цвет долго держится на тканях43. Что же касается других тонов, в частности синих или зеленых, то тут римляне уступают даже кельтам и германцам, у которых одежда вообще пестрее – более разнообразных цветов, а нередко и многоцветная, в полоску или в клетку44. В Греции одежда монохромная, во всяком случае, у мужчин. Следует оговориться, однако, что история повседневной одежды свободнорожденных мужчин в Греции пока еще мало изучена. О женской одежде мы знаем несколько больше – благодаря моралистам, которые не перестают поносить слишком яркие расцветки, слишком изменчивые моды и безудержные траты на наряды. Долой румяна, украшения и аксессуары, женщина должна выглядеть скромно и носить одноцветные одежды – белые, желтые или коричневые, а лучше всего – природных оттенков льна и шерсти.
В Риме яркие цвета не вызывают такой негативной реакции, пусть даже многие авторы, в частности Варрон, «ученейший из римлян», по мнению Цицерона, предлагает собственную этимологию слова, которая производит его от глагола celare, «скрывать»: цвет – это то, что прячет, отвлекает, обманывает45. Цвет, скрывающий людей и предметы, по сути своей, уловка, и уже по одной этой причине им лучше пренебречь. Кстати, римские красильщики принадлежат к низшему, презираемому разряду ремесленников (они нечистоплотны, от их мастерских исходит зловоние), за ними зорко следят стражи порядка (они вспыльчивы, часто становятся зачинщиками ссор и потасовок). Однако общественная жизнь не может без них обойтись: фасон, ткани и цвета одежды не только указывают на пол, возраст, социальный статус или класс ее обладателя, но также позволяют определить размеры состояния, род деятельности, место в служебной иерархии, присвоенный чин; а иногда характер праздника или торжества, когда следовало одеваться именно так, а не иначе. Функция цвета здесь прежде всего социальная и только затем практическая или эстетическая.
Вообще говоря, одежда римлян известна нам гораздо лучше, чем одежда греков, в частности, благодаря скульптуре46. Эту одежду не кроили и не шили, ее собирали мягкими складками и драпировали вокруг тела: форму она обретала не благодаря крою, а сообразно фигуре, в соответствии с классом общества, климатом, эпохой или обстоятельствами. Долгое время костюм римлян почти не менялся, он оставался все таким же строгим и отвергал любые новшества. Но на закате Республики все стало по-другому: внешний вид, осанка и манера носить одежду приобрели большее значение. Позднее, в начальный период Империи, стало ощущаться влияние чужеземных мод (греческой, восточной, варварской), которые будут все более многообразными и скоротечными, особенно женские. Но как бы то ни было, в любой период римской истории ткани и одежда считались большой ценностью: их бережно хранили в сундуке (arca) или в шкафу (armarium) и передавали из поколения в поколение. Даже одежда рабов (обычно это короткая туника темного цвета) уцелела и дошла до наших дней.
Поскольку древнеримская скульптура утратила свою полихромную роспись, а тогдашние живописцы чаще изображали богов, чем смертных, для того, чтобы узнать о цветах одежды, которую носили римляне, нам придется прибегнуть к письменным источникам. Однако сочинения историков и художественная литература охотнее и подробнее рассказывают об исключительных или скандальных казусах, чем о повседневности, а в поэтических текстах реальность обрастает домыслами. И все же нам известно, что в мужской одежде преобладающими цветами были белый, красный и коричневый; желтый приличествует только женщинам, а все прочие считаются вычурными или варварскими (в частности, синий). Так, по крайней мере, было до конца республиканской эпохи; а при Империи цветовая гамма в гардеробе римских матрон становится все более и более вызывающей.
Свободнорожденные мужчины, то есть римские граждане, носили тогу, цвет которой должен был максимально приближаться к идеальной белизне47. Тога делалась из шерсти: она была просторная, тяжелая, неудобная и быстро пачкалась; вдобавок она имела форму круга, поэтому обертывать ее вокруг тела приходилось по особой, очень сложной схеме. Ткань для тоги не красили, ее обесцвечивали, а затем отбеливали с помощью солей виннокаменной кислоты или растений семейства мыльнянок. От постоянных стирок и отбеливаний шерсть начинает расползаться, и перед каждой официальной церемонией прорехи приходится обильно присыпать порошком мела. Но в тоге принято появляться на людях: а дома и за городом поверх туники (тоже белой либо цвета некрашеной шерсти) патриций надевает нечто вроде широкой шали или легкой накидки либо вторую тунику (pallium, lacerna). Эти виды одежды, предназначенные исключительно для частной жизни, могут быть любого цвета – в отличие от тоги, которая всегда должна быть белой. Только в III веке появятся желтые, красные, коричневые тоги, даже двухцветные и трехцветные тоги с узорами, и это уже не будет восприниматься как вызов общественному вкусу. А при ранней Империи многие римляне стараются носить тогу как можно реже, предпочитая надевать более легкие и более удобные одежды, как обычно поступают женщины. И в таких обстоятельствах белый становится просто одним из цветов.
О чем рассказывает лексика
Есть основания полагать, что люди Античности воспринимали больше оттенков белого, чем наши современники. Для них существовал не один белый цвет, а несколько. Белизна льна, из которого ткались облачения жрецов, отличалась от белизны шерсти, из которой была соткана римская тога. Белый цвет слоновой кости не то же самое, что белый цвет мела, или молока, или муки, а уж тем более снега. Большинство древних языков ощущало и старалось выразить все нюансы этих различий, наблюдаемых как в природе, так и в продукции ремесленников, в частности в ткачестве. И все же нередко возникает ощущение, что словарь скорее стремится передать свойства вещества или характер освещения, чем собственно окраску. Прежде всего надо сказать о яркости, насыщенности или густоте цвета, и только потом о тоне. Кроме того, одним и тем же словом порой обозначаются разные цвета: так, латинское слово canus, которое применяется для определения цвета шевелюры и бороды, иногда означает «седой», иногда «белый», а то и просто «пожилой», «мудрый» или «почтенный». Отсюда и серьезные проблемы при переводе или толковании текстов, особенно на библейском древнееврейском и древнегреческом классической эпохи48.
Латинская лексика цвета несколько ближе к нашим современным представлениям49. Однако она использует сложную систему префиксов и суффиксов, с помощью которых показывает, что такие критерии, как интенсивность света (светлый/темный, матовый/блестящий), яркость (насыщенный/блеклый), характер поверхности (ровная/бугристая, гладкая/шероховатая, чистая/грязная), важнее, чем сам по себе цвет. А еще в латинском языке два белых цвета: с одной стороны, распространенный в природе, нейтральный, объективный (albus); с другой – символический, благотворный, чистый, сияющий (candidus). Это главная особенность определения белого в латинском языке: если для определения красного (ruber) и зеленого (viridis) есть по одному базовому термину, а желтый и синий вообще не имеют названий, и для обозначения каждого из них требуется не одно, а несколько слов, то за белым, как и за черным, закреплено два обиходных названия, семантическое поле которых достаточно обширно, чтобы вместить в себя целую гамму буквальных и символических смыслов.
Albus, слово индоевропейского происхождения, является основным, обобщающим термином и уже поэтому употребляется чаще, чем candidus. Оно обозначает белый цвет, встречающийся в природе, и нередко используется в топонимии (Alba: Альба, Alpi: Альпы), в ботанике, зоологии, минералогии; а также в повседневной жизни – всякий раз когда надо обозначить нейтральный либо матовый белый; или даже цвет, который мы бы назвали беловатым или серовато-белым (например, цвет кости, рога, ослиной шерсти). Иносказательных значений у albus немного; но бывает, что иногда понятие «белизна» подменяется понятием «бледность». Словом candidus, напротив, обозначается прекрасный, сияющий, ослепительно белый цвет; еще оно применяется, когда речь идет о высоком: о культе богов, об обществе, а также о символике. У candidus множество иносказательных значений: чистый, незапятнанный, прекрасный, счастливый, благотворный, честный, искренний, невинный и так далее50.
В классической латыни есть также два базовых термина для черного: ater и niger. Первый из них, предположительно этрусского происхождения, долго оставался наиболее употребительным. Вначале он был нейтральным, но постепенно им все чаще стали обозначать матовый или тусклый оттенок черного, а затем слово приобрело негативную коннотацию: теперь ater был не просто черным, а неприятным черным: унылым, гнетущим, зловещим (происходящее от него французское прилагательное atroce утратило свою хроматическую составляющую и сохранило только эмоциональную: в наши дни оно значит «ужасный»). Второе слово, niger, этимология которого неясна, вначале имело только один смысл – яркий черный; позднее им начали обозначать все оттенки черного, обладающие позитивной коннотацией, в частности привлекательные оттенки черного, встречающиеся в природе; затем оно окончательно вытеснило ater как базовый термин и стало обозначать почти все черные тона51.
Такая же двойственность отмечается и в лексике древнегерманских языков. Это показывает, что у варварских народов белый и черный цвета имели особо важное значение и, как и у римлян, по-видимому, превалировали над всеми остальными, за исключением красного. Однако за минувшие столетия словарь обеднел: из двух слов осталось только одно. В современном немецком, английском, голландском, да и в большинстве германских языков имеется только по одному общеупотребительному термину для обозначения белого и черного, например weiss и schwarz в немецком, white и black в английском. Но в общегерманском, а позднее во франкском, саксонском, староанглийском и средневерхненемецком дело обстояло иначе. Вплоть до XII–XIII веков, а кое-где и дольше, в германских языках, как и в латинском, сохранялись по два общеупотребительных термина для обозначения белого и черного. Если мы снова обратимся за примером к немецкому и английскому, то увидим, что в древневерхненемецком различались wiz (матово-белый) и blank (ослепительно белый), swarz (тусклый черный) и blaek (сияющий черный). Среднеанглийский также противопоставляет wit (матово-белый) и blank (ослепительно белый), swart (тусклый черный) и blaek (сияющий черный)52. С течением времени, однако, в лексике этих языков осталось только по одному термину для белого и для черного – соответственно weiss и schwarz в немецком и white и black в английском. Это происходило очень медленно, в разных странах разными темпами. Так, если Лютер для определения белого уже обходится единственным термином (weiss), то Шекспиру несколько десятилетий спустя для этого все еще нужны два: wit и blank. В XVIII веке прилагательное blank, хоть и устаревшее, еще бытовало в некоторых северных и западных графствах Англии. Даже в наши дни его можно услышать в пословицах и архаичных фразеологизмах53.
Из лексики древних германских языков мы узнаём не только о существовании двух терминов для белого и для черного цветов. Нас ждет еще одно открытие: оказывается, два из этих четырех слов имеют общую этимологию. Это blank и blaek, которые восходят к общегерманскому глаголу blik-an (блестеть, светиться). Как мы видим, эти два слова выражают степень яркости, присущей определяемому цвету, вне всякой связи с его хроматической идентичностью. Таким образом, древние германские языки подтверждают закономерность, которую мы уже отмечали в древнееврейском, древнегреческом и даже латинском: для определения цвета такие свойства, как яркость и насыщенность окраски, важнее, чем собственно хроматический тон. Говоря о цвете, лексика прежде всего стремится сказать, матовый он или блестящий, светлый или темный, насыщенный или размытый, и только затем уточняет, вписывается ли он в гамму белых, черных, красных, желтых или каких-либо иных тонов. Здесь мы имеем дело с исключительно важным феноменом языка и одновременно феноменом восприятия, о котором историк должен постоянно напоминать себе не только когда он анализирует тексты, но также при изучении фигуративных документов и произведений искусства, которые оставила нам Античность. В мире цвета главное – яркость и насыщенность, все остальное – на втором плане54.
Вернемся к латинскому языку. В поэтических текстах для обозначения белого цвета употребляются не только albus и candidus, но и другие слова. Это могут быть термины, образованные от слов, которые означают реальные явления или предметы, но в конкретном контексте обретают ласкательную форму либо метафорический смысл. Например, от слова nix (снег) было образовано niveus, часто, даже слишком часто используемое поэтами и обозначающее ослепительно яркий белый цвет, все равно какого оттенка. Niveus – синоним candidus, только как бы в превосходной степени, белее белого, ослепительной белизны. А lacteus, буквально «молочно-белый», столь же часто встречающийся в поэзии, обозначает нежную, шелковистую белизну, например белизну плеч богини или грудей смертной. Цвет женского тела в поэзии нередко сравнивается также с цветом слоновой кости (eburneus), приятного на ощупь материала, или с белизной мрамора (marmoreus), такого крепкого, ровного, гладкого55. Кожа у знатной римлянки должна быть как можно белее, чтобы ее не могли принять за сельчанку. Некоторые из них, например Юлия, дочь Августа, или Поппея, вторая супруга Нерона, по нескольку раз в день принимают ванны из молока ослицы, от которого кожа будто бы становится «белее снега и нежнее гусиного пуха»56. Другие, гораздо более многочисленные, покрывают лицо, шею, грудь и плечи толстым слоем свинцовых белил, чтобы скрыть неровности или покраснения на коже. Они знают, что это сильнейший яд, но готовы расковать жизнью ради красоты57.
В отличие от поэтов авторы энциклопедий, технических и дидактических трактатов должны соблюдать абсолютную точность. Поэтому они редко прибегают к образным выражениям или сравнениям, зато широко пользуются префиксами и суффиксами, стараясь как можно вернее передать оттенок цвета, о котором идет речь. В качестве примера можно привести «Естественную историю» Плиния: для историка это важный источник лексикографического материала, тем более что именно цвет часто помогает автору различать, классифицировать, иерархизировать животных, растения, минералы и вообще все, о чем он рассказывает. Порой, когда Плиний не находит в общепринятой хроматической лексике нужного слова, чтобы точно описать тот или иной оттенок цвета, он придумывает это слово сам. Так, говоря о скале, которая не так бела, как мел, но белее песка, он употребляет слово subalbulus – неологизм собственного изобретения, основанный на двух уменьшительных суффиксах: «слегка беловатый»58.
Читая сочинения Плиния, энциклопедистов, агрономов, а также трактаты по разным областям науки (медицине, ботанике, зоологии, географии, космографии, лечению лошадей, архитектуре, живописи и так далее), историк констатирует, что у авторов всех этих текстов возникает множество поводов для упоминания белого цвета. Не то чтобы этот цвет доминировал в архитектуре и изобразительном искусстве Рима, отнюдь нет, но в повседневной жизни он все же занимает важное место. К обычным темам, при рассмотрении которых необходимо упомянуть белый цвет – снег, мел, молоко, мука, лилия, слоновая кость, следует добавить отдельные минералы и связанные с ними вещества (мрамор, гипс, тальк, свинцовые белила, известь, раковины моллюсков, виннокаменная кислота и различные соли), шерсть и оперение домашних и диких животных и птиц (овец, коз, быков, лошадей, собак, волков, лебедей, гусей, петухов и кур), деревья (тополя, березы), цветы, плоды и некоторые растения, ткани и одежду. А также все виды пищи, получаемой (напрямую или в результате переработки) из продуктов земледелия. И прежде всего хлеб: чем он белее (panis candidissimus), тем лучше качеством, тем выше его цена и тем малочисленнее слои общества, которые могут его себе позволить59. Так будет продолжаться в течение всего Средневековья и раннего Нового времени, вплоть до Великой французской революции.
Белый против черного
С давних пор историки и филологи, изучающие Античность, указывали на преимущественное положение, которое в общественной жизни, религиозных обрядах и в символике занимала по отношению к остальным цветам триада «белый – красный – черный». Жорж Дюмезиль первым показал, как в некоторых социумах индоевропейского происхождения эти три цвета помогали разграничивать три функции, связанные с человеческой деятельностью: белый для религии, красный – для войны, черный – для создания ценностей60. Вслед за ним и другие исследователи показали, как продолжавшееся очень долгое время доминирование этих трех цветов можно выявить в сказках и легендах, в топонимике и антропонимике, в литературных текстах и в произведениях искусства. Этот метод оправдывает себя не только на материале Древней Греции и Древнего Рима, но и на материале христианского Средневековья61.
Однако, как мы только что видели, лексика латинского и древних германских языков пользуется другой хроматической системой, не троичной, а двоичной, основанной на противоборстве белого и черного. Эти два цвета не только занимают в текстах более важное место, чем все остальные, часто они представлены как пара антагонистов. По правде говоря, такая двойственность проявляется не только в языке и в лексике, она дает о себе знать также в общественной и религиозной жизни очень многих народов и предположительно восходит к древнейшим эпохам в истории человечества. По-видимому, одного лишь факта чередования дня и ночи, сияния и мрака было достаточно, чтобы в головах у людей сложилась первая наглядная картина противостояния белого и черного62. Дело довершила культура: она превратила эти два цвета в архетипы света и тьмы. В самом деле, не бывает светло-черного или темно-белого, при том что у красного, зеленого, серого, синего и даже желтого цветов есть как светлые, так и темные оттенки.
Со времен Античности до нас дошло немало сюжетов, в которых белый выступает как антагонист черного. Приведем здесь два знаменитейших примера из древнегреческой мифологии. В первом идет речь о перьях ворона и о судьбе несчастной Корониды. Второй связан с мифом о Тесее, о его жизни после победы над Минотавром.
Прекрасная Коронида, чье имя похоже на название птицы (на древнегреческом korone значит «ворона»), была фессалийской царевной; ее полюбил Аполлон, и она от него забеременела. Ревнивый бог приказал белому ворону, которому всецело доверял, следить за возлюбленной. Но ворон не справился с заданием: обманув его бдительность, Коронида, не питавшая иллюзий насчет верности бога, решила стать супругой смертного, красавца Исхия. Однажды, застав их вместе, ворон доложил об увиденном Аполлону. И поплатился за это: Аполлон выместил гнев на нерадивом доносчике, изменив цвет его оперения с белого на черный. Лучше бы ворон промолчал, ведь с тех пор по воле разъяренного бога у всех воронов черные перья. Что же до Корониды и Исхия, то их обоих бросили в костер, но перед тем, как тело Корониды сгорело, Аполлон успел выхватить из ее чрева ребенка, которого она ждала от него. Ребенок выжил, его назвали Асклепий (у римлян – Эскулап), и он стал любимым сыном Аполлона. Уже в юности Асклепий проявил способности врачевателя, а позже стал богом медицины63.
А теперь покинем мир богов и обратимся к Минотавру, самому знаменитому чудовищу древнегреческой мифологии, получеловеку-полубыку. Минотавр – плод противоестественного союза царицы Крита Пасифаи и могучего белого быка. Его историю рассказывают на разные лады многие авторы. Мы изложим здесь классическую версию, которую приводит Овидий в «Метаморфозах». Однажды Посейдон, задумав покарать за непочтение царя Крита Миноса, внушил его супруге Пасифае неодолимое влечение к быку. Не в силах противиться этой страсти, царица ложилась в деревянный манекен, имеющий форму коровы, и соединялась со своим возлюбленным. Спустя несколько месяцев она произвела на свет ужасное существо с телом человека и головой быка, питавшееся человеческой плотью, – Минотавра. Чтобы скрыть позор, обрушившийся на семью, и избавить подданных от вида чудовища, Минос велел искусному зодчему Дедалу построить дворец, так хитроумно устроенный, что человек, войдя туда, уже не мог выйти, – Лабиринт. В центре этого дворца с причудливо расположенными залами и запутанными коридорами был заключен Минотавр; теперь никто не мог его увидеть.



