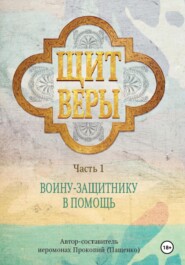
Полная версия:
Щит веры – воину-защитнику в помощь. Часть 1
Четверо солдат пошли на разведку к селу, а я с лейтенантом к церкви. Тихо, тихо кругом, луна неярко светила, и крест с куполом от этого сверкал серебристо-синеватым светом, и мне подумалось, что нет и не должно быть сейчас никакой войны, где люди режут друг друга. Но автомат висел на шее, сбоку на спине армейский кинжал, сзади автоматные диски, и со всех сторон окружала притаившаяся смерть. Лейтенант пошёл к церкви, прячась за деревьями, а я стал обходить погост, но не дошёл и вернулся назад. Смотрю, стоит лейтенант у дерева, смотрит на церковь и крестится. Голова поднята, крестится медленно и что-то полушепотом произносит. Удивился я этому страшно. Лейтенант образованный, бесстрашный, хороший солдат, и вдруг такая темнота, несознательность. Хрустнул я веткой, подошёл и сказал шепотом: «Товарищ лейтенант, а Вы, оказывается в богов верите». Испуганно повернулся он ко мне, но потом овладел собой и ответил: «Не в богов я верю, а в Бога», – и легла после этого случая между лейтенантом и мною какая-то настороженность и недоверие. Долго рассказывать, но вернулись мы, как я уже говорил, без потерь, но испытали много. Все считали, что нам везёт, а теперь я думаю, что это было Божие произволение. Вернулись, а мне одна мысль всё время покоя не даёт. Не может настоящий советский человек верить в Бога, тем более образованный, потому что должен был прочесть труды Емельяна Ярославского, Скворцова-Степанова, где с предельной ясностью доказано, что Бога нет, и если кто и верит, то придерживается буржуазных воззрений и тогда является врагом… Думаю, «шкура овечья на волчьем обличье» одета на лейтенанта. Притворяется. Храбрый, это верно, меня спас, поиски были удачные. Камуфляж, маскировка всё это, для какого-то большого дела задумана. Враг-то расчётливый, хитрый. Не могу успокоиться. Пошёл в «особый отдел». Встретил младшего лейтенанта, доложился по уставу и рассказал о своих сомнениях. Он оживился, обрадовался и сразу же повёл меня к своему начальству. Начальник «особого отдела» был у нас майор, латыш, сумрачный и всегда внешне усталый. Выслушал он младшего лейтенанта, тот доказывает, что лейтенант Каменев – затаившийся враг, которого надо обезвредить. Расспросил про лейтенанта, как в разведке себя вёл, с солдатами на отдыхе, с кем общается. Подумал немного, недовольно посмотрел на нас, позвонил куда-то, что-то спросил и сказал: «Товарищ младший лейтенант, Вы сегодня с группой разведчиков за линию фронта пойдёте, вот там и проверите лейтенанта Каменева, а сейчас можете идти, а ты, Скорино, останься». Младший лейтенант побледнел, изменился в лице, что-то хотел сказать, но майор махнул рукой, и тот вышел. Майор дождался, когда закрылась дверь, посмотрел на меня и сказал: «Слушай, Скорино! Я о делах разведки много знаю, о тебе с лейтенантом тоже, но скажи мне, что у тебя – голова или пустой котелок? – и постучал пальцем по моему лбу. – Дурак ты! Ну что, верующий, крестился на церковь, разве в этом дело? Ты его дела видел, с ним работал? Тебя спас, сведения для командования принёс, а им цены нет. Ты же про него говоришь – враг. Я в 41-м году от самой границы шёл: отступление видел, окружение, панику, страх, храбрость, истинное бесстрашие, любовь к Родине. Вот когда довелось узнать людей. Все бы так воевали, как лейтенант Каменев. Ты знаешь, он в начале войны обоз раненых из окружения вывел. Раненого генерала с поля боя вынес. Не знаешь, а о людях с кондачка судишь! Сегодня в разведку пойдёте, командование решило, вот и посмотри за нашим младшим лейтенантом и твоим Каменевым. Выкинь из головы свою глупость и людям не рассказывай! Шагай да научись лучше людей распознавать. Я в молодости тоже горячку порол и много дров наломал, а теперь часто об этом жалею. Иди!» Удивился я разговору. Пошли ночью в разведку, «языка» брать. Младший лейтенант из «особого отдела» оказался отчаянным трусом, за нас прятался и никак от земли оторваться не мог, вперёд не шёл, старался быть сзади, когда к немцам шли. Взяли «языка», потащили. Вырвался младший лейтенант вперёд, а тут обстрел начался, он от страха бросился в какую-то яму, побежал во весь рост, тут ему осколком полголовы снесло. Через неделю опять послали нас по тылам немцев. Первую линию обороны прошли благополучно, потом в лесу нарвались на охранение артиллерийской части. Еле ушли. Дошли до условленного места, разошлись надвое, договорились, где встретиться. Лейтенант меня с собой взял. Два дня ходили, больше ночью. Наткнулись на большое танковое соединение, обходили стороной, пытались силы определить, но в конце концов сами с трудом спаслись. Долго уходили, петляли всячески, но ушли. Разыскали в лесу овражек, там листья сухие скопились, забрались в них, лежим. Устали, решили по очереди спать, но ни тому, ни другому не спится. Эх, думаю, была не была, скажу лейтенанту, что был в «особом отделе» и о нём говорил и как сам к вере отношусь. Рассказал, молчит лейтенант, как будто заснул. Потом, вдруг спросил: «а ты знаешь, что такое вера?» Не дожидаясь моего ответа, стал говорить. Рассказывает, и стало передо мной открываться что-то новое. Вначале показалось увлекательной, доброй и ласковой сказкой – это о жизни Иисуса Христа говорил, а потом, когда перешёл к самому смыслу христианства, потрясло меня. Рассказывал о совершенстве человека, добре, зле, стремлении человека к совершению добра. Объяснил, что такое молитва. Сказал о неверии и антирелигиозной пропаганде. И увидел я религию, веру совершенно не такой, как представлял раньше, не увидел обмана, темноты, лживости. Часа три проговорили мы, пока рассвет не обозначился. Я только спросил его: «а вот про попов говорят, что жулики они и проходимцы, как это с верой совместить?» Ответил лейтенант: «Многое, что про священников говорят, – ложь это, но было много и из них плохих. Ко всякому хорошему делу всегда могут из корысти пристать нечестные и плохие люди». – «Вы не из поповских детей, товарищ лейтенант?» – «Нет, не из поповских, отец врач, мать учительница, оба верующие, и я только верой живу и держусь, а то, что ты в «особый отдел» пошёл и обо мне говорил, так это не без воли Божией. Сам услышал, что майор тебе про людей говорил. Там тоже люди есть, и неплохие». Крепко в душу запал мне этот разговор. Пришли на сборный пункт. Двое раньше нас пришли. Передали по рации донесение и повернули к своим. Два дня ещё ходили, пробирались к линии фронта, кругом немецкие части. Разбили немцы нашу группу. Лейтенант да я остались неранеными, остальные полегли. Даже сейчас трудно понять, как к своим попали. Привязался я к лейтенанту, но через месяц перевели его в другую часть на повышение. Началось наступление, ранило меня тяжело. Встреча с лейтенантом Каменевым большой след оставила в моей жизни, заставила задуматься о многом, вероятно, подготовила меня к принятию веры. Хороший он человек был. Отправили меня в тыл. Попал в госпиталь под Вятку – в Киров. Пролежал пять месяцев и два ещё в санатории. Рана моя гноилась, началось заражение крови. Лечение не помогало, дальше – больше, и увидел я по лицам врачей, что не выкарабкаться мне, а тут ещё в отдельную палату положили, значит, безнадёжен. Ждут, когда умру. Жить, конечно, хотелось, но устал я от болей, лечения и ожидания чего-то страшного, неизвестного и давящего. Не смерти боялся, а чего-то другого.
Была у нас в госпитале сестра Марина, худенькая небольшая девушка с карими глазами. Весёлая, добрая и удивительно внимательная ко всем раненым. Любили мы её за чуткость и безотказность помочь нам. Бывало, все выздоравливающие влюблялись в неё по очереди, но она со всеми была одинаково хороша и поклонников держала на расстоянии.
Перевели меня в «отходную» палату, сознание временами теряю надолго, а то впадаю в забытье. Придешь в себя и видишь, что Марина то тебе укол какой-то делает, то лицо от пота протирает, то белье меняет. Лежу я как-то с закрытыми глазами, входит главный врач с группой врачей, обход делает. Палатный докладывает историю и в конце говорит: «Безнадёжен, начался общий сепсис».
Главный врач осмотрел и тоже сказал: «Безнадёжен».
Я лежу в полудрёме, но всё слышу и понимаю. Не знаю, днём или ночью, вероятно, ночью, пришёл в сознание и чувствую, стоит около меня Марина, полушепотом что-то читает и протирает мне лоб водой. Вслушался в слова и понял: молится она о моём выздоровлении. Открыл глаза, а она мне говорит: «Ничего, ничего, Платон, всё пройдёт», – и дала мне выпить воды. Потом я узнал, что вода была святая. Марина продолжала молиться. И так длилось недели две. Принесёт в пузырьке святую воду или кусочек просфоры, и мне каждый день даёт их, и всё молится и молится, как только около меня окажется. Ко мне приходила даже в те дни, когда её дежурств не было. Выходила и вымолила она меня у Бога.
Когда поправляться начал, много мне о вере говорила, молитвам научила. Ушёл я из госпиталя по-настоящему верующим. Она да лейтенант Каменев жизнь мою перевернули полностью.
Любил я Марину, словно мать родную, хотя она моих лет была. Главный врач, направляя меня в санаторий, сказал: «Мы вас с того света вытащили, но без сестры Марины и наша помощь не помогла бы. Выходила она вас, в ноги ей поклонитесь».
Но я-то уже знал, Кто мне вместе с Мариной помог, и дал себе слово, если жить останусь, то, как война кончится, пойду в священники. Сказал об этом Марине.
Отгремела война, демобилизовался я из-под Берлина и приехал в свой Ленинград и, прямо сказать, с ходу в семинарию. Пришёл, документы взяли, посмотрели и вернули. Я туда, я сюда – почему-то не принимают. Наконец отдал, и вдруг вызывают в военкомат, да и в другие учреждения вызывали. Стыдят, смеются, уговаривают: «Слушай, Скорино! Ты с ума сошёл! Кавалер полного набора орденов «Славы», других куча, звание старший лейтенант, а ты в попы. Армию порочишь!»
Поступил всё-таки. Нелегко учение мне давалось, знаний мало, образование – только семилетка, да и ту давно кончил. Очень трудно было. Да иногда и нарочно кое-кто мешал. Кончил семинарию, захотел в монахи, но тут меня в семинарии на смех подняли: «Куда ты, такой здоровый и во многом ещё неопытный, и в монахи, женись, священником будешь». Откровенно говоря, правы мои наставники оказались – не годился я, конечно, для монашеской жизни, да и где мог к ней готовиться?
Жениться надо, а я учусь в семинарии. Никуда не ходил и ни одну девушку не знаю. Назначение дают мне под Иркутск, а я ещё не иерей. Надо невесту искать. Раньше, до войны, много знакомых в городе было, а за эти годы растерял, а учась в семинарии, женщинами не интересовался и о женитьбе не думал, хотя и знал, что для священника это необходимо. Где невесту искать? Пошёл в храм и стал молиться, помощи у Господа просить. Долго молился, вышел на улицу, смотрю – на одной ноге кто-то ковыляет, обгоняю, а это бывший капитан из нашего полка.
Забыл сказать, войну-то я закончил старшим лейтенантом, а начал солдатом. Я к капитану бросился. Обрадовались. Он меня к себе пригласил. Разговорились про дела минувших дней, про сегодняшние житейские. Капитан балагур, весельчак, человек добрый, гостеприимный. Рассказываю, что семинарию кончил, должен быть священником, но жениться надо. Вижу, из всего моего разговора понял капитан, что мне жениться надо, а остальное за шутку принял.
«Есть невеста! – кричит. – Нинка, моя двоюродная». Познакомился я с ней дня через два, понравилась, и, кажется, я ей. Решил жениться, сделал через несколько дней предложение, о себе рассказал. Вначале, что я в священники готовлюсь, тоже не поверила, потом задумалась и дала согласие, только сказала: «Платон! А я-то неверующая». Ну, думал, неверующая, а каким я раньше был!
Пошёл в семинарию, рассказал. Выслушали не очень внимательно и благословили. Женился недели через две, посвятили в диаконы, потом в священники. Уезжать надо. Нина мне говорит: «Ты, Платон, поезжай, а мне ещё полтора года нужно, чтобы пищевой институт кончить».
Почему-то это у меня из головы вылетело, знал же, что учится. Надо ехать. Договорились, кончит – приедет. Откровенно сказать, тяжело уезжать было, полюбил я Нину. Верил, что приедет.
Да и о Нине рассказать надо. Роста невысокого, мне чуть выше плеча, худенькая, стройная, глаза большие, серые. Сама красивая-красивая, подвижная, язык острый, за словом в карман не полезет.
Уехал я за Иркутск. Село большое, церковь закрыта за смертью священника. Запущена, частично разрушена. Кое-как навёл порядок, две старушки помогали. Начал служить, а народу только три человека. Страшно стало. Где же прихожане? Но решил служить ежедневно. Неделю, месяц, три служу, никто не идёт. Впал в отчаяние. Поехал к владыке в город, рассказываю, что служу, а храм пустой. Что делать? Владыка выслушал и благословил служить, сказав: «Господь милостив, всё в своё время будет».
Зашёл я, уйдя от владыки, в городскую церковь, дождался конца службы и подошёл к старому священнику, рассказал ему свои горести. Позвал он меня к себе домой, обласкал и сказал: «Господь призвал Вас на путь иерейства. Он не оставит Вас. Всё хорошо будет – прихожане придут, и жена приедет. Молитесь больше». Подружился я с отцом Петром, часто приезжал к нему. Многим он меня поддерживал. Духовной жизни был человек.
Прошло полгода, а прихожан только восемь человек, а я всё служу. Материально стало трудно, буквально жить не на что. В свободное время стал подрабатывать, то крышу покрою, то сруб поправлю, то где-нибудь слесарной работой займусь. Во время работы с хозяевами поговоришь, им, конечно, интересно с попом разговор затеять. О вере, бывало, начинали спрашивать, я, конечно, рассказывал, стали прислушиваться, в церковь заходить. Сперва просто посмотреть, а потом и молиться.
Работу, конечно, делал честно, аккуратно, не хвалюсь, бывало, сделаешь – сам удивишься. Завод ленинградский меня к этому приучил. Заказчиков – хоть отбавляй.
К концу года в храм стало приходить уже человек восемьдесят-девяносто, в основном пожилые, а по второму году и молодёжь пошла.
Первое время в селе ко мне относились плохо, идешь по улице, мальчишки кричат: «Идёт поп – бритый лоб», – а часто просто бранными словами ругали.
Молодёжь задирала, смеялись. Придут в церковь, хохочут, мешают службе. Я вежливо их прошу, уйдут, ругаясь. Решили, что я безответный. За год жизни в селе избили меня очень сильно молодые ребята, шёл я вечером, вот и напали. Они бьют, я только прошу – не надо, а им смех бить попа.
Очень трудно было. Без Нины беспрерывно скучал, но наконец приехала. Рад был очень, а она сперва приуныла, не представляла своей жизни в деревне со священником. У Нины диплом инженера, устроилась мастером на большой молочный завод в нашем селе. Взяли охотно, хотя и придирались потом, что жена попа знающая, работящая, она во всём показывала пример.
Однажды шли мы с Ниной вечером, напали на нас четверо подвыпивших ребят, меня трое бить начали, а четвёртый пристал к Нине. Я прошу их оставить, Нина кричит: «Спасите», – а ребята бьют меня, а там жену на землю валят. Двое каких-то ребят в сторонке стоят.
Эх! Думаю, о. Платон! Ты же разведчиком был, в специальной школе учился разным приёмам, да и силушкой тебя Бог не обидел. Развернулся вовсю. Простите за слова фронтовые, не священнику их говорить, но «дал я им прикурить». Кого через голову, кого в солнечное сплетение, а третьего ребром ладони по шее, а потом бросился к тому, который на Нину напал. Разъярился до предела, избил четвёртого парня и в кусты кинул. Нина стоит, понять ничего не может. Двое ребят, что в стороне стояли, бросились было своим помогать, но когда я одному наподдал, убежали. Собрал я побитых ребят, да здорово ещё им дал. Главное, всё неожиданно для них получилось, не ждали отпора, думали – тюфяк поп, безответный. Собрал и решил проучить. Стыдно теперь вспомнить, но заставил их метров пятьдесят ползти на карачках. Ползли, пытались сопротивляться, я им ещё выдал. Нинка моя хохочет: «Не знала, что ты, Платон, такой! Не знала!» Злой я тогда очень был.
После этого случая относиться ко мне стали лучше, а ребята, которых я побил, как-то подошли ко мне и сказали: «Мы, тов. Платон, не знали, что Вы спортсмен, а думали, что только некультурный поп». Одного парня я года через два венчал, а у другого дочь крестил.
Понимаю! Осудите Вы меня за эту драку, не иерею это делать, но выхода не было. Если бы один шёл, а то с женой. Потом ездил, владыке рассказывал, он очень смеялся и сказал: «В данном случае правильно поступил, а вообще силушку не применяй. Господь простит!»
Несколько лет в селе прожили. В 1955 году девятого мая отмечали десятилетие Победы над Германией. Председатель колхоза и председатель сельсовета были старые солдаты. Объявили – будет торжественное собрание в клубе. Приглашаются все бывшие фронтовики и обязательно с орденами.
Нина говорит мне: «Ты, Платон, обязательно пойди».
Оделся я в гражданское платье, надел свои ордена и медали, а их у меня много: три ордена Славы всех степеней, ещё когда солдатом был, получил, четыре Красной Звезды, орден Ленина, Боевого Красного Знамени, три медали «За отвагу», две «За храбрость» и медных полный набор.
Прихожу в клуб, здороваюсь с председателем колхоза, узнал меня с трудом, смотрит удивлённо и спрашивает: «Ордена-то у Вас откуда?»
Отвечаю: «Как откуда? На войне награждён». Куда меня сажать, растерялся. Орденоносцы в президиуме сидят, а у меня орденов больше, чем у других, но я поп. Потом с кем-то посоветовался и говорит: «Товарищ Платонов! Прошу в президиум», – и посадил меня во втором ряду. Надо сказать, меня многие называли товарищ Платонов, принимая имя «о. Платон» за фамилию.
Стали фронтовики выступать с воспоминаниями, я подумал, подумал и тоже выступил. Конечно, понимал, что всё это может кончиться для меня большими неприятностями у уполномоченного по делам церкви и у епархиального начальства, но хотелось мне народу показать, что верующие и священники не тёмные и глупые люди, а действительно верят в Бога, идут к Нему, преодолевая всё и не преследуя каких-то корыстных целей.
С председателем колхоза я даже сдружился. После этого случая он относился ко мне хорошо. Рассказывал, что ему и председателю сельсовета нагоняй был от районного начальства, что попа с докладом выпустили. Воспоминания в доклад переделали.
Двенадцать лет прожил я в этом селе. Господь по великой милости Своей не оставлял меня с Ниной. Последние годы храм всегда был полон народу, относились ко мне хорошо, и власти особенно не притесняли.
Нина моя, конечно, не сразу к церкви пришла, но теперь, по-моему, куда больше меня в вере преуспела. Верит истинно, службу прекрасно знает и во всех церковных вопросах моя опора и помощник.
Сейчас в город перевели, там и служу. Трудно мне среди городских, но привыкаю.
Вот, кажется, и всё главное о моей жизни и о том, какими путями шёл я к Богу.
Простите! Вспомнил сейчас, как в первый раз услышал о Боге от верующего человека. Поразила меня эта встреча, заставила задуматься. Прочертила, конечно, какой-то след в моей душе, временами приходила на память, но было мне тогда четырнадцать лет, и жил я тогда в детском доме.
Был у нас преподаватель обществоведения Натан Аронович, фамилию забыл. Любили мы его. Вечера устраивал, диспуты, доклады, водил нас по музеям, руководил кружком антирелигиозной пропаганды, вечно был с нами.
Поступил в детдом парнишка лет четырнадцати, Вовка Балашов, видимо, из интеллигентной семьи. Молчаливый, замкнутый. Учился хорошо. Пробыл у нас полгода, и кто-то из ребят заметил, что Вовка крестится. Дошло до преподавателей. Не знаю, о чём они говорили, но были тогда в моде в школах литературные суды над Чацким, Онегиным, Татьяной Лариной, Базаровым и другими героями произведений, которые мы тогда проходили. Обычно суд происходил в зале. Был председатель, обвинитель, защитник и обвиняемый – судимый литературный герой. Преподаватель всегда сидел в стороне и почти в «ход суда» не вмешивался.
Натан Аронович решил устроить показательный суд над Иисусом Христом и христианством. Обвиняемым решили сделать Вовку Балашова, одели его в простыню, чтобы он походил на Христа. С нами Натан Аронович целую подготовку провёл по осуждению Христа и веры. Обвинитель – Юрка Шкурин, защитник – Зина Фомина, председатель Коля Островский, человек семь свидетелей и два класса публики – 7 «А» и 7 «Б».
Мы все страшно заинтересовались, готовились дней десять втайне, от Вовки, но тем временем стали звать его «Христосик». За день до суда Вовке сказали, что он будет обвиняемым и изображать Христа. Вовка стал отказываться, протестовал, но его не слушали. Потом мы узнали, что многие преподаватели возражали, но Натан Аронович настоял. Мы видели, что Балашов за какой-то один день осунулся и издёргался.
Собрался суд! Председатель Коля Островский открыл заседание. Балашов простыню не надел, стоит бледный, ни кровинки в лице. Девчонки его жалеют, нам, зрителям, тоже как-то не по себе. Председатель спрашивает Вовку: «Признаёте себя виновным?» Надо было ответить: «Не признаю», и тогда заседание превращалось в спор нескольких сторон. В какой-то степени это было интересно. Спорили, обсуждали, доказывали, читали отрывки из произведений, цитаты – в результате чего облик «судимого» литературного героя обрисовывался более полно, лучше усваивалось произведение. Вся суть суда заключалась в споре, а Вовка Балашов взял да и ответил: «Я верующий! Суда не признаю, у каждого есть своя свободная совесть», – и сел.
Начали допрос. Вовка молчит.
Суд растерялся, заведённый порядок нарушился. Натан Аронович сделал знак председателю, чтобы речь начал прокурор. Юрка Шкурин встал и закатил речь: «Пережитки капитализма, кулаки, попы, мощи», – и закончил опять пережитками капитализма… Хорошо говорил, мы аплодировали. Защитник Зина Фомина тоже долго говорила. Отметила пережитки прошлого, низкую культуру обвиняемого, влияние среды и прочее, и прочее. Вообще её речь получилась бо́льшим обвинением, чем Юрки Шкурина. Мы опять аплодируем. Потом стали вызывать свидетелей. Каждый из них приводил цитаты из антирелигиозных книжек, журналов, и даже кто-то показал карикатуру на Христа из журнала «Крокодил». Всем было весело и интересно. Председатель вдруг обнаружил, что речи прокурора и защитника должны были быть произнесены после вызова свидетелей, но, увидя, что ничего уже сделать нельзя и довольный ходом суда, предложил последнее слово обвиняемому Балашову.
Натан Аронович сидел довольный и по своей всегдашней привычке, когда был в хорошем настроении, потирал руки.
Думали мы все, что Вовка после всего сказанного откажется от последнего слова, а он встал и заговорил. Словно тяжесть с себя сбросил какую-то, выпрямился и стал даже выше ростом. Заговорил, и мы, что называется, рты раскрыли. Говорит о добре и зле, о чём Иисус Христос учил, почему он верит в Бога, что мы все бедные, жалкие, потому что не верим, что душа и ум наш от этого пусты. Он никогда не бывает один, с ним всегда Бог, «на Которого у него надежда и в Котором сила».
Говорит, голос дрожит, вот-вот расплачется.
Натан Аронович делает председателю знак, чтобы он заставил Вовку Балашова замолчать, а тот не хочет прерывать Балашова. Вовка закончил словами: «Да, я верующий, и это моё дело. Судить меня никто не имеет права. У каждого человека есть совесть, она свободна, и другие люди не должны навязывать свои взгляды. Я верю в Бога и рад этому», – и остался стоять.
Говорил хорошо, захватил всех сидящих в зале. Мы ему устроили овацию. Никто из нас не думал, что молчаливый и застенчивый Вовка Балашов так мог говорить, откуда слова брал.
Прокурор, защитник, суд растерялись. Ребята народ честный, поняли Вовку, поняли, что мы не имеем права судить человека за его убеждения, да, кроме того, очень искренней и непосредственной была его речь, не вымученной.
Натан Аронович вскочил и крикнул председателю: «Зачитывайте приговор!» – а Коля Островский смущённо ответил: «Он же не виновен». И в воздухе повис вопрос: «Кто не виновен? Христос или Балашов?» – и как-то получилось так, что никто не виноват.
Натан Аронович передёрнулся, лицо пошло пятнами, голос сорвался, и он почти прошипел: «Довольно комедию разводить, нет никакого Христа, христианство – неудачное извращение иудейской религии. Это выдумки. Бога нет. Балашов нёс вредный бред. Читайте приговор!»
Председатель Коля Островский посоветовался с «заседателями» и объявил: «Суд решения, ввиду непонятных обстоятельств, не принял».
Расходились мы с заседания суда с тяжёлым сердцем, невесёлые. Потом были долгие споры, но что-то засело внутри у каждого из нас.
Недели через две Балашова перевели, по настоянию Натана Ароновича, в детский дом трудновоспитуемых ребят, а любимый преподаватель Натан Аронович потерял нашу любовь, и мы не тянулись больше к нему.
Оглядываясь назад, вижу, что Господь многими путями вёл меня к Себе. Лейтенант Каменев, сестра Марина, Вовка Балашов, учёба в семинарии, женитьба на Нине, трудная вначале жизнь в селе священником, служба в разведке и многое, многое другое, что я не рассказал Вам, были теми ступенями, по которым вёл меня Господь».

